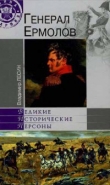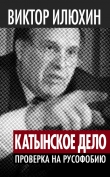Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Е. С. Холмогорова, М. К. Холмогоров
Вице-император (Лорис-Меликов)


Лорис-Меликов (1825-1888)
Биографическая справка

Из энциклопедического словаря. Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. 35. СПб., 1890
Из Русского биографического словаря, издаваемого Императорским Русским Историческим Обществом. СПб., 1914
 орис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888) – граф, один из замечательнейших государственных и военных деятелей России, родился в Тифлисе в семье состоятельного армянина, ведшего обширную торговлю с Лейпцигом; учился сначала в Лазаревском институте восточных языков, потом в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. В Петербурге он близко сошелся с Некрасовым, тогда еще безвестным юношей, и несколько месяцев жил с ним на одной квартире. В 1843 г. Лорис-Меликов выпущен был корнетом в лейб-гвардейский гусарский полк, а в 1847 г. переведен на Кавказ, где участвовал в нескольких экспедициях. Когда во время восточной войны 1853 – 1856 гг. Н. Н. Муравьев обложил Каре, ему нужна была партизанская команда, которая пресекла бы всякие внешние сношения блокированной крепости. Лорис-Меликов организовал многочисленный отряд, состоявший из армян, грузин, курдов и других (здесь, как и во многом другом, Лорис-Меликову помогало знание нескольких восточных языков), и блистательно исполнил возложенную на него задачу. В 1861 г. Лорис-Меликов был назначен военным начальником Южного Дагестана и Дербентским градоначальником, а в 1863 г. – начальником Терской области. Здесь он пробыл почти 10 лет, проявив блестящие административные способности: в несколько лет он так хорошо подготовил население к восприятию гражданственности, что уже в 1869 г. оказалось возможным установить управление областью на основании общего губернского учреждения и даже ввести в действие судебные уставы императора Александра II. Особую заботливость проявлял Лорис-Меликов о народном образовании: число учебных заведений из нескольких десятков возросло при нем до 300 с лишком; на его личные средства учреждено во Владикавказе ремесленное училище, носящее его имя. При открытии русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Лорис-Меликов, состоявший уже в чине генерала от кавалерии и в звании генерал-адъютанта, назначен был командующим Отдельным корпусом на кавказско-турецкой границе. 12 апреля 1877 г. Лорис-Меликов вступил в турецкие владения, штурмом взял Ардаган, а после временного отступления, дождавшись подкрепления, и Каре, считавшийся до того неприступным.
орис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888) – граф, один из замечательнейших государственных и военных деятелей России, родился в Тифлисе в семье состоятельного армянина, ведшего обширную торговлю с Лейпцигом; учился сначала в Лазаревском институте восточных языков, потом в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. В Петербурге он близко сошелся с Некрасовым, тогда еще безвестным юношей, и несколько месяцев жил с ним на одной квартире. В 1843 г. Лорис-Меликов выпущен был корнетом в лейб-гвардейский гусарский полк, а в 1847 г. переведен на Кавказ, где участвовал в нескольких экспедициях. Когда во время восточной войны 1853 – 1856 гг. Н. Н. Муравьев обложил Каре, ему нужна была партизанская команда, которая пресекла бы всякие внешние сношения блокированной крепости. Лорис-Меликов организовал многочисленный отряд, состоявший из армян, грузин, курдов и других (здесь, как и во многом другом, Лорис-Меликову помогало знание нескольких восточных языков), и блистательно исполнил возложенную на него задачу. В 1861 г. Лорис-Меликов был назначен военным начальником Южного Дагестана и Дербентским градоначальником, а в 1863 г. – начальником Терской области. Здесь он пробыл почти 10 лет, проявив блестящие административные способности: в несколько лет он так хорошо подготовил население к восприятию гражданственности, что уже в 1869 г. оказалось возможным установить управление областью на основании общего губернского учреждения и даже ввести в действие судебные уставы императора Александра II. Особую заботливость проявлял Лорис-Меликов о народном образовании: число учебных заведений из нескольких десятков возросло при нем до 300 с лишком; на его личные средства учреждено во Владикавказе ремесленное училище, носящее его имя. При открытии русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Лорис-Меликов, состоявший уже в чине генерала от кавалерии и в звании генерал-адъютанта, назначен был командующим Отдельным корпусом на кавказско-турецкой границе. 12 апреля 1877 г. Лорис-Меликов вступил в турецкие владения, штурмом взял Ардаган, а после временного отступления, дождавшись подкрепления, и Каре, считавшийся до того неприступным.
Благодаря доверию к Лорис-Меликову местного населения и подрядчиков, он даже на неприятельской территории вел войну на кредитные деньги, чем доставил казне сбережение в несколько десятков миллионов. По заключении мира Лорис-Меликов был награжден титулом графа (1878 г.). В январе 1879 г., когда в Ветлянке появилась чума, Лорис-Меликов был назначен временным Астраханским, Саратовским и Самарским генерал-губернатором, облеченным неограниченными полномочиями.
Возвращение его в Петербург совпало с учреждением временных генерал-губернаторов в видах искоренения крамолы. В качестве временного генерал-губернатора шести губерний Лорис-Меликов был послан в Харьков. Из всех временных генерал-губернаторов Лорис-Меликов был единственным, старавшимся не колебать законного течения дел, умиротворять общество и укреплять связь его с правительством на началах взаимного содействия. Исключительный успех, увенчавший его деятельность в Харькове, привел его к призыву (1880 г.) на пост главного начальника Верховной распорядительной комиссии. 20 февраля неким Молодецким было совершено неудачное покушение на Лорис-Меликова.
После упразднения Верховной комиссии Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел и продолжал играть руководящую роль. Основная программа его деятельности заключалась в следующем: дать больше самостоятельности местным губернским учреждениям; привести к единообразию полицию и исключить в ней нарушение законности; обеспечить земству и другим сословным учреждениям возможность пользоваться предоставленными им правами; предоставить больше свободы печати в освещении работы правительства и многое другое. Программа, представленная на суд сенаторов, широко охватывала все главнейшие части внутреннего управления. Помимо прочего, Лорис-Меликов в особой записке, имевшей огромный успех в правительственных сферах, выдвинул несколько вопросов относительно народного хозяйства, которые легли в основу деятельности правительства не только при Лорис-Меликове, но и после него. Он настаивал на понижении выкупных платежей с крестьян; на содействии крестьянам со стороны правительства при покупке земель при помощи особых ссуд; на облегчении условий переселения крестьян и содействии правительства в выселении их с густо населенных территорий в более свободные губернии. Но из числа прогрессивных мероприятий, задуманных талантливым реформатором, в промежуток времени с ноября 1880 г. по май 1881 г. были осуществлены на самом деле весьма немногие: особые обстоятельства – активизация революционной агитации и террора – отвлекали внимание правительства от решения намеченных вопросов.
I марта 1881 г. император Александр II одобрил предложения Лорис-Меликова и повелел до напечатания оных в «Правительственном вестнике» подвергнуть их обсуждению в заседании Совета министров. Через несколько часов после император был убит революционером Желябовым.
Через пять дней после обнародования манифеста императора Александра III от 29 апреля 1881 г., которым все верные подданные призывались служить верой и правдой к искоренению крамолы, позорящей землю Русскую, граф Лорис-Меликов оставил пост министра внутренних дел по расстроенному здоровью. Преемником его стал граф Николай Павлович Игнатьев. После ухода с поста Лорис-Меликов уехал из Петербурга за границу и проживал большею частью в Ницце, где и скончался 12 декабря 1888 г. Тело его было привезено в Тифлис и там похоронено.
Мико-джан

 а каретой шли фуры с товаром. Везли ковры, иранский шелк и в двух последних повозках – фрукты: виноград в больших корзинах, груши, яблоки и лимоны. Иногда ветер, теплый, августовский, с прохладцей по утрам, доносил оттуда острые запахи кавказских плодов. Пока ехали по Военно-Грузинской дороге, запахи смешивались с ароматами садов, еще не убранных и свежих, а потом, когда кончились горы и за Кубанью открылась невиданная ширь сухих степей, эти запахи, долетая, вызывали острую тоску. Кони влекли тарантас вперед, на север, а запахи звали домой, в Тифлис, к маминой теплой ладони, к играм в тесном дворике с галереями, скрипучими лесенками и темными укромными уголками.
а каретой шли фуры с товаром. Везли ковры, иранский шелк и в двух последних повозках – фрукты: виноград в больших корзинах, груши, яблоки и лимоны. Иногда ветер, теплый, августовский, с прохладцей по утрам, доносил оттуда острые запахи кавказских плодов. Пока ехали по Военно-Грузинской дороге, запахи смешивались с ароматами садов, еще не убранных и свежих, а потом, когда кончились горы и за Кубанью открылась невиданная ширь сухих степей, эти запахи, долетая, вызывали острую тоску. Кони влекли тарантас вперед, на север, а запахи звали домой, в Тифлис, к маминой теплой ладони, к играм в тесном дворике с галереями, скрипучими лесенками и темными укромными уголками.
Степь надоела уже на другой день, и дорога казалась бесконечной. К тому же в Ставрополе конвой во главе с молодым, но очень уж свирепого вида, в надвинутой на глаза черной папахе, с огромными, медного цвета, усищами казачьим ротмистром Яковом Петровичем, сопровождавшим торговый караван на случай нападения горцев, оставил их. С казаками было весело и тревожно. Мико все ждал, когда на них нападут, рисовал себе, как он схватит пику у павшего казака и налетит на разбойника. Нет, лучше саблю, пика слишком тяжелая – он улучил момент, примерился. Увы, дорога прошла спокойно, их ни разу так и не обстреляли ни из-за скал, ни из густых колючих кустарников. Казаки на привалах рассказывали то забавные, то страшные истории о войне с горцами, Яков Петрович только посмеивался в рыжие свои усищи, будто не имел к этим историям никакого отношения, но орден Святой Анны на его белой черкеске утверждал, что в иные минуты он бывал и не таким спокойным и улыбчивым. Жалко было расставаться и с Яковом Петровичем, и с его казаками. Дорога без них поскучнела. Степь да степь. Трава и солнце. Мы все едем и едем, а по карте Российской империи миновали дай Бог один дюйм.
Фуры вечно отставали, дядя Ашот дергал кучера, останавливал движение, выбегал смотреть, что случилось на этот раз. Он слал проклятья на головы нерадивых слуг, на старых и упрямых одров и кляч: «Это не кони! Это дохлые ишаки из гроба!» Сначала было смешно, уморительно – где это видано, чтоб ишаков в гробах хоронили, но дядя Ашот своих шуток не менял.
Миша закрывал глаза, голова кружилась от усталости, и сначала синюю тьму пронизывали серебристые иглы, потом тьма расступалась, очерчивалась гостиная в доме, постоялец Василий Васильевич раскуривает трубку и заводит разговоры о том, что Миша уже большой, что пора кончать беззаботное детство и надо ехать в Москву учиться, как Ломоносов. Москва – город большой, больше Тифлиса и совсем на Тифлис не похожа. В Москве Кремль с красивыми старинными башнями, университет на Моховой, совсем рядом с Кремлем, учрежденный, кстати, хлопотами Ломоносова еще при императрице Елизавете Петровне.
Отец сначала возражал: если Мико уедет и станет ученым или поэтом, кто ж делом будет заниматься, на что Василий Васильевич резонно отвечал ему: науки и искусства – тоже дело, и для человечества порою поважнее торговли. А Миша – мальчик способный, схватывает на лету, и грех великий не развивать такой талант, держать его втуне. «Богатство – вещь эфемерная, вам ли, Лорисам, не знать этого. Ты сам, Тариел, рассказывал, что предки ваши целым городом и десятками селений вокруг владели, а что теперь? Войны, воры, пожары – и нет ничего! И даже дворянское достоинство надо доказывать – вам, потомкам царей. А знания, умения – это такой товар, его только с головой оторвать можно», – говаривал Василий Васильевич Клейменов, горный инженер и майор.
В конце концов он разбудил в отце фамильное тщеславие, тому уже виделась какая-то почетная мраморная доска с именем сына, выбитым золотыми буквами: «Михаил Лорис-Меликов». Сначала собрались было отрядить Мишу за границу, в Лейпциге у Лорис-Меликовых шла торговля, думали даже постоянную контору открыть, новее-таки Германия – чужая страна, чужой, никому в семье не известный язык, нет, надо в Петербург или в Москву. Лучше даже в Москву – еще давно, в начале века, Лазаревы открыли Институт восточных языков, и многие армянские семьи учат там своих детей[1]1
Лазаревский институт восточных языков (ЛИВЯ) – основан в 1815 г. и содержался на средства армянских предпринимателей и меценатов Лазаревых, принадлежавших к дворянскому роду.
[Закрыть]. А уж после Лазаревского института прямая дорога в Московский университет. На том и порешили.
А мама при таких разговорах только вздыхала, глотая слезы, и, всегда такая строгая, стала потихоньку баловать старшего сына. Иногда как-то неловко становилось, когда она тихо звала: «Мико-джан, подойди, милый» – и, как маленького, гладила по голове. В дальнюю дорогу мама тихонько от отца дала шелковый черный поясок и шепнула: «Там деньги, береги их и не трать по пустякам». Такого рода заветы имеют правило вылетать из другого уха. А Мико был весь в трепетном азарте предстоящего пути.
Россия. Тифлис на карте в кабинете Василия Васильевича располагался внизу, среди коричневых Кавказских гор. Размаха руки не хватало от этого кружка до другого на пространстве зеленом, где нет никаких гор, – Москвы. Муха ползет к ней несколько минут, но никогда не доползает до конца – терпения не хватает, и она уносится то на лампу, то к окну. Москва пахла пылью старых книг из шкафа Василия Васильевича, клеем и типографской краской. И звучала новым именем – Миша. Не Мико, как дома, и не Михо, как среди сверстников из грузинских дворов, а по-русски – Миша. У папы это получалось неловко, «ш» звучало мягко и грустно, как сквозь слезы. У мамы не получалось никак, и для нее он оставался Мико-джан.
Степи, степи, изредка казачьи станицы, застроенные мазанками под соломенными крышами. Они совсем не похожи на кавказские сакли. Вдоль стен тянутся широкие лавки, в иных домах печи расписаны узорами. Но в конце концов и это приелось. Миша, когда останавливались на ночлег, уже не озирался по сторонам, а, быстро поужинав, валился в сон, как в черную пропасть, без дна и сновидений. А утром снова в путь, в сухую степь под палящим солнцем над выжженным желтым пространством. И это Россия? Как скучно!
Только за Доном начались редкие леса, чудом выросшие посреди зноя. В дороге по югу России путника одолевает скука. Никакого разнообразия, не на чем глазу остановиться. Жесткие пижмы и седые, лохматые заросли иван-чая над ковылем – вот и вся растительность.
А горы, оставшиеся далеко позади, подгоняемые фруктовыми запахами от задних фур, ночами звали маминым голосом: «Мико-джан!»
Рогачевка – большое село на скрещении дорог. Отсюда можно уехать не только в Москву, но и в Царицын, на Волгу, а оттуда еще дальше – на Урал и в Сибирь. Громадность России сказывалась в Рогачевке не только дальностью дорог. Село это заметно отличалось от казачьих станиц и южных деревень Воронежской губернии. Мазанки здесь были только на окраинах, а у церкви и базарной площади стояли деревянные избы, крытые дранкой. Новые избы были желтые и остро пахли смолой, они дразнили новизной соседние старые дома – их бревна были серы, как бы в седине.
Станция располагалась в самой большой новой избе – Миша с немалым любопытством осматривал это жилище: пол выстлан из широких тесаных бревен, а печь совсем не такая, как в Тифлисе и в казачьих хатах. Она царствует над всем в доме, занимая добрую половину горницы. На стене большой портрет государя императора под стеклом, усеянным черненькими точками от мух. Царь смотрит строго, как отец на расшалившегося мальчишку, и даже бакенбарды его, кажется, трепещут гневом. Пожалуй, и взрослые не могут позволить себе делать что в голову взбредет. Мальчику подумалось, что в их таинственной жизни свободы, пожалуй, меньше, чем было у него дома, в Тифлисе. Все – подданные русского императора, все оглядываются на его пристальные глаза и, ежась под ними, должны исполнять его волю.
Мише вдруг расхотелось ехать дальше, в Москву, в империю, под суровый взгляд государя. Он нащупал под курточкой мамин черный поясок, уже в который раз удостоверяясь, что деньги его – целых двадцать рублей серебром! – на месте, не потерялись, не украдены, да и некому их красть, никто ведь не знает о его богатстве.
Постелили ему в маленькой комнатке отдельно от взрослых. Горела лампадка у закопченного образа, закопченного настолько, что едва-едва поблескивали печальные глаза Богородицы, а больше ничего не различалось, только угадывалось. Но глаза казались совсем мамиными, и Миша дорисовал ее лик мамиными чертами. Почему-то не спалось, впервые за всю эту долгую дорогу. Миша вертелся, вздыхал, закрывал глаза, но какая-то сила не удерживала веки в сомкнутом состоянии и разлепляла их. Он смотрел на лампадку, видел мамино лицо с добрыми и грустными очами Богородицы, опять вздыхал и силился уснуть.
Борьба эта, видимо, не совсем была безуспешной, его подхватывали какие-то кружащиеся ветры, втягивали во тьму, но оттуда его вдруг извлекал строгий взгляд императора с портрета, что в большой горнице за стеной, и Миша в легком страхе снова открывал глаза и видел лампадку, образ, оконный переплет и мглу за ним. И снова силился уснуть, и снова его кружили ветры, и он падал куда-то вниз, а на дне, куда он упал, оказалась детская, и подошла мама, тронула его голову мягкой ладонью и позвала: «Мико-джан!»
Он быстро вскочил, оглядываясь. Рубашка взмокла, сердце билось, но вокруг – тьма непроглядная, и только в красном углу тлеет лампадка. Во тьме, на ощупь, Миша оделся, вышел в сени. Тишина. В большой горнице похрапывают дядя Ашот, дядя Айваз, Леван, а из хозяйской половины и этих звуков не слыхать. Он осторожно отворил дверь на крыльцо – новая, даже не скрипнула.
Как дождем, осыпало звездами. Даже голова закружилась, пока не понял, что звезды никуда не движутся, что они сияют над миром из далекого далека и у каждой свое место в своем созвездии. Но так много и так ярко! Тьма уже не казалась столь непроглядной, лунный свет отражался в росе, добавляя блеска к звездному мерцанию. Глаза потихоньку узнавали предметы вокруг, различили дорогу впереди от станционного здания к церкви.
Миша бесшумно, еле дыша сошел с крыльца, сделал осторожный шаг вперед, еще один, смелее – следующий, и вот он идет все быстрее и отважней по дороге к центру села. Не сбиться бы. Но даже в темноте Миша различил ту улицу, по которой они въехали в Рогачевку. Мощная ива, разбитая молнией, указала, что путь его верный.
Еды он с собой, конечно, не взял, он купит хлеба, огурцов и мяса в ближайшей деревне, там, может, и лошадь наймет, а пока идти легко и беззаботно. Луна, звезды, ночная тишь, и хочется петь грузинские песни. Миша и пел, смешивая одну с другой, как позволяла память, только негромко, а то еще разбудишь людей в домах, поднимут тревогу, поймают. Миновав иву, Миша пустился бегом и за околицей почувствовал себя наконец на свободе: твердый тракт ведет к дому, в Тифлис, взрослые купцы и слуги крепко спят и спохватятся не скоро. Мама! Мама! Я к тебе!
И только когда село за спиною скрылось, перешел на размеренный шаг большого солидного человека, знающего цель своего нелегкого пути. Он пересчитал свои деньги в потайном пояске, двадцать целковых, должно хватить, дядя Ашот куда меньше потратил. Правда, он так азартно и шумно торговался, что все сбегались вокруг посмотреть на хитрого армянина. «Ты меня по миру пустить хочешь, да?!» – кричал дядя Ашот, и глаза его горели не отчаяньем, а лихим озорством, и мужики уступали, невесть как поддавшись, половинную цену. Нет, мне так не сторговаться, но мне одному и надо меньше, подумал мальчик и выкинул заботу из головы.
А тем временем стали просыпаться и щебетать веселые птицы, и как-то незаметно в светлеющей мгле растворились звезды, побелела луна, на глазах становясь прозрачной, как облако. А сами облака чем левее, тем ярче покрывались румянцем, поначалу розовым, потом пунцовым, но и краснота была недолгой, уступая место желтизне. И вдруг брызнуло солнце прямо в глаза, ослепив в первый миг и заполнив душу внезапным счастьем. Миша опять пустился бегом вприпрыжку, распираемый утренней радостной силой. Так и бежал до верстового столба, указавшего, что от Рогачевки он отдалился уже на целых четыре версты. Надо беречь силы, решил мальчик и снова перешел на шаг.
Облака в небе рассеялись совсем, теплый ветер чуть веял навстречу, а солнце что-то быстро разогнало утреннюю прохладу и стало припекать, припекать, втягивая в себя силы и замедляя Мишин шаг. Он стал как-то вязнуть, одолевая тепло, хотелось пить, а голову отяжелил туман. Все-таки ночь почти вся прошла без сна, в глаза будто песку насыпали, мальчика сморило окончательно. На обочине обозначилась уютная ямка, его повело туда. Прилег, укрылся курточкой от солнца и крепко-крепко уснул.
Тревога согнала сон с Ашота. Он аж подскочил с постели. В горнице темно и тихо. Посапывает молодой Леван, беззвучно спит, сжавшись калачиком под сбившимся одеялом, Айваз. Но неспроста тревога выбросила Ашота из сна. Он вышел в маленькую комнату к Мише, на цыпочках приблизился к мальчику… Да только мальчика-то никакого не было. Пуста была его кровать, как ни щупал Ашот, рука проваливалась в мягкий матрас. Может, на двор вышел?
Ашот вернулся в горницу, нашел лампу, зажег. На дворе чуть брезжило.
– Миша! – тихо позвал Ашот.
Никакого ответа.
– Мико!
Тишина.
Он обошел двор, заглянул в нужник, в сараи, обследовал все углы, освещая лампой, будто не мальчишку искал, а оброненный башмак, – никакого проку. Пропал Мико!
Ой, что будет! Тариел голову снесет! Проклятый мальчишка! Сбежал!
– Айваз! Леван! Проспали! Проворонили!
Ашот разбудил тумаками своих товарищей, все вместе – станционного смотрителя – шум, гвалт поднялись в избе.
Смотритель, человек в больших годах и малых чинах, много повидал на своем веку и был единственный, кто в этой сумятице хранил спокойствие и трезвую голову. Он сказал Ашоту:
– Вас со слугами семеро, а дорог четыре. Мальчишка ваш в Москву не побежит, разве что заблудится. И на Украину не побежит, и на Волгу. По дому соскучился, а значит – берите коня и тихим шагом назад, на ту же дорогу, по которой пришли. Дай Бог, верст на десять ушел, не больше. И на другие тракты можно кого из вас отрядить, да только едва ли он не к дому направил стопы свои. Кстати, о стопах. Ты тут избегался весь, а следы-то и затоптал. А сейчас они на песке видны еще, приглядись.
Слова мудрого человека поостудили Ашота.
– Леван, у тебя глаз молодой да зоркий, готовь коней, мы с тобой пойдем. И на следы смотри.
И правда, за разбитой ивой на песке обозначился след невзрослой ноги, и вел он в сторону Кавказа.
– Дядя Ашот, кажется, нашли.
– «Нашли» – это когда целым-невредимым назад приведем. Мало ли тут сорванцов бегает! О, горе мне! Позор на мою седую голову! Скажи, Леван, моя седая голова заслужила позора? Что я скажу Тариелу? Мальчишку, щенка не углядел! Как мне смотреть в его честные глаза!
– Да что вы, дядя Ашот! Вот же следы, их далеко видно, найдем мы нашего Мико, куда он… – Леван не договорил. Из-за околицы повалило огромное стадо, все смешалось в мычании, окриках пастуха, лае собак. Кони топтались на месте в тесной толпе напуганных коров.
Ашот напустился на пастуха:
– Дурной башка! Ты не видишь – честные люди едут! Куда коров гонишь!
– А ты не ори! Тоже мне барин сыскался! Куда надо, туда гоню! А коров не пугай – не твои!
– Слушай, хватит ругаться! У меня беда. Мальчик пропал. Ты мальчика не видал, черненький такой, длинноногий?
– Сбежал, что ль? От такого сбежишь – и ног не почуешь! И давай проваливай отсюдова, всех буренок мне перебесил.
– Злой ты человек, пастух. У людей беда, понимаешь, а ты зубы скалишь. Ну как не стыдно?
– Да не видал, не видал я никакого мальчишку! Может, зря ищешь, у тебя дорог много, а у него всего одна. – Мысль эта невесть с чего развеселила пастуха. Позвал подпаска: – Гришка! Тут мальчонку ищут, может, видал?
– Не-а, дядя Федот, не видал.
– Ну вот, и Гришка не видал. А он зоркий и прыткий. Не было тут никакого мальчика! У него своя дорога.
– Тьфу, дурной! Бог тебя покарает! – Дядя Ашот обиделся и помрачнел.
С добрых полчаса они выбирались из ревущей массы животных. Следы, конечно, потерялись, затоптались, и они скакали вперед уже наугад. И конечно же проскочили. Вот уже десятая верста прошла, двенадцатая – мальчишки нет как нет. Пуста дорога.
Проехали еще с полверсты, и Леван сказал те слова, которые вот уж час мучили Ашота и которые он боялся произнести сам:
– Бесполезно. Заблудился Мико. По другой дороге пошел.
Наверно, надо было скакать во весь опор, мчаться, чтобы пустить в погоню всех слуг, направив на все четыре стороны. Но солнце так припекало, а мысли были так печальны, что Ашот и Леван отдались на волю Провидения и лень своих коней и ехали шагом, посматривая по сторонам. Еще через версту поворотили назад.
Жара стояла невыносимая, кони еле плелись, но вот вдали зоркий глаз Левана приметил черный бугорок на обочине; ни слова не говоря, Леван пришпорил коня, а дядя Ашот никак не мог справиться с разомлевшим своим одром. Зато когда пробудил коня, того понесло вперед, мимо Левана, зачем-то сошедшего с дороги. Да ясно зачем! В уютной ямке на обочине тихо спал Мико. Он так жалко съежился, утомленный солнцем и шестью верстами пешего пути. Плетка, предназначенная для спины беглеца, безвольно поникла в руке.
– Мико-джан! Нашелся!