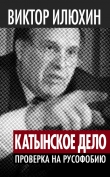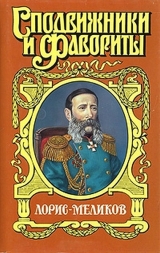
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
– Да-с, – не без горечи заключил Боткин, – скорее всего это не индийская чума, а левантийская. Она и в самом деле похожа на некоторые формы тифа, так что ошибка врачей объяснима. Но гасить эпидемию надо было год назад и прямо на месте.
Так то было в Турции, и, хотя умирали русские солдаты и офицеры, беда казалась где-то далеко за горами, похоже, и на чуму в Астраханской губернии никто бы всерьез внимания не обратил, если бы Бисмарк не воспользовался нашей бедой, чтобы окружить Россию торговой блокадой. Сейчас уже вся Европа оградилась от нашей страны карантинным кордоном, даже Румыния выстроила его не только по Пруту, но и по Нижнему Дунаю, прервав всякое сообщения с войсками, оставшимися на Балканах.
В последних числах января Лорис-Меликов отбыл к исполнению возложенных на него высочайшею волею императора обязанностей. Семья осталась в Петербурге. Чтобы не очень обременять Елену Николаевну Нелидову, неподалеку, на Кирочной улице, снята была квартира, но все равно едва ли не все дни и Нина Ивановна, и старшие дочери пропадали у Конюшенного моста – сюда стекались все известия из низовьев Волги.
Впрочем, вести навстречу новому генерал-губернатору, наделенному особыми полномочиями и снабженному четырьмя миллионами рублей, шли утешительные: в самой Ветлянке болезнь прекратилась, новые ее очаги редки. И даже паника стала понемногу утихать, особенно после того, как по распоряжению военного министра Милютина карантинное оцепление было усилено новыми войсками.
Резиденцией своей Лорис-Меликов назначил не Астрахань, а уездный Царицын, поскольку зараза пошла вверх по течению Волги. Здесь и обосновалась его громадная свита, состоящая из врачей, военных, чиновников Министерства внутренних дел и журналистов. Для надзора за тем, как справляется русское правительство с эпидемией, посольства иностранных государств отрядили своих врачей. Сюда же съехались и местные губернаторы, каждый со своей свитой. В первый же день по прибытии Лорис-Меликов открыл заседание особой комиссии для разработки чрезвычайных мер. Иностранных врачей Михаил Тариелович счел за разумное включить в ее состав. Сам он присутствовал на заседании недолго и отправился по местностям, зараженным чумою.
Грязь и бедность. Вот что бросалось в глаза во время невольного путешествия по низовьям Волги. Работа на рыбных промыслах была прекращена, опустели ватаги – как выяснилось, главные разносчики болезни. Перед чисткой ларей, в которых солилась рыба, рассол, или, как его здесь называют, тузлук, разливался по ведрам и щедро продавался крестьянам по бросовой цене. Что там было в этом забродившем вонючем тузлуке – одному Богу известно.
Но бедный человек небрезглив. Соляной налог так высок, что самое соль, хоть и совсем рядом она добывается, мужику покупать не по карману, вот он и хватает этот самый тузлук, выпаривает его на печи, и ни дурной запах, ни зараза его не остановят. С бедствиями, причиненными этим разорительным соляным налогом, Лорис-Меликов столкнулся впервые. В Терской области до него доходили стоны крестьян, так ведь о чем только не стонет народ русский? Казаки, во всяком случае, были там зажиточны и как-то обходились. Здесь же пропасть крестьянской нищеты разверзлась прямо под ногами. По приказанию генерал-губернатора составлена была подробная докладная записка о соляном налоге, которой Лорис-Меликов намеревался дать ход немедленно по прибытии в Петербург. Увы, она встретит такое ожесточенное сопротивление министра финансов адмирала Грейга, что не скоро осуществится доброе намерение Михаила Тариеловича. Грейг начнет махать руками, доказывать, что казна пуста, а после турецкой войны и ежегодных неурожаев – особенно, и, дескать, соляной сбор – единственный источник пополнения казны, последнее средство спасения отечества.
Тяжкое это дело – ездить в мирное время по станицам и оставлять за собою пожарища. Скрупулезно подсчитывался убыток, погорельцам выдавались из казенных сумм деньги на обустройство, одежду и хозяйственную утварь, но ведь ясно же, что добро, нажитое поколениями, никакими экстренными выплатами не восстановишь. К сожжению домов Лорис-Меликов старался прибегать как можно реже. Чиновник по особым поручениям Александр Аполлонович Скальковский, состоявший при нем и неотлучно сопровождавший генерал-губернатора во всех поездках по краю, поражался удивительной скупости генерала на казенные деньги. Свои же собственные тратил без счету, так что Александр Аполлонович взял на себя смелость управлять личными средствами своего начальника.
Одна все же отрада была в крутых санитарных мерах – зараженные области на глазах становились чище, приводились в порядок; обустраивались, во избежание заразы, новые дороги. Для связи с Петербургом и внутри губерний в срочном порядке возвели новые телеграфные станции.
30 января Астраханский, Самарский и Саратовский генерал-губернатор отправил из Петропавловского промысла управляющему Министерством внутренних дел Макову телеграмму следующего содержания:
«При проезде для обозрения карантинных учреждений я остановился здесь на некоторое время, чтобы воспользоваться услугами вчера только открытой телеграфной станции, значение которой определяется столько же интересами торговли и промышленности, сколько удобствами ее для многих распоряжений в южной нагорной части губернии. В станице Вет-лянке, а также в селениях: Старицком, Пришибинском, Никольском, Удачном и Михайловском больных нет. В селении Селитренном вчера снова оказалась эпидемически больная девочка, принадлежащая к семейству, где уже были больные. Эпидемия в селении продолжает локализироваться пределами известных, из моих предыдущих телеграмм, оцепленных домов. В дополнение к моей вчерашней телеграмме докладываю, что врач Погосский сообщает мне, что киргизы, умершие в кибитке, находящейся близ одного из хуторов села Селитренного, несомненно, являются жертвами существующей эпидемии. Кибитка дезинфектирована, перенесена на другое место и находится в полном разобщении; за этим наблюдает особо устроенный для сего военный пост. Все вещи, бывшие в кибитке, а равно одежда и белье умерших и сомнительных сожжены в присутствии врача, который снабдил потерпевших новыми платьями и кошмами для постели, а также необходимою посудой. Так как настоящее положение эпидемии сосредотачивает внимание по преимуществу на селении Селитренном и его хуторах, а также на кочующих в этой местности, находящихся в общей карантинной черте киргизах, то соответственно с этим сделано мною особое распоряжение. Там теперь находятся два врача и командируется третий. По донесению двух врачей и местной полиции, больные в слободе Николаевской Царевского уезда, о которых было вчера мною вашему превосходительству донесено, ничего не имеют общего с ветлянскою эпидемией). Мороз 8 градусов.
Генерал-адъютант Лорис-Меликов».
В Петербурге каждая телеграмма Астраханского генерал-губернатора ожидалась с волнением. Газетам никто толком не верил – корреспонденты увлекались не столько фактами, сколько собственной их интерпретацией. О том же, что делается нынче в столице и на что уповают от принятых им мер люди, чувствующие собственную ответственность за порядок в отечестве, Лорис-Меликову стал писать недавно с ним сдружившийся Петр Александрович Валуев[40]40
Валуев Петр Александрович (1815-1890) – граф, член Государственного совета, с 1861 по 1868 г. министр внутренних дел, с 1872 по 1879 г. министр государственных имуществ, с 1879 по 1881 г. председатель Комитета министров.
[Закрыть], старший сын, которого, гвардейский офицер, довольно беспутный и отважный малый, служил в минувшую войну под началом командующего корпусом и был при нем по особым поручениям. Когда летом 1878 года Лорис-Меликов в связи с поступлением Захария в Пажеский корпус приехал в Петербург, Петр Александрович нанес генералу визит с изъявлением сердечной благодарности. Валуев показался человеком ума тонкого и едкого, он был весьма опытен в делах государственных и светских, в нынешнее царствование разве что князь Горчаков дольше него пробыл на посту министра. Так что любезные письма Петра Александровича были Лорис-Меликову и интересны, и полезны.
«Многоуважаемый Граф, – писал Валуев 1 февраля 1879 года. – Дня три тому назад я писал к Вам в Астрахань, начав письмо с выражения мысли, что Вам может не неприятным быть получать по временам несколько строк от человека, который здесь кое-что видит, к видимому относится довольно беспристрастно и Вам искренно предан. Но мое первое – весьма краткое послание долго будет Вас ожидать в Астрахани. Поэтому прошу позволить мне написать другое в Царицын.
Со времени Вашего отъезда здесь почва не изменилась; но некоторые направления и настроения обозначаются в более и более определенных чертах. Одни как будто желают, чтобы чума была окончательно констатирована, – в видах удовольствия победы над нею. Другие продолжают шуметь о ней и в черных красках рисовать будущность, чтобы мутить и волновать по возможности. Другие, подчиняясь тому зуду общественной деятельности, который у нас сильно развит по случаю отсутствия деятельности политической, стараются всячески выдвинуть себя на первый план, вместо Правительственной, по их мнению, слабой и неумелой власти.
Еще другие, в особенности печать, пользуются случаем, чтобы, по нашему любимому обычаю, обвинить кого только можно и в чем только можно. И начальство не предусмотрело, и капиталисты виноваты, эксплуатируя бедный люд, и санитарные условия куда плохи, – как будто это последнее обстоятельство ново и как будто на нашей неизмеримой территории, при бедных средствах и жизни на широкую ногу в делах иностранной политики, оно могло быть иначе. Почему Славянские комитеты не позаботились об Астраханских ватагах?
Вы, конечно, не изволите торопливо произнести окончательного слова; но это слово потому именно и будет решительным, что Вы его произнести не поторопитесь. Ваше мнение и принятые Вами меры положат конец господствующей теперь умственной неурядице и снимут наложенный на нас Европейский полузапрет. Я терпеливо, и спокойно, и уверенно ожидаю.
Во вторник вечером у Конюшенного моста Вашею телеграммою было произведено все то впечатление, которого Вы могли пожелать.
Повторяю, с моей стороны, выраженное уже Вам по телеграфу пожелание: да будет Бог Вам в помощь».
Случаи заболеваний встречались все реже. Чума на глазах испускала дух. Но почти весь февраль Лорис-Меликов, следуя мудрому совету Валуева, не отваживался снимать карантинные кордоны и особые посты, хотя телеграммы его в Петербург были все оптимистичнее. И столица как-то поуспокоилась, тот же Валуев в следующем письме от 9 февраля сообщал:
«Нервозность, с какою в известной сфере Россия спасалась от чумы, поуменьшилась. В кругу разноплеменных властей о чуме почти не говорят и довольствуются чтением телеграмм из Царицына и Астрахани. В публике бестолкового говора тоже поменьше».
Через три дня о чуме забыли вообще. Еще бы не забыть! С тем же грифом «Конфиденциально» Валуев шлет письмо с вестью о новой беде, постигшей Россию. Ни Валуев, ни сам Лорис-Меликов не ведают, как скоро это происшествие переменит судьбу Лориса.
«Петербург. 12 февраля 1879 г.
Многоуважаемый Граф.
Продолжаю мои – на газетные, надеюсь, непохожие – корреспонденции.
Время течет и приносит недоброе.
Третьего дня получено известие, что Харьковский Губернатор, Князь Кропоткин, ранен, кажется, смертельно, выстрелом из револьвера, когда он в 11 час. вечера возвращался в карете с Институтского бала. Как и кем – неизвестно. Розыски идут пока безуспешно; но кроме известия, что они идут, ни одна из местных 4-х властей, Военной, Гражданской, Жандармской и Полицейской, не сообщила ни одного слова подробностей. Сам раненый, его кучер и т. д. должны же были сказать что-нибудь, кого видели, откуда и как выстрел и т. п. Но ни слова. Если до завтра что-нибудь узнаю, припишу.
Сегодня из Киева получено известие, что при двух произведенных обысках жандармские чины встречены залпами из револьверов. Один жандарм убит, другой ранен, третий и офицер контужены, но не ранены благодаря кольчугам. Арестовано 11 мужчин и 4 женщины;
Кроме того, в какой-то тюрьме, кажется Екатеринославской, сделано нападение на часового выскочившими из № арестантами. Его повалили, но караул прибежал на помощь и оружием восстановил порядок.
Из-за Балканов нет решительных известий; но Кн. Дондуков делал смотр Болгарским дружинам и их выхваляет. Опасаюсь похвал Князя Дондукова.
Между тем телеграф сообщил нам, что Вы оставляете Царицын и уезжаете в Астрахань. Следовательно, приближается время произнесения Ваших решительных слов и принятия более общих по краю мер.
Ставлю себе вопрос: как отнесется Правительство вообще, и Министерство Внутренних Дел в особенности, к окончательным результатам данного Вам ВЫСОЧАЙШЕЮ властью поручения? Ваше имя слишком громко, чтобы его сопоставить, просто-напросто, с Ветлянскою эпидемиею, почти угасшею до Вашего приезда. Будет ли выставлено на вид государственное, – а не медицинское значение Вашей поездки?… Увидим. Знаю, что Вы Ваше дело сделаете и Ваше слово выскажете. Но что же далее?… Неужели та внутренняя неурядица, которая оправдывала Ваш призыв в Ветлянку после Карса, пребудет несознанною и непризнанною?»
Чума, уходя, показала-таки язык напоследок. Да не где-нибудь, а в самом Санкт-Петербурге. Да не кому-нибудь, а самому Сергею Петровичу Боткину. 13 февраля в его клинику поступил дворник артиллерийского училища Прокофьев с признаками какой-то непонятной болезни. Сергей Петрович, еще живший ветлянской тревогой, поставил диагноз – чума, о чем было немедленно отправлено сообщение в «Правительственный вестник». Полиция тут же отправила под карантин всех близких Прокофьева, дом, где он жил, оцепили войска. Новость эта и мгновенно принятые меры вызвали переполох на успокоившейся было бирже. Забегали, заволновались иностранные дипломаты. На следующий же день был созван консилиум из самых авторитетных врачей Петербурга, который, внимательно осмотрев Прокофьева, установил, что никакая это не чума, а просто-напросто сифилис. Впрочем, до Лорис-Меликова это событие докатилось уже как газетный анекдот.
25 февраля международная комиссия признала, что левантийская чума, которая свирепствовала в Ветлянке, прошла и меры предосторожности за границей излишни.
Новость эта, вычитанная из газет на третий день, обрадовала Нину Ивановну. Муж не баловал ее письмами, и о всех его передвижениях по «вверенному ему краю» приходилось узнавать исключительно из прессы, день ото дня все скуднее дававшей новости с Нижней Волги. Значит, скоро Мико вернется, а как там дальше, куда, на какое время – посмотрим. Видимо, придется переселяться в Астрахань, Нина Ивановна твердо решила всюду сопровождать мужа и одного больше ни по каким чрезвычайным обстоятельствам не отпускать. Однако ж вместо телеграммы о возвращении в «Голосе» промелькнула заметка, будто бы граф Лорис-Меликов болен. О том, что это простуда, сказано не было. Да она б и не поверила – Мико ведь не на инфлюэнцу отправился с целой дивизией. К тому же он не из тех, кто блюдет завет жен и матерей «береги себя», и лезет в самые опасные места. А коварная чума может и после самых радужных реляций вцепиться в своего победителя. Тому уж сколько было подтверждений!
Нелидова развила бурную деятельность. Она отправилась прямо к министру Макову, добилась того, чтобы Лев Саввич сам по телеграфу разыскал в диких поволжских степях губернатора, справился о его здоровье, и успокоилась лишь тогда, когда с аппарата Бодо – чуда техники XIX столетия, новинки, только-только привезенной из Парижа, – выползла лента, возвещающая, что Михаил Тариелович всего-навсего подхватил легкий насморк, а паникеров-журналистов даже из лучших прогрессивных газет за такие шутки следует розгами драть, и нещадно.
Весь март прошел в хлопотах по ликвидации последствий карантина и возобновлении жизни в крае. Вновь заработали рыбные промыслы, соляные копи, а в городах – фабрики. Лишь 2 апреля Лорис-Меликов вернулся в Петербург.
Помимо доклада о принятых мерах Астраханский, Самарский и Саратовский губернатор привез и сдал в казну, отчитавшись до копеечки за триста шестьдесят тысяч, все оставшиеся от четырех миллионов деньги, доверенные ему на борьбу с эпидемией.
Такая щепетильность в высших чиновничьих кругах России всегда почему-то воспринималась с большой подозрительностью. Что-то этот Лорис затеял. Какой-то за этим стоит расчет, дальний какой-то прицел. Ну не может же быть, чтоб нормальный человек получил на стихийное бедствие аж четыре миллиона, за три месяца потратил всего каких-то триста шестьдесят тысяч, а оставшиеся без малого три с половиной миллиона взял и отдал назад в казну! Стали вспоминать, что и в войну этот хитрец ни одного золотого рубля из рук не выпустил – все на пустых кредитках проворачивался. Как-то это все не по-нашенски.
Однако ж события в день приезда Лорис-Меликова были таковы, что притушили на время сомнения реалистических людей.
Харьковский генерал-губернатор

В Петербурге было не до него и не до вмиг позабытой ветлянской чумы.
Утром 2 апреля император Александр II вышел на обычную свою прогулку. Неподалеку от Певческого моста странный человек, с горящими, как в жару, глазами и весь какой-то распахнутый, окликнул царя. Александр Николаевич обернулся и увидел прямо наставленный на него пистолет. О дальнейшем лучше всего рассказывал здесь же случившийся царский камердинер Илья:
– А злодей-то целится, целится, а его императорское величество всемилостивейше уклоняются.
Злодей успел сделать четыре выстрела. Пуля, прострелившая пальто, прошла мимо, еще одна попала в парапет и рикошетом – по ноге, не пробив сапога. Две последние не достигли и такой цели. Террориста тут же скрутили прохожие. Царю какой-то кавалергард уступил свой экипаж, и Александр Николаевич благополучно вернулся в Зимний.
Через час во дворец съехались все министры, великие князья, придворные. Царь вызвал к себе шефа жандармов Дрентельна, военного министра Милютина, министра внутренних дел Макова и министра государственных имуществ статс-секретаря Валуева. Здесь же был наследник цесаревич Александр Александрович.
Император казался спокоен, покушение больше огорчило его, чем напугало.
– Что я им сделал? Я освободил крестьян, дал им земства, суды присяжных, в армии сократил срок службы и уравнял все сословия. Что им еще надо?
– Виселицы, папа, виселицы! – Наследник был энергичен и крут. – Ты их этими свободами разбаловал. Надо немедленно принимать самые суровые меры. Ввести по всей стране военное положение. Всякую подозрительную сволочь – под военный суд. И никаких присяжных!
– Осмелюсь напомнить вашему величеству, – сказал Валуев, – что я еще в тысяча восемьсот шестьдесят первом году предлагал ввести должность генерал-губернаторов, наделенных в борьбе с крамолою самыми широкими полномочиями. Тогда вы не сочли возможным принять эту меру. Но сегодня ситуация обострилась настолько, что она мне кажется своевременной.
– Да-с, он прав. – Цесаревич все горячился, лицо его в гневе было красно, и яростно сверкали глаза. – Во всех губерниях. Повсеместно. И чтоб через месяц все до единого заговорщики болтались на перекладине.
– Виселицами делу не поможешь. Но меры принимать надо. – Царь задумался на минуту и голосом твердым высказал господам министрам свое решение: – Вводить по всей империи военное положение считаю бессмысленным. Но в обеих столицах и в крупнейших городах следует назначить временных генерал-губернаторов и наделить их всеми правами главнокомандующих в период военного положения. Я прошу вас, Петр Александрович, – обратился император к Валуеву, – сегодня же собрать совещание на сей счет и выработать соответствующий указ Сенату.
– Я думаю, – как всегда бесстрастно и спокойно проговорил Милютин, – что на это совещание следует пригласить главного военного прокурора Философова. Как бы нам сгоряча не преступить законы, нами же принятые.
– Законы? Черт с ними, с законами, если они мешают правому делу! – резко и пылко оборвал медлительного министра раскипятившийся цесаревич. – В прошлом году эти ваши законники наворотили. Это подумать только – террористку оправдали! И вот вам благодарность – Мезенцова ухлопали, Кропоткина бедного ухлопали, сейчас какой-то мерзавец в папу стрелял! Доигрались! Долиберальничались!
– И все же, ваше высочество, прокурорский надзор не помешает, – спокойно, не меняя интонаций, гнул свое Дмитрий Алексеевич.
Император поддержал его:
– Да, военный прокурор в такого рода делах необходим. Даже в столь смутное время законность должна быть соблюдена. Нельзя поддаваться панике.
Вечером Дмитрий Алексеевич Милютин вернулся домой с распухшей от усталости головой после трехчасового довольно бестолкового заседания растерянных от наглости заговорщиков министров. Все же к заключению пришли и дали поручение министру юстиции Набокову[41]41
Набоков Дмитрий Николаевич (1826-1904) – статс-секретарь, с 1867 по 1876 г. управляющий собственной его императорского величества Канцелярией по делам Царства Польского, с 1878 по 1885 г. министр юстиции. Дед писателя Владимира Набокова.
[Закрыть] и главному военному прокурору подготовить царский указ Правительствующему Сенату об учреждении временных военных генерал-губернаторов и в руководство им инструкцию. Дмитрий Алексеевич сомневался в эффективности столь спешных энергичных мер. Надо было искать причины разрастающейся крамолы, а не пытаться искоренять следствия. Причину же старый генерал видел в том, что царю, напуганному первым, еще каракозовским, покушением, недостало воли и упорства продолжить реформы. Дело, не доведенное до конца и прерванное задолго до ожидавшихся от него результатов, порождает смятение в умах и протест. Это было видно хотя бы по военной реформе, которую Милютин провел в 1873 году. Разразись война до нее или в процессе ее проведения, году в семьдесят четвертом, мы проиграли бы ее с большим позором, нежели Крымскую.
Размышления Дмитрия Алексеевича прервал камердинер, доложивший о приезде с визитом генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова.
Гостя своего Милютин нашел заметно похудевшим, невиданно для бледного Петербурга загорелым и бодрым. Михаил Тариелович не остыл от бешеной деятельности и стремительных объездов зараженного края. Он намеревался подать царю всеподданнейший доклад о прекращении эпидемии и после Пасхи вернуться в Астрахань для отдачи последних распоряжений – снятие карантина и роспуск войск.
– Боюсь, милейший Михаил Тариелович, вам будет не до Астрахани. Сейчас всем не до нее.
– Да уж, наслышан. Абаза говорит, его величество намерен ввести едва ли не повсеместно временных генерал-губернаторов.
– Не повсеместно, конечно, хотя наследник настаивал на этом, но в крупнейших городах, особенно зараженных социальными учениями. В Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе… Очень может быть, что и вас куда-нибудь пошлют.
– Не вижу в этом большого смысла. Разве что как временная мера, пока все не успокоится.
– В России нет ничего постояннее временных мер.
– Это-то и печально. Мы за все энергически схватываемся, потом вдруг пугаемся, вместо законов принимаем временные положения, а в итоге ни законов, ни порядка.
– Поверите ли, я только что размышлял об этом.
Усталость как рукой сняло. Милютин нашел в Лорис-Меликове умного, многое понимающего собеседника, что было в общем-то удивительно, хотя знакомы они были больше двадцати лет. Все-таки Лорис всю жизнь провел на Кавказе, вдали от общих государственных проблем, к тому же военный с младых ногтей. Хотя Милютин и сам принадлежал к воинскому братству, но превосходное университетское образование, профессорство в Академии Генерального штаба и, наконец, долгая жизнь на столь важном министерском посту волей-неволей расширяли панораму видения империи, он давно уже глядел на вещи не ведомственными, а вот именно государственными глазами. Лорис-Меликов отнюдь не смотрелся ни провинциалом, ни грубым армейским генералом. В суждениях был рассудочен и остроумен, явно начитан и наделен недюжинным здравым смыслом.
Грустно. Тут как на войне: любимого офицера посылаешь в самое жаркое место сражения, считай, на верную погибель. Дмитрий Алексеевич твердо решил для себя рекомендовать Лорис-Меликова на генерал-губернаторство в Харьков. В кресло, не остывшее от только что убитого князя Дмитрия Кропоткина.
Были еще два дня разного рода совещаний то в Зимнем дворце, то у Валуева, на которых стало видно, что император колеблется; однако наследник был упорен и настойчив, и Александр II принял-таки окончательное решение. Генерал-губернатором Петербурга назначили героя Плевны генерала Иосифа Владимировича Гурко. В Одессу направили Эдуарда Ивановича Тотлебена. Лорис-Меликов стал временным Харьковским генерал-губернатором и по совместительству командующим Харьковским военным округом. В последней должности он сменил генерала Минквица.
Как всякая мера, принимаемая в паническом ажиотаже, введение института временных генерал-губернаторов очень скоро показало свою несостоятельность. Царь фактически раздал свою центральную власть провинциям, и ему лишь оставалось уповать на разумность губернских правителей. Но доблестный воин, прославленный в боях с врагом внешним, редко бывает готов к повседневной гражданской службе. Здесь нужны совсем иные дарования.
Увы, ни генерал от кавалерии Гурко, ни генерал-инженер, герой еще Крымской войны Тотлебен этими качествами не обладали. Решительный на поле сражения Гурко, будучи наделен полицмейстерскими функциями, растерялся и за целый год так и не сумел толком понять, что от него требуется. Тотлебен – педант в полном смысле этого слова, аккуратный и исполнительный, понял эти функции слишком буквально, и в Новороссийском крае стали хватать в кутузку и правого и виноватого, ссылать в Сибирь по малейшему подозрению. Помощник его генерал Панютин учинил полный полицейский произвол на всей обширной территории генерал-губернаторства.
Иначе складывались дела у Лорис-Меликова. Он единственный из троих обладал громадным опытом гражданского управления, нажитым в областях непростых, вечно готовых взорваться бунтами и поножовщиной. Правда, с крамолой бороться ему не доводилось, и отсутствие практики заменял здравый смысл, который подсказывал, что одними репрессиями революционного духа не победить, более того, каждый арест без серьезных на то оснований множит армию профессиональных революционеров.
Никого нельзя загонять в безвыходное положение, считал Лорис-Меликов. Он часто вспоминал фразу из Достоевского: «Надо, чтобы человеку было куда пойти». Не в социалистической идее беда, а в том, что мы сами швыряем в ее пасть десятки и сотни молодых людей, отрезая им путь к благонамеренной гражданской жизни. Что бы со мною самим сталось, если б не удалось тогда, после исключения из института восточных языков, попасть в Школу юнкеров? Попадись мне тогда яростный демагог с двумя неслыханными революционными фразами, уж, ясно как день, никому бы больше не поверил и так бы и пошел с разинутым от изумления и романтики ртом по ссылкам и тюрьмам. А в московском воздухе конца 30-х запросто можно было подхватить подобную заразу.
Часто приходил на ум народоволец Залепухин, с которым генерал познакомился прошлым летом в Эмсе. Эмигрант, бежавший из глухой вятской ссылки и умиравший здесь от чахотки. Знакомство их состоялось нечаянно, когда Михаил Тариелович после отъезда Кошелева сходил с ума от курортной скуки и тоски по русской речи. Неряшливый, вызывающе бедно одетый молодой человек с глазами, горевшими неистовой честностью, спросил у него дорогу.
Разговорились. Как водится, искали общих знакомых, хотя откуда они могли быть при такой разнице в положениях? Но что удивительно, нашелся-таки один. Залепухин почитал вольноопределяющегося Трушина вроде как своим воспитанником в деле революционной пропаганды.
Все-таки обаяние у этих немытых умников было. Обаяние не ума, но страсти, вспыхнувшей пожаром от всего-то навсего десятка слов. Из них и мысли-то дельной не составишь, но вот же – и на смерть идти готовы, и грех смертный для них не грех, если ради всеобщего счастья и равенства.
– Да позвольте, Илларион Акимыч, какое между нами равенство, если я генерал, а вы разночинец?
– Люди по рождению должны быть равны!
– Мы и по рождению не равны. Я ведь не всю жизнь генерал, когда-то и корнетом был, где-то в ваших нынешних чинах. Только я военное дело твердо знаю, а потому и достиг высоких чинов. А вам и взвода не доверишь. А в медицине – тут меня хоть розгами каждый день стегай, ничего не понимал и не пойму.
– Это ничего не значит. При социализме все будут равными, мы отменим чины и звания, каждый будет трудиться по своему призванию.
И, мимо аргументов, опять к своему коньку – счастью всего человечества в свободе, равенстве и братстве. Мы уничтожим все классы и сословия.
– Тогда ж какая свобода, если вы уничтожать намерены? Вот мы с вами спорим, а вы, уважаемый Илларион Акимыч, сердитесь. И для вас всякий нереволюционер – враг.
– Совершенно верно, классовый враг.
– Так дай вам власть, вы свободу одним себе заберете. И врагов – к ногтю, в ту же Сибирь. И никаких им ни газет, ни журналов. Вы вот от царской цензуры стонете, а дай вам власть, сами такую учините – Бенкендорф от зависти в гробу завертится.
– С окончательной победой революции мы отменим и цензуру, и каторгу, и ссылку.
Залепухин, как и все догматики, слышал только себя одного, так что убеждать его в чем-либо было совершенно безнадежное дело. А ведь добрый, сердечный малый. Он был весьма сведущ в химии и, наверное, достиг бы чего-нибудь в этой области, но лет семь назад за участие в какой-то демонстрации протеста (Залепухин и не помнил, против чего они тогда протестовали, завлекло общей эмоциональной волною) его вышибли с третьего курса Казанского университета с волчьим билетом, так что путь назад, в науку был ему заказан. Тем более был заказан ему путь домой, в уездный Ардатов, где все гордились талантливым мальчиком, весь город возлагал надежды на сына священника из бедного прихода… Россия потеряла ученого или инженера; зато получила профессионального революционера.
Кто от этого выиграл?
С крамолой можно бороться, лишая ее идеи привлекательности. Репрессии же необходимы в крайних случаях, когда фанатизм уже превратил вполне нормального человека в преступника, не останавливающегося ни перед чем.
Разговоры с революционером Залепухиным в первые минуты забавляли, но к их концу генерал постоянно чувствовал усталость, досаду и раздражение, хотя виду никогда не показывал. От этой докуки было одно надежное средство – чтение. Как-то раз, вернувшись с источника после такой изнурительной беседы, Михаил Тариелович достал из кипы вечных своих спутников в заграничных путешествиях старое тифлисское издание «Горя от ума».
Как всякий человек, не чуждый хоть и умеренных, но прогрессивных взглядов, Лорис-Меликов, не очень глубоко вдумываясь, а повинуясь лишь общепринятому мнению, полагал, что комедия Грибоедова высмеивает старую помещичье-чиновничью Москву, олицетворенную Фамусовым. Еще общественное мнение донесло пушкинское изречение: «О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу». Предыдущие чтения этого шедевра, оставляя по себе исключительно музыкальное, как шопеновская баллада, наслаждение, не колебали общих истин, Бог весть когда им усвоенных. Нынче же он стал чувствовать от Чацкого такое же раздражение и досаду, как от разговоров с Залепухиным. Зато реплики Фамусова чрезвычайно веселили, иные он подчеркивал карандашом. Кончил читать, проглядел книгу еще раз…