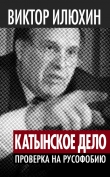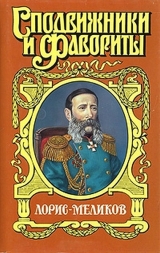
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
В один прекрасный день к Хаджи-Мурату явилась целая депутация с приглашением прийти в мечеть для свершения намаза. Князья, прознав о том, объявили, что не пустят врага своего в мечеть, и Лорис-Меликову пришлось усмирять обе стороны – и разгневанных князей, и взволновавшийся, готовый к бунту народ. Чудом удалось избежать кровопролития, но чудо это дорого обошлось самому Лорис-Меликову.
Конфликт вспыхнул внезапно, действовать надо было без промедления, и ротмистр выскочил из дому как был – в легком мундирчике, накинутом на нижнюю рубашку. Разгоряченный, он еще и не застегнулся как следует, а март в горах месяц коварный. К вечеру он чувствовал себя как в тумане, и это было приятно, какая-то вдохновляющая сила подняла боевой дух и азарт успешного предприятия… А ночью та же сила сбросила его в жесточайший жар, голова пылала, а кости ломало в суставах так, что он места себе не находил.
На третий день лихорадки, пользуясь отсутствием бдительного Лорис-Меликова, местный князь Арслан-хан подобрался-таки к Хаджи-Мурату и чуть было не застрелил его. О происшествиях этих пришлось рапортовать в Тифлис, обстоятельства покушения Лорис-Меликов изложил скромно, не намекнув на свою болезнь, о которой доложил Воронцову князь Барятинский, мечтавший поскорее избавиться от Хаджи-Мурата и всех связанных с ним хлопот.
После злосчастного выстрела Арслан-хана пришлось переселиться в один дом с Хаджи-Муратом и уже ни на шаг не отпускать его от себя. Впрочем, с таким положением дел и сам Хаджи-Мурат смирился и очень трогательно ухаживал за своим охранителем. Еще не оправившийся от лихорадки, Лорис-Меликов получил из Тифлиса письмо следующего содержания:
«Тифлис. 17-го марта 1852 г.
Любезный Лорис, спешу отвечать на письма твои, от 4-го марта и на то, которое я получил сегодня от 9-го. Насчет критического вашего положения в Таш-Кичу и я здесь решить ничего не могу, и прошу официально кн. Барятинского с тобою переговорить и решить, как найдете лучше; разумеется, я за все отвечаю. Может быть, будет лучше, на время отсутствия кн. Барятинского из Грозной, чтобы Хаджи-Мурат переехал в Кизляр или Ставрополь, особливо ежели ему не можно будет остаться в укреплении Таш-Кичу.
Теперь будем говорить о предмете, который меня интересует еще больше Хаджи-Мурата, а именно о твоем здоровье: мне все говорят, что ты довольно серьезно болен, хотя сам по скромности ничего об этом мне не говоришь; я пишу также об этом Барятинскому и прошу взять все возможные меры, чтобы ты мог поправиться совершенно; ежели тебе невозможно будет на время остаться с Хаджи-Муратом, то, покамест он в Таш-Кичу, может за ним смотреть полковник Каяков, а для других мест Барятинский найдет кого-нибудь другого на время твоего отсутствия; надо, чтобы ты берегся, и мой долг не только ничего не делать, что бы могло тебе вредить, но и тебе самому в этом мешать и не позволять тебе рисковать твоим здоровьем.
Прощай, любезный Лорис. Кн. Тарханов тебе тоже пишет; надеюсь, что я буду иметь хорошие известия о твоем здоровье; княгиня и графиня тебе кланяются. Обнимаю тебя душевно и остаюсь навсегда весь твой
М. Воронцов».
Вслед за воронцовским письмом в Таш-Кичу пожаловал Александр Иванович Барятинский. Лориса он обнаружил не в лучшем виде, того трясла лихорадка, лицом ротмистр был желт, под глазами чернели глубокие тени. Хаджи-Мурата решили пока никуда с места не трогать – местный народ поуспокоился, сам Хаджи-Мурат обходился без прогулок – роль доктора при кунаке Лорисе увлекла его. Такое положение, конечно, тяготило Лорис-Меликова, но ни он, ни Барятинский ничего придумать пока не могли. Переезд в Ставрополь или Кизляр был предприятием весьма сложным – Барятинский не хотел рисковать своими офицерами и подставлять их под такую ответственность. Тут хватило переживаний с покушением Арслан-хана. Самое лучшее, конечно, было бы отправить Хаджи-Мурата в Тифлис, но на это нужно особое разрешение наместника. Барятинский собирался через неделю на доклад к нему по итогам зимней экспедиции и пообещал уговорить Воронцова воротить пленника в Тифлис.
Лорис-Меликов поднялся, наконец, на ноги и позволял себе совершать вместе с Хаджи-Муратом недалекие прогулки верхом, когда пришло последнее письмо от светлейшего князя от 30 марта 1852 года.
«Любезный Лорис, – писал Михаил Семенович, – я, согласно твоему желанию, думал, кем заменить тебя при Хаджи-Мурате; но теперь, переговоривши с князем Барятинским, мы решили выслать его сюда, и поэтому не нужно будет тебя сменить; ты привезешь Хаджи-Мурата в Тифлис, где и кончится твое поручение. Я надеюсь, что отдых тебя совершенно поправит.
Прощай, любезный Лорис, поздравляю тебя с праздником, обнимаю тебя душевно и остаюсь навсегда весь твой
М. Воронцов».
Дорогою Лорис-Меликов вновь подхватил простуду и в Тифлис явился весь истерзанный новыми приступами лихорадки. Хаджи-Мурат на месте не усидел и отпросился у Воронцова в Нуху, где надеялся собрать надежных людей, чтобы отправить их в Ведено выкрасть свое семейство. Поручили его на этот раз заботам пехотного капитана Бучкиева – столь же храброго, сколь и безалаберного. Он-то и упустил Хаджи-Мурата, сбежавшего из Нухи со своими нукерами. В отчаянии Бучкиев помчался в Тифлис доложить о беде наместнику.
Никогда и никому еще на Кавказе не доводилось видеть светлейшего князя в таком гневе. Он кричал, он топал ногами на несчастного капитана и обвинил его в трусости: надлежало мчаться не в Тифлис, а в погоню. Но воротиться в Нуху Бучккев не успел: на счастье его, примчался курьер от коменданта крепости полковника Карганова с известием, что Хаджи-Мурат и его нукеры убиты в перестрелке. А к вечеру прибыл сам Карганов и изложил подробности – какой снарядил полк азербайджанской милиции и сотню казаков, как они обнаружили Хаджи-Мурата и как бился отважный воин за свою свободу до последнего патрона.
Узнав об этом, Лорис-Меликов исстрадался с досады. Уж от него-то Хаджи-Мурат не сбежал бы. В самые счастливые дни куначества меньше чем с двумя десятками казаков Лорис-Меликов своего друга не отпускал. И не потому, что не доверял искренности Хаджи-Мурата – он ждал подобного исхода. Шансы на спасение семьи подкупом ли, стремительным налетом в Ведено иссякли, а оставаться в двойном плену надолго этот человек по природе своей не мог.
Как и обещал, князь Воронцов не оставил Лорис-Меликова без наград. За зимнюю экспедицию в отряде князя Барятинского к ордену Анны 2-й степени с мечами прибавился той же степени орден с императорской короною. А через год, когда операция с Хаджи-Муратом была признана в Петербурге большой удачей Кавказской армии, Воронцов представил Лорис-Меликова, минуя аж два чина, к званию полковника.
В Кавказской армии это был второй случай. Недавно в полковники был произведен ротмистр князь Александр Дондуков-Корсаков. Но перед ним Воронцов чувствовал себя как бы виноватым. Года два назад Александр сопровождал наместника в его поездке по Польше и в Варшаве. Посетив в Бельведерском дворце императора, Воронцов не представил Дондукова-Корсакова царю и тем самым лишил его возможности в минуту стать флигель-адъютантом. Ведь тогда пришлось бы расстаться с придворным офицером и отправить его в Петербург, а расставаться с собственным адъютантом Воронцову не хотелось: кто ему будет читать в дороге газеты, кто лучше сможет ухаживать за Елизаветой Ксаверьевной, которой это путешествие уже тяжеловато…
Александр долго жил злостью на светлейшего князя, но в конце концов подавил досаду и только чаще стал отпрашиваться в действующие отряды. Зато теперь он счастлив и горд и постоянно скашивает взгляд на новые свои эполеты, проверяя, не приснилось ли такое.
Теперь, когда и Лорис-Меликова произвели в полковники, доброго Александра уколола легкая ревность, он лишился исключительности в своем положении. Но события так повернулись, что все эти мелочные обиды провалились и рассеялись.
Крымская война

Слухи о возможной войне достигли Тифлиса давно, еще в ту пору, когда Лорис-Меликов вернулся из Таш-Кичу. Князь Воронцов был убежден почему-то, что у Николая I хватит ума не ввязываться в вооруженное противостояние с Турцией, за спиною которой поигрывают мускулами сильные европейские государства. Он был сыном дипломата и сохранял веру в силу мудрых переговоров. Увы, безумие свершилось. И уже в октябре 1853 года турки открыли действия против Кавказской армии, значительными силами напав на Пост Святого Николая – небольшую нашу крепость в Грузии. Крепость вскоре отбили, но дела наши трудно было назвать блестящими. Турецкий генерал Абди-паша сосредоточил против русских войск стотысячную армию. Кавказская же армия была решительно не готова к войне в Закавказье – основные ее силы увязли в сражениях с Шамилем, а вдоль турецкой границы держались лишь небольшие наблюдательные отряды.
В срочном порядке в Александрополь был отправлен генерал-лейтенант Василий Осипович Бебутов, которому надлежало сформировать Отдельный Кавказский корпус. Он должен был принять прибывшую морем из Крыма пехотную дивизию и организовать полки из грузинского и армянского ополчения.
Лорис-Меликов отпросился у наместника в Армению – он не мог оставаться в Тифлисе, когда его соотечественники подвергаются налетам и грабежам турок. О зверствах солдат турецкой армии, а еще более башибузуков в армянских селениях доходили ужасающие слухи, увы, отнюдь не преувеличенные.
Это решение Лорис-Меликова ускорило ход событий в его частной жизни. Генерал Аргутинский-Долгоруков сдержал-таки слово свое и просватал отважному офицеру любимую племянницу Нину. Девочка подросла как-то незаметно. Но только вдруг Лорис обнаружил, что ее едкие укольчики достигают его внимания, на них приходится отвечать, и поостроумнее, каждый раз обдумывая свои слова, и между ними возникла непонятная игра. И на внешность ее он стал посматривать не без интереса. В чертах ее, по-армянски ярких, светились недюжинный ум и твердый, склонный к деспотизму характер. Характера он не боялся, Лорис был достаточно опытен и искушен в отношениях, и это ему даже нравилось. Во всяком случае, месяц от месяца он все больше чувствовал свою – не влюбленность, нет, скорее привязанность к этой острой на язык умненькой княжне. А душевная привязанность ведет к любви надежнее, чем пылкая и без остатка сгорающая влюбленность. Накануне отъезда в действующую армию состоялась помолвка.
Светлейший князь при расставании с любимцем своим был как-то особенно сентиментален и даже – он-то, гордый Воронцов, всегда и всех поражавший необычайной своею выдержкой! – расплакался, как впадающий в детство старичок. Видимо, чувствовал, что видятся они с Лорисом последний раз. Для старого воина настали не лучшие времена. Герой Бородина и Краона, он дожил до войны, к которой оказался не готов решительно во всех отношениях, и не чувствовал в себе сил главенствовать над войсками. Весною 1854 года он отпросился в шестимесячный отпуск, сдав командование армией генералу Реаду. Но из отпуска Михаил Семенович так в Тифлис и не вернулся, он окончательно вышел в отставку и тихо угас в Одессе вскоре после окончания войны.
Лорис-Меликов едва доехал до Александрополя, как тут же был направлен с казачьим эскадроном в действующий отряд и еще по дороге у турецкой деревни Карчах 29 октября попал в жесточайшую перестрелку с кавалерией противника. Дело принимало худой поворот, но подоспела пехота из русского духоборского села Богдановка, и вражеская конница, не выдержав напора ободренных помощью казаков, обратилась в бегство. А на следующий день – новая схватка неподалеку от Баяндура, только переночевали – налет большой конной партии башибузуков на наш лагерь… 2 ноября уже наши колонны князя Орбелиани и генерал-майора Кишинского пошли в наступление и взяли Баяндур.
После Баяндура генерал Бебутов отважился на решительное продвижение в глубь турецких пределов, к Карсу. 19 ноября армия Ахмета-паши численностью в 36 тысяч попыталась остановить движение нашего 10-тысячного корпуса. Турецкая атака была стремительна и все же врасплох Бебутова не застала. Генерал успел вывести колонну из-под удара и сам нанес решительный контрудар с правого фланга. Лорис-Меликов был как раз впереди атакующих и первым с тремя десятками казаков ворвался в Баш-Кадыкляр.
Уже в селе в самый разгар битвы чья-то крепкая рука сдернула Лорис-Меликова с седла. Он и понять ничего не успел, только услышал:
– Мишка, пригнись!
И вовремя – сзади над ним просвистел клинок турецкой сабли, останься он на коне, быть бы рассечену надвое. С седла стащил его какой-то пехотный капитан с реденькими бакенбардами на красном лице, которого он тут же в суматохе и потерял, и уже после боя вспомнил тот счастливый эпизод и пошел разыскивать краснолицего капитана, недоумевая, откуда тот знает его по имени.
Уже пала ночь, и поиск капитана в обширном лагере среди десятков палаток терял всякий смысл. Ржали кони, пьяные солдаты горланили песни, в потемках бродили заплутавшие тени, кого-то окликавшие, что-то ищущие. Такой же тенью бродил и Лорис-Меликов, уже не надеясь никого и ничего найти, кроме ночлега: пока искал спасителя, свою палатку потерял.
У ближайшей палатки спросил солдата:
– Это какой полк?
– Ряжский пехотный, ваше благородие.
Название мало что говорило – ряжцы лишь недавно прибыли из Крыма, и, кроме их командира полковника Ганецкого, Лорис-Меликов никого там не знал. Но все-таки спросил:
– А командиры ваши где?
– Во-он тама. – Служивый показал на самую дальнюю в ряду палатку. Из распахнутых пол ее виднелся свет.
Лорис-Меликов пошел на огонек.
Он встал на пороге, щурясь и осматриваясь, и над самым ухом разнеслось:
– Мишка, друг, пришел! Дай я тебя безешкой отмечу!
Краснолицый капитан уже тискал его в объятьях, дыша свежей водкою, чесноком, еще какой-то гадостью. Лориса уже повело от брезгливости, он попытался было освободиться от крепкой дружеской хватки – и вдруг вспомнил. Хлюстин 3-й! Один из трех братьев-забияк, что в страхе держали младшие классы Школы гвардейских подпрапорщиков. Ему на первых порах тоже доставалось от Хлюстиных, особенно в те дни, когда из Тифлиса приходила посылка с гостинцами.
– Ванька! А ты как здесь оказался?
Вместо ответа Иван Хлюстин освободил, наконец, школьного друга из железных объятий своих, а офицерам, сидящим за давно накрытым и потерявшим всякое убранство столом, объявил:
– Господа! Нас посетил самый лихой наездник из всех юнкеров Михаил Лорис-Меликов! Видали его сегодня? Самый молодецкий молодец!
Иван был уже хорош, впрочем, и все вокруг тоже в изрядном градусе, включая и командира полковника Ганецкого. Лорис-Меликову тут же налили штрафную, потом еще одну… Так он и не выяснил сегодня, как это Хлюстин угодил в простой армейский полк – выпущен он был в гвардейский Егерский. Впрочем, завтра он сам поймет.
К утру беспамятное тело Лорис-Меликова два ряжских солдата принесли к палаткам, торжественно именуемым главной квартирой корпуса, и хотели было без шума уложить спать, да сами они тоже еле держались на ногах. Генерал Бебутов, разбуженный вознёю, с большим изумлением наблюдал сию жанровую сцену. В таком состоянии он видел сына почтительного тифлисского семейства в первый раз. Правда, и в последний.
Весь следующий день прошел в одолении головной боли и стыда. Он даже на своего слугу верного Осипа глаз не подымал. И всячески потом старался забыть проклятый Баш-Кадыкляр, хотя за этот бой удостоен был георгиевской золотой сабли с надписью «За храбрость».
Под Новый, 1854 год войска наши вернулись из пределов Турции в Александрополь – старинный армянский город, называемый местными жителями по-старому Гюмри. Хотя осенние бои надо признать успешными, до настоящей победы далеко, командующий войсками генерал Бебутов никаких иллюзий на сей счет не строил, и будущее вызывало у него серьезные беспокойства. Корпус был слаб и малочислен, против ста тысяч вражеской армии удалось собрать лишь тридцать. К тому же турки, что особенно удивительно, были вооружены лучше нас, они давно забыли, что такое кремневые ружья – англичане снабдили их прекрасными легкозарядными винтовками. И пушки у них не чета нашим. Такое может быть только в России. В единственную постоянно воюющую в годы правления Николая Павловича Кавказскую армию поставлялись орудия, поломанные на учениях и уже побывавшие в ремонте.
Полковник Лорис-Меликов состоял штаб-офицером для особых поручений при Бебутове. Роль эта при активных военных действиях корпуса его тяготила. В боях он подменял выбывших офицеров, и самостоятельного поля действия у него не было. Как почти не было и случая применить свой опыт сношений с вождями кавказских племен, хотя уже здесь, в Александрополе, полковник тоже не дремал и мгновенно оброс новыми знакомыми как среди местных армян и грузин, так и среди мусульман, потихоньку налаживая разведку в пределах Турции.
Лорис-Меликов долго обдумывал свое положение в действующем корпусе и в один прекрасный день предложил князю Бебутову интересную идею. Он взялся собрать сотни две-три охотников – то есть добровольцев из кавказцев всех национальностей, какие только можно собрать под флагами Российской империи.
Мысль была счастливая, хотя сомнений у Василия Осиповича возникало достаточно. Заранее ясно было, что за публика пойдет в охотники. Это дикие, ни к какой дисциплине не привыкшие хищники, верные своему командиру лишь до той минуты, пока он обеспечивает им добычу. В любое мгновенье охотники, особенно из мусульман, запросто предадутся туркам, да еще выложат им наши секреты. Лорис-Меликов и сам предвидел подобный поворот, но на сей счет у него созрели свои планы.
– Ну что ж, с Богом! – благословил Василий Осипович.
Всю оставшуюся зиму и весну Лорис-Меликов собирал по ближайшим уездам команду. Прослышав о наборе лихих всадников-партизан, к нему стали стекаться поодиночке и шайками горцы с Северного Кавказа. В начале апреля под властной рукою Лорис-Меликова оказалось целых три сотни охотников. Кого там только не было! Нищие, полуголодные, оборванные. Но глаза горят отвагой, тщеславием и азартом близкой наживы. Эх, как жаль, что так глупо погиб Хаджи-Мурат! Вот кого сейчас не хватало!
12 апреля 1854 года генерал Багговут вывел из Александрополя полк Нижегородских драгун и сотни охотников Лорис-Меликова, У села Арчин сорвиголовы сборной команды впервые показали себя, налетев на многочисленный отряд турецкой кавалерии. Ошеломленные, турки не сумели даже осмотреться, чтобы собственные превосходящие силы подсчитать, организовать оборону или собраться для контратаки. Впрочем, контратаковать уж и некого: забрав свыше двадцати пленных с двумя офицерами в их числе и большой полковой значок, охотники Лорис-Меликова как бы растворились. Тем временем и драгуны отличились у соседнего села, и возвращение в Александрополь было триумфальным, почти как в Древнем Риме.
На протяжении всего 1854 года война на Кавказском театре действий представляла собой взаимные неглубокие вторжения за пределы государственных границ с переменным успехом, пока в июле турки с 60-тысячной армией во главе с муширом Мустафой-Зарифом-пашой не открыли наступления на Александрополь и не были разгромлены нашим 18-тысячным корпусом Бебутова под селением Кюркж-Дара. Не помогли ни втрое численное преимущество, ни английские советники, ни иные офицеры союзных армий. Охотники особо отличились под Кюрюк-Дара своими дерзкими атаками впереди авангарда. Они врывались во вражеский лагерь с ревом и свистом, сеяли панику, турки не успевали прийти в себя, а тут подходили регулярные полки и методично довершали начатое дело. Охотники тем временем с левого фланга вторгались в правый и производили там суматоху.
После блистательной победы 24 июля турецкая армия, противостоящая корпусу Бебутова, потеряла всякую способность вести серьезные наступательные действия. Но наших проблем даже на Кавказе это не решало. Россия все глубже втягивалась в бои на разных направлениях – на Дунае, в Крыму, на Балтийском море и даже на Камчатке, и все меньше победных реляций получал Главный штаб в Петербурге. Одно дело воевать с Османской империей, столь же отсталой и насквозь прогнившей, как и сама Российская империя в облезлой позолоте николаевского величия, другое – со всем миром, давно расставшимся с крепостным правом, миром свободным, богатым, просвещенным и цивилизованным.
Корпус Бебутова удерживал относительное равновесие на границе, и ясно было, что долго такое положение длиться не может: рано или поздно противник соберет силы, и что тогда? Ждать помощи из России нечего, надо обходиться своими средствами. Весной 1854 года, когда просьба почтенного в годах и еще глубже от горьких дум состарившегося князя Воронцова об отпуске была, наконец, удовлетворена, на время его отсутствия командовал Кавказской армией генерал Реад – воин храбрый и достойный, но не стратег. Да и положение его – временно исправляющего должность – было непрочным, что никак не придавало ему решительности. Он так и не прислал в помощь Бебутову перед сражением у Баш-Кадыкляра Рязанский полк, стоявший в Тифлисе, зато завалил Главный штаб депешами о необходимости прислать подкрепления. А откуда их взять? Нет, здесь нужна личность, полководец. В декабре 1854 года Главнокомандующим Кавказской армией и наместником его императорского величества на Кавказе назначен был генерал от инфантерии генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьев.
Муравьева в императорской семье не любили. Старший брат его Александр после известных событий в декабре 1825 года был под следствием, которое обнаружило его активное участие в заговоре, и хотя года за два до выступления на Сенатской площади он от этих революционерских игрищ отошел, к сибирской ссылке его приговорили. Правда, года через два он получил прощение и даже стал гражданским губернатором в далеком Архангельске, но крепкой веры ему не было. Николай же Николаевич, начавший военную карьеру еще перед Отечественной войной 1812 года, в 30-е годы, служа на Кавказе, угодил в опалу за потворство декабристам и вынужден был сам уйти в отставку на добрых двенадцать лет – пока царь не призвал его в Венгерский поход 1849 года[24]24
Венгерский поход. – В 1849 г. Николай I оказал военную помощь Австрии в борьбе с революционной Венгрией, которая в 1848 г. восстала против австрийского владычества. Русской армией командовал И. Ф. Паскевич.
[Закрыть].
Человек старинного воспитания и глубоких традиций чести, характером Николай Николаевич был крут. Кавказ, обвыкшийся с сибаритскими манерами изнеженного Воронцова, долго поеживался от твердой руки нового наместника, с первых же дней своего правления в Тифлисе начавшего наводить порядки в армии и в гражданском управлении. Но шла война, обстоятельства складывались не в нашу пользу, и все недовольства крутым начальником были до поры до времени подавлены тяжким вздохом про себя. Первым делом генерал Муравьев запретил отвлекать армию на хозяйственные работы, к великой скорби кавказских генералов и штаб-офицеров и богатых местных семейств, давно позабывших, как это можно обходиться без дармовой рабочей силы. Он тут же потребовал досконального отчета от интендантских служб, и не одна буйна головушка полетела под суд.
Армейского подкрепления царь Муравьеву не дал, но в Тифлис Николай Николаевич явился не с пустыми руками. Он привез из Петербурга содержавшегося в русском плену второго сына Шамиля – Джемальэтдина. Собственно, пленом жизнь Джемальэтдина в России назвать трудно. Еще ребенком выкраденный из дому лихим наездником Арташаковым, он помещен был в Павловский кадетский корпус, откуда выпущен был в гвардейский полк и на Кавказ вернулся в чине поручика русской службы.
Возвращение Джемальэтдина отцу сопровождалось одним непременным условием, которое коварный Шамиль, надо отдать ему должное, выполнил добросовестно. На время войны с Турцией с мюридами было заключено перемирие. Тем же из них, кто без драки и дня не мыслил, предлагалось вступить в охотники Кавказской армии на южной границе.
18 февраля 1855 года, в самый разгар войны, умер император Николай I. До Кавказа донеслись слухи, будто бы царь покончил с собой. Нет, умер он все же своей смертью, и смертью ужасной – в полном сознании. Мало кому в русской истории доводилось умирать, видя, что вся твоя жизнь, которой ты гордился не только перед подданными своими, но и перед всем миром, пошла прахом. Порядок шит был гнилыми нитками лжи, и вся Россия – не великое государство, как ты самодовольно полагал, а грандиозная потемкинская деревня с пышными декорациями, облезшими от первой же грозы. Штыки, на которых держалась мощь государства, вмиг проржавели и осыпались. Россия со своим крепостным правом отстала от Европы навсегда, и куда ей воевать со всем миром, подвозящим войска по железной дороге и морем на пароходах, со своими парусниками и конной тягой на русском бездорожье.
По свидетельству Тимашева, будущего министра внутренних дел, это Николай произнес легендарную фразу о том, что лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, когда его снесут снизу. Наследник же в ту пору и не помышлял о подобной мере и всегда придерживался самых крайних установлений, ибо так было угодно отцу.
Теперь же на плечи Александра пала обязанность завершать войну, заведомо проигранную, что-то предпринимать, а что именно – решительно никто не знает. Отец и порядок, им заведенный, казались ему вечными и незыблемыми. Александр так давно был провозглашен наследником престола и так свыкся с этим своим положением, а отец, в общем-то, так был здоров и крепок, он и до старости не дожил – что за возраст для мужчины 58 лет? – что превращение в царя виделось ему где-то там, далеко впереди, за морями, за горами, за зелеными долами. Власть обрушилась внезапно и неумолимо.
После смерти Николая Павловича казалось, что вся империя трещит по швам. Ложь разоблачилась, а правды никто не видел и не знал, где ее искать. Но сейчас даже и не до правды. Со всех сторон теснят враги, из последних сил, но надо отбиваться. В этом смысле выбор Муравьева для управления на Кавказе, сделанный еще покойным императором, был удачен. Там и нужен был в ту минуту человек безупречно честный, решительный и твердый.
К весне 1855 года Кавказская армия уже представляла собой достаточно боеспособную силу, и можно было вести наступательные действия в пределах Турции. 13 мая главнокомандующий прибыл в Александрополь.
Въезд его в приграничную крепость был торжествен. По пути следования генерала выстроились регулярные войска и пестрое ополчение. Особенно живописно выглядели курды в зеленых шалевых чалмах и красных шелковых кафтанах, вышитых золотом. На концах длинных камышовых пик развевались черные перья каких-то диковинных птиц.
Здесь, среди свиты отъезжающего в Тифлис генерала Бебутова, и был ему представлен офицер по особым поручениям командующего корпусом полковник Михаил Тариелович Лорис-Меликов.
Муравьев встретил полковника не без предвзятости. Лорис-Меликов числился в любимцах у Воронцова, а к адъютантам своего предшественника генерал отнюдь не благоволил и всех до одного почитал фазанами. А открытый, доброжелательный взгляд молодого штаб-офицера скорее насторожил седого воина, заподозрившего хитрость и лукавство. Хотя Бебутов, мнению которого Муравьев доверял вполне, высоко ценил этого человека. Так ведь что Бебутов, что Лорис – оба армяне, они всегда друг за друга горой. Ворон ворону глаз не выклюнет. Посмотрим, каков он будет в деле. С тою же предвзятостью Николай Николаевич отнесся и к другому любимцу Воронцова – князю Дондукову-Корсакову.
Надо сказать, оба этих воронцовских любимца очень скоро преодолели предубеждение главнокомандующего, и мало о ком он отзовется с таким уважением, как о Дондукове-Корсакове и Лорис-Меликове в своих мемуарах о Крымской войне.
26 мая 1855 года Кавказская армия тремя колоннами из Александрополя, Ахалкалака и Эривани выступила в пределы Турции. Сотни охотников Лорис-Меликова состояли в Александропольском отряде под непосредственным началом главнокомандующего. Генерал Муравьев с большой долей тревоги посматривал на многочисленную пеструю команду, он сомневался, сумеет ли ласковый полковник – мягкий и добродушный на вид – управиться с этим сбродом. В походном движении охотники являли живой контраст с регулярными обученными строю войсками. Только их приведешь в сравнительно боевой порядок – глядь, и снова толпа, какой-то галдящий табор. Очень это все коробило генеральский глаз, привыкший к образцовости воинских рядов.
28 мая Александропольская колонна достигла окрестностей Карса и расположилась лагерем у села Аджи-Кала. Однако ж отдохнуть охотникам не довелось. Из Ардагана примчался на взмыленной лошади местный житель с сообщением, что навстречу нашей Ахалкалакской колонне движется большой отряд башибузуков – турецкой иррегулярной кавалерии, собранной, как и сотни Лорис-Меликова, из лихих добровольцев. Тотчас же наперерез им был отправлен летучий отряд.
В схватках с башибузуками выигрывает не число, а внезапность и нахальство. Турецкая конница, обнаруженная почти у самого Ардагана, была, на взгляд, почти вдвое больше нашего летучего отряда. Лорис-Меликов отправил своего адъютанта к генералу Ковалевскому, чтобы тот готовился встретить башибузуков у стен города, а сам, выждав, когда турки целиком войдут в ущелье между двух гор, ударил им в тыл смелым и быстрым налетом – точь-в-точь как когда-то на наши колонны в ущельях Чечни и Дагестана налетал Хаджи-Мурат.
Когда авангард опомнился от паники, охватившей задние ряды колонны и едва не смявшей его в безрассудном бегстве, и обратился в сторону нападавших, ударила конница, высланная из Ардагана Ковалевским. Через полчаса все было кончено, турецкий отряд рассеялся, оставив с полсотни пленных.
А с пленными Лорис-Меликов поступил так. Он выстроил их в ряд и выступил перед растерянными башибузуками с краткой речью на их родном языке, что повергло полудиких воинов в большое изумление. Но содержание его речи поразило их еще больше. Русский полковник посулил прощение от своего царя каждому, кто больше не будет обращать свое оружие против его армии, а тем, кто хочет воевать под знаменами российского императора, обещал награду. Возвращаться домой никто не захотел, и все пленники вступили в сотню Лорис-Меликова.
Воротившись в лагерь, охотники занялись главным своим делом – разведкой Карса – и самой крепости, и укреплений вокруг нее, и дорог, от нее ведущих по разным направлениям. В первых числах июня удалось перехватить нарочного с письмом в Константинополь. Адресовано было оно английскому послу в Турции Кларендону. Генерал Вильяме, английский военный советник, а по сути командующий обороной Карса, противился назначению главнокомандующим турецкими войсками Измаила-паши. В доказательство неуместности этого генерала на столь важном посту Вильяме привел копии четырех приказов нового главнокомандующего, разосланных по всем частям турецкой армии. По первому из них предписывалось желтую выпушку на мундирах анатолийской армии заменить на красную; второй вменял офицерам в обязанность носить черные галстуки; третьим вводились строгости за нарушение правил ношения фески: кисточка ее должна отныне свешиваться исключительно на левое ухо; четвертым приказом офицерам категорически запрещалось мыться с нижними чинами в одной бане.