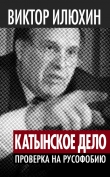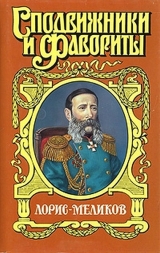
Текст книги "Вице-император. Лорис-Меликов"
Автор книги: Елена Холмогорова
Соавторы: Михаил Холмогоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
– Это тайна-с, великая тайна-с, господа. Главное – выбрать позицию. И все видеть, все слышать, все замечать, а меня чтоб никто не видел. Это есть наружное наблюдение. Вы пока расплатитесь, а я выйду, и смотрите, как незаметно-с.
Поскольку Афанасий Елпидифорович изволил достаточно водки выкушать, выйти незаметно ему не удалось, прошмыгивающая походочка его была быстра, но не так чтобы тверда. Однако ж на улице глаза его смотрели ясно и трезво, и невесть с чего приятели под его цепким взглядом почувствовали себя разве что не преступниками.
Потом в компаниях Николенька удивительно точно представлял сыщика с его походочкой и хитрыми глазками. Он вообще был артистичен и гибок, изображая сыщика, удивительно съеживался, уменьшался в размерах, а ведь Афанасий Елпидифорович едва достигал ему плеча.
Под Рождество Нарышкин извелся зубною болью и из Школы на хлипкий, сырой мороз счел разумным не отлучаться. Лорис-Меликов явился на квартиру один. Некрасов ждал его в каком-то озорном возбуждении.
– У меня идея! Зайдем сейчас в костюмерную лавку, там переоденемся и поедем в гости.
И увлек недоумевающего юнкера за собою. В костюмерной лавке Николенька выбрал себе наряд средневекового венецианского дожа, а Лорис оделся испанским грандом. Они долго вертелись перед зеркалом, вид их для петербургской зимы был и так забавен, но Николенька потребовал для друга еще шпагу, и хотя испанской времен конкистадоров в лавке не нашлось, вполне удовлетворились русскою екатерининских времен. Свою одежду они оставили в лавке под залог в пять рублей. Денег же у них было восемь рублей тридцать шесть копеек на двоих. С извозчиком в оба конца должно хватить.
Ах, какие премиленькие девицы с восторженным визгом встретили гранда и дожа в бедной чиновничьей квартирке на Ропшинской улице! Ночь пролетела незаметно, как всегда пролетают в юности праздничные ночи. Вдруг ввалилась целая компания, куда-то ехали, где-то пили, целовались с красотками, снова пили, а проснувшись Бог весть где, подсчитали капитал – его едва хватит на извозчика добраться до дому.
И вот испанский гранд и венецианский дож, одолевая похмельную головную боль, взобрались к себе на третий этаж, а квартирку выстудило в их отсутствие насквозь: вчера, уходя, они оставили открытые форточки. И ни полешка у печки. Ни единого.
– Ну что, дон Мигеле, делать будем? – спросил венецианский дож, выстукивая дробь зубами.
– Я научу вас, досточтимый сеньор, гимнастическим упражнениям.
Гранд и дож соорудили из стульев нечто вроде гимнастического коня, но комната была тесна для разбега, прыжки дожу не давались, и кончилось все тем, что нескладный венецианец сломал стул.
– Раз так, досточтимый дон Мигеле, давайте-ка пустим его обломки на дрова.
Сказано – сделано. Но крепкие обломки стула никак не хотели поддаваться пламени. А последние стихи свои, мало отличавшиеся от тех, что разругал Белинский, Некрасов, убирая квартиру к празднику, не далее как вчера пожег беспощадной рукой.
– Я, досточтимый дож, готовлюсь к спартанской жизни русского воина. А посему жертвую мочалом из мягкого своего дивана для растопки, – заявил щедрый гранд и незамедлительно принялся терзать несчастный диван.
Перед печкой разостлали старый, траченный молью ковер, привезенный Некрасовым из Грешнева, и на какое-то время освободились от забот о тепле. Руки обогрелись и стали способны к письму. Тут же стали составляться записочки «бедному барину» Федору Алексеевичу Кони, Ивану Панаеву[9]9
Панаев Иван Иванович (1812-1862) – писатель и журналист, автор «Литературных воспоминаний», один из редакторов «Современника».
[Закрыть], Краевскому[10]10
Краевский Андрей Александрович (1810-1889) – издатель и журналист. Редактор нескольких газет и журналов, в том числе с 1839 г. «Отечественных записок».
[Закрыть] с просьбою войти в положение несчастных шалопаев и прислать немножечко денег. Лорис-Меликов такие же записочки отправил в Школу к Нарышкину, в офицерские казармы Гусарского полка приятелю своему корнету Василию Абазе, еще нескольким лицам.
Через час посыльный стал приносить вежливые ответы. Праздник решительно всех вверг в большие траты, а посему на ближайшую неделю ни у кого из сочувствующих беде молодых шалопаев лиц денег нет и не предвидится. С каждой новой записочкой о глубоком сострадании и невозможности помочь приятели все острее ощущали приступы голода. И заложить нечего. Подарок матери, две серебряные ложечки, Николенька всего на прошлой неделе отдал в залог негодяю Ширяеву, владельцу съестной лавки, и обещал уже расплатиться с ним, а тут… Все-таки решили пригласить к себе негодяя Ширяева.
Лавочник очень был удивлен столь экзотическим одеянием молодых людей. В тонких чулках вместо панталон и коротких бархатных штанишках они попрыгивали, отогреваясь, перед гаснущей печкой, что навело грамотного, третьей гильдии купца на мораль из любимой его басни «Стрекоза и Муравей».
– А вы ведь вчера-с, Николай Алексеич, заплатить обещались.
– Да вот видишь как, Иван Семеныч, сложилось. – Некрасов был в эту минуту самое смирение и раскаяние. – Ты уж нас, дураков таких, выручи.
– Да как же я выручу-с? Хлебушек – он денег стоит. Да вам-то и мало будет хлебушка одного. А у меня под праздник господа, что платить умеют, все порасхватали-с. Вот один только студень остался, да и то для своей семьи, для детушек жена сберегла-с.
– Ах, Иван Семеныч, твоя доброта на три квартала вокруг всем известна. Ты уж запиши в счет моего долга еще рублик, дай поесть. Хоть что-нибудь.
– Никак не могу-с. Сам беден аки крыса церковная.
– Да вот же, смотри, мне редактор газеты пишет: в следующую пятницу гонорар даст. Так я тебе все до копеечки верну.
– А что ж вчера не вернули-с?
– Иван Семеныч, – вступил в дело Лорис-Меликов, – у нас на Кавказе дворянину верят на слово. Я дворянин, и Николай Алексеевич дворянин. Наше слово крепкое. Теперь я отвечаю за его обещания.
Все ж таки уломали лавочника. Слуга принес тарелку со студнем и полфунта черного хлеба. Гранд и дож братски поделили трапезу.
А вечером примчался Саша Нарышкин. Он раздобыл-таки целый червонец денег и выручил друзей, посиневших от холода, из беды.
Жизнь в доме Шаумяна на Грязной продолжалась до самого лета, когда Лорис-Меликов и Нарышкин отправились в Петергофские лагеря, а потом Лорис, по завершении Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, был назначен в Гродненский гусарский полк, в столице бывал наездами и совсем было потерял своих приятелей. Но в 1847 году он встретил на Невском Николеньку… Нет, это уже был не Николенька – он встретил Николая Алексеевича Некрасова, издателя вновь процветшего журнала «Современник», поэта, автора стихотворений, за которые и перед самим Белинским не стыдно. Взглянув на одетого с большим вкусом господина, трудно было догадаться, что всего три года назад барин Николай Алексеевич не знал, как улестить жадного лавочника, чтобы хоть корку хлеба одолжил до следующей недели. Но в остальном это был прежний Николенька, готовый на любую проказу; юмор и демократическая простота решительно не изменили ему. Снимал Некрасов роскошную квартиру у Аничкова моста и обставил ее хорошей мебелью от Гамбса. Это была их последняя встреча, хотя всю последующую жизнь, едва где-нибудь в журналах попадалась на глаза новая некрасовская вещь, Лорис-Меликовтутже впивался в нее и, читая, слышал, отчетливо слышал молодой голос Николеньки.
В 1875 году – Лорис-Меликов был уже генерал-адъютантом, начальником Терской области – к нему на прием явился болезненного вида и чрезвычайно бедно одетый человек – сосланный докторами на Кавказ и пролечивший все свои средства до последней копеечки бывший редактор «Русского слова» литератор Николай Александрович Благовещенский. Он принес рекомендательное письмо от Некрасова, и Лорис-Меликов немедленно дал Благовещенскому денег и устроил его на вакантную должность секретаря Терского статистического комитета. Писать известному поэту ответ Михаил Тариелович постеснялся, думал дождаться встречи, но потом было долгое лечение за границей, война, и когда Лорис-Меликов по окончании ее приехал в Петербург, Некрасова в живых уж не было.
А жизнь в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров шла своим чередом. В верховой езде Лорис-Меликов был из первых, фрунт его вольной душе давался тяжелее, но тоже сносно, а предметы академические при его бойкой памяти и сметливости особого труда не составляли. Правда, в самом начале весны юнкер загремел в лазарет, и надолго, было даже опасение, что выпуститься в нынешнем году не удастся.
Прекрасный город Санкт-Петербург. После азиатского глиняного Тифлиса, после беспорядочной русско-византийской Москвы, где в самом центре города не диво встретить деревенскую барскую усадьбу, избу, а тут же и целый квартал совершенно европейских домов, столица потрясает ровными, по ниточке, проспектами, единым ампирным стилем дворцов… Да что говорить! Петр вырубил окно в Европу по европейским же образцам, а потомки его хоть в этом не отступили от его традиций и не позволили себе московских барских вольностей. Здесь и дома смотрелись гвардейцами в парадном строю. Да вот беда – весь этот гвардейский строй на приморском болоте зиждется. И как ни крепок организм, а сырые, неверные зимы, дождливые лета ломают непривычного человека.
В Петербурге надо родиться. Лорис-Меликова как-то в печальную, задумчивую минуту занесло на кладбище Александро-Невской лавры. Он бродил по аллеям между великолепными памятниками, разглядывал эпитафии, читал имена полководцев, реформаторов, сподвижников русских императоров в их славных на весь мир и темных, злых делах, но чаще все-таки вовсе безвестные. Но вот что его тогда поразило. Век Петровых современников, людей, как известно, могучих телами и хорошо кормленных, был чрезвычайно краток: редко кто протянул за сорок. Зато внуки их – екатерининские вельможи, здесь, на болотах, родившиеся, – заживались разве что не до ста лет.
К весне Лорис вечно попадал в лазарет. Южный человек, он легок был на простуду. Распахивался навстречу первому солнышку, не помня о коварстве петербургского климата. Но в первом классе его свалила особенно злая болезнь. Суровый капитан Горемыкин, увидев лихорадочный блеск Лорисовых глаз и пунцовую яркость лица, прямо с урока тактики отправил юнкера в лазарет. Жар стоял дня четыре, но выздоровления на пятый не наступило, а, наоборот, началось какое-то долгое и противное недомогание с невысокой, но ежевечерней температурою.
Тоска неимоверная! В палате Лорис-Меликов лежал между двумя малолетками: четвероклассником Корнилием Бороздиным и третьеклассником Константином Савельевым. Как юнкер старшего класса, он их почти не замечал, хотя Коля Тре-губов, его одноклассник, опекал Бороздина и защищал своего вандала (как называли в Школе самых младших подпрапорщиков и юнкеров) от непрестанных обид вандалов прошлого года. Протеже, как правило, допускались в компании своих патронов, но вели они там себя тише травы, без малейшего амикошонства. Субординация.
Два этих мальчика поначалу побаивались Лорис-Меликова, но Миша никогда не находил радости в издевательствах над младшими и, кроме насмешек, не позволял себе никаких видимых проявлений своего превосходства. А на насмешки соседи сами напрашивались. Бороздин по малости лет, наверное, любое слово воспринимал буквально и не в силах был различить иронию, чем немало потешал Савельева. Но и Савельев был хорош. Старшая сестра его вышла замуж за итальянского графа Цуккато, и Костя всех уверял, что бездетный зять его непременно уступит ему свой почетный титул. За что и схлопотал прозвище Цукат. Но вскоре и насмешки иссякли, приелись, так что мир царил в палате. Мир и скука. Все анекдоты были пересказаны, карты и шахматы быстро надоели, а бронхит истачивал потихоньку силы и повергал бойкого юнкера в уныние. Особенно в ясные дни, когда солнце дразнило зайчиками и звало на свободу.
Излечение свалилось внезапно, и принесли его не лекарства. Савельеву из дому прислали новую, книгу. «Похождения Чичикова, или Мертвые души» сочинения Н. Гоголя. Ее минувшим летом издали в Москве, в университетской типографии, о чем Лорису говорил еще Некрасов, слышавший о хлопотах в цензурном комитете князя Одоевского[11]11
Одоевский Владимир Федорович (1804-1869) – писатель и музыкальный деятель.
[Закрыть], Виельгорского и Белинского, но до Петербурга книга только-только доехала, так что даже Николенька ее еще не читал.
Лорис-Меликов на правах старшего тотчас же завладел книгой и читал, пока глаза не засыпало, как пылью, усталостью. Тогда он возвратил книгу Цукату и велел читать вслух. Оказалось, Цукат обладал незаурядным актерским талантом. Он читал на все роли и так уморительно, что вскоре в палату на громовой хохот, смешанный с кашлем, сбежались из других палат. Заставили читать сызнова.
И вот теперь каждый день, едва доктор Мейер закончит обход, а фельдшера наведут порядок и укроются в своей дежурной комнате, Лорис командовал:
– Давай, Цукат, доставай книгу. Читай!
На хохот сбегались фельдшера, пробовали утихомирить юнкеров – все же лазарет, вашим благородиям следует помнить, но Лорис и фельдшеров заставил слушать савельевское чтение.
В цепкой памяти Лорис-Меликова на всю оставшуюся жизнь как знак излечения от недугов и мира в душе осталась последняя фраза из гоголевской поэмы: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь по-стораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». И всегда в пути, куда б его ни заносила бойкая судьба, билось в мозгу с током крови – гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. И каждый вдох свободного ветра вселял чувство русского гражданства из посторонившегося народа – чувство сложное, почти необъяснимое на словах ни родного армянского, ни столь же теперь своего – русского языка.
Дни летели навстречу выпуску, но тут судьба вновь погрозила пальчиком.
Уже в апреле 1843 года барон Шлиппенбах произведен был в генералы от инфантерии и назначен директором 1-го кадетского корпуса и одновременно управляющим всеми военно-учебными заведениями. В Школе же его место должен был занять отставной генерал-майор, произведенный, по случаю возвращения на службу, вновь в полковники Александр Николаевич Сутгоф.
Сутгоф только что вернулся из Парижа в свой дом на Невском проспекте. Он еще не успел приступить к новым обязанностям, как дворник донес ему, что одну из квартир снимает жилец, которого в доме никто никогда не видел. А на самом деле там настоящий притон для учащихся вверяемой ему Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Они там пьянствуют и даже приглашают неких дам непотребного поведения. Сутгоф тотчас же отправился проверить подозрительную квартирку.
Едва раздался звонок, юнкер Лорис-Меликов, стоявший на стреме и, по счастью, не успевший притронуться к своему бокалу, скомандовал тревогу и выпроводил товарищей через черный ход. Сам ушел последним, убрав следы пиршества. Однако ж во дворе, у самых дровяных сараев, где была спасительная щель в другой двор, выходящий на Малую Морскую, его остановил рыжий маленький полковник с лицом, изошедшим красными пятнами от гнева:
– Юнкер, подойдите сюда! Ваша фамилия? Отдав честь, представился:
– Юнкер Петров.
– Должен вам заметить, юнкер… – полковник смерил его взглядом задумчивым и чуть презрительным, – да, юнкер Петров, что вы в ненадлежащем виде пребывать изволите. Почему пыль на сапогах и воротник отстегнут? Я вас запомнил, юнкер Петров.
«Идиот! – клял себя дорогою юнкер Петров. – Не мог себе получше псевдонима придумать». Он уже догадался, что полковник – новый начальник Школы, и последствия его сегодняшней встречи запросто могут быть столь же печальными, сколь были они перед самым окончанием Лазаревского института. Даже посерьезнее – Школа под пристальным оком императорской фамилии, а Михаил Павлович да и сам царь шуток не любят и карают по всей строгости.
Царский гнев юнкера и подпрапорщики уже испытали однажды. Это было минувшим летом – холодным, дождливым, слякотным. С балкона своего дворца в Александрии император любил наблюдать в подзорную трубу, как идут учения на плацу Петергофского лагеря.
Плац, обнесенный громадными рвами, в дождливую погоду блистал громадными лужами. Юнкера и подпрапорщики, одетые в белые панталоны и парадные мундиры с красными лацканами, на ученьях старательно обходили лужи, ломая, естественно, при этом фронт. Царь однажды и разглядел в свою подзорную трубу столь аккуратный переход через грязь. Не прошло и десяти минут, как его императорское величество был уже на плацу и разносил в пух и прах барона Шлиппенбаха и, не остыв от гнева, накинулся на юнкеров и подпрапорщиков:
– Вы, я вижу, очень о себе возомнили! Так я вам покажу, что такое воинская служба!
В строю, в задних рядах, началось шиканье, слава Богу, не достигшее августейшего слуха, но заставившее понервничать тех, кто, как Лорис-Меликов, стоял в первой шеренге. Император сам взял на себя командование. Он выстроил батальон Школы так, что лужи на пути были неминуемы, и сам повел строй вперед, на рвы. Тут уж было не до панталон и не до красных лацканов. Рвы одолели, помогая друг другу и тут же выстраиваясь в колонну, чтобы маршировать дальше, только лошадь командира батальона полковника Каульбарса увязла в скользкой глине, и полковнику пришлось вести батальон за царем в пешем порядке.
На третий день после инцидента Лорис-Меликова с новым начальником на Невском юнкеров и подпрапорщиков собрали в рекреационном зале. С одной стороны была выстроена рота подпрапорщиков, с другой – эскадрон юнкеров. Раскрылась дверь, и появился тот самый полковник, на которого так некстати нарвался Лорис-Меликов.
Полковник произнес речь, мало, впрочем, отличавшуюся от речей предшественника его, о чести гвардейского офицера, о надеждах, возлагаемых на будущих воинов царем и отечеством, а в завершение рассказал о своей встрече с юнкером Петровым.
– По вступлении своем в должность, – сказал новый начальник, – я поинтересовался у эскадронного командира о юнкере Петрове, но получил ответ, что такового юнкера в нашей Школе нет.
При этих словах Лорис-Меликов пошел красными пятнами, ожидая неминуемых последствий.
– Но я не желаю, – продолжал между тем Сутгоф, – обнаруживать перед вами настоящее имя «юнкера Петрова», – быстрый взгляд на покрывшегося испариной виновника, – в надежде, что он дальнейшим своим поведением заставит забыть свой проступок и сделается впоследствии доблестным офицером русской армии.
Уф-ф-ф! Отлегло.
В первых числах сентября 1865 года начальник Терской области получил телеграмму от генерала Сутгофа с поздравлением по случаю производства бывшего «юнкера Петрова» в генерал-адъютанты. В поздравлении 1878 года в связи с возведением генерал-адъютанта генерала от кавалерии Лорис-Меликова в графское Российской империи достоинство «юнкер Петров» уже не поминался.
Праздник жизни

Есть какое-то общее заблуждение в том, что юность – самая счастливая пора. В юности столько дури, что потом, когда подступает пора трезвых воспоминаний, хватаешься за голову от стыда и досады. Как правило, годы юности – упущенные годы, даже если они не убиты тяжестью труда. В жизни Михаила Тариеловича Лорис-Меликова не было полосы бездарнее и глупее, чем время службы в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, хотя был он тогда почти доволен и собою, и службой своей.
Снега, снега и сиреневый зыбкий похмельный туман. Вот, пожалуй, и все, что осталось от целых четырех лет жизни.
Пьянка началась едва ли не в тот самый день 2 августа 1843 года, когда господ юнкеров и подпрапорщиков поздравили с окончанием Школы и зачислением в гвардейские (а кого и в армейские) полки. Выпускной бал плавно перешел в проводы, проводы – в дорогу. Август был дождлив, но ощущение, если вспомнить, такое, будто с неба лило шампанское. Лишь на последней станции Спасская Полнеть корнеты одолели головную боль не новой порцией вина, а крепким чаем и стали приводить себя в порядок, дабы явиться к месту службы в надлежащем виде.
Станция эта являла собою ворота в аракчеевскую Россию, то есть такую Россию, где царит строго отмеренный линейкою и циркулем порядок. Здание станционное архитектурой своей являло торжество геометрии. И управлялся здесь аккуратный, дотошный немец Карл Иванович Грау, не чета пушкинскому бедному Вырину[12]12
Вырин – герой повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель».
[Закрыть].
В аракчеевские времена место расположения Гродненских гусар было отведено для поселений пехотных солдат и именовалось Штабом Первого округа. На берегу Волхова были выстроены строгим квадратом каменные двухэтажные Селищенские казармы. Внутри этого гигантского квадрата размещался полковой плац, великолепный манеж, каланча с гауптвахтою, за нею – дома для офицеров, особняк полкового командира и дворец на случай посещения августейших особ. Плац окружен был бульваром из постоянно, каждую весну подстригаемых лип и кленов – уже набравших силу тенистых деревьев. Красота!
Но какая-то холодная, отпугивающая красота. Армия в России времен Николая Павловича мало чем отличалась от тюрьмы. Известно, что узники русские больше всего на свете боятся тюрем образцовых, где все выметено, выскоблено, все сияет чистотой: там и порядки образцовые по своей жестокости. Редкий солдат проживет месяц без розги. Для обер-офицеров гвардейский полк был сущее наказание. Учения – смотры – парады. Парады – учения – смотры. И так вся жизнь. Впрочем, началась она весело.
Корнетам Николаю Голубцову, Ивану Леонову 2-му и Михаилу Лорис-Меликову жить было определено в Сумасшедшем доме – крайнем правом из офицерских флигелей, где селились холостые поручики и корнеты. Леонова тут же забрал в свою квартиру старший брат, а Лорис-Меликов с Голубцовым поселились на втором этаже в квартирке о двух комнатах с общей прихожей.
Дом, конечно, не зря прозван был Сумасшедшим. Едва новые офицеры вошли в него, невесть откуда – и справа, и слева, и сверху – обрушились на них громовые звуки гитары, расстроенного фортепьяно, лай домашних собак. Справа под скрипочку чей-то тенорок выводил:
Скажи, зачем явилась ты
Очам моим, младая Лила,
И вновь знакомые мечты
Души заснувшей пробудила?
Сверху, со второго этажа, нежный этот романс перебивал под барабанный бой по фортепьянным клавишам грозный бас:
На Казбек слетелись тучи,
Словно горные орлы…
Им навстречу на скалы
Узденей отряд летучий
Выше, выше, круче, круче
Скачет, русскими разбит:
След их кровию кипит.
Поневоле растеряешься. Однако ж растеряться им не дали. Комнаты молодых корнетов тотчас же заполнились народом. Юнкера прошлогоднего выпуска, в Школе относившиеся к ним несколько свысока, обрадовались старым знакомым, как дети, и с этого дня в отношениях между ними наступило равенство. Опять явилось шампанское, и на протестующий жест Лорис-Меликова Приклонский 1-й ответил гусарскою истиной:
– Как день ни бьешься, а к ночи напьешься. Гуляй, гусар! Завтра начнется другая жизнь.
Другая жизнь и началась. И нельзя сказать, чтоб очень веселая.
Гвардейский полк тем отличается от армейского, что готовится не к войне, а к параду. И если случается попасть в сражение, успех ожидает лишь того из господ офицеров, кто начисто забудет, чему его учили в полку, и в миг смертельной опасности вспомнит какие-то начала тактики из школьных, не выбитых аракчеевской муштровкой истин. Так что учения в гвардии главною целью имели не одоление внезапных нападений и не атаку из засады, а стройность рядов, отчетливость движений на разводах и парадах и безукоризненность формы.
Гвардейский полк – потешный. И русские императоры чрезвычайно гордились верностью традициям Петра; до самого 1917 года радовал их глаз парадный строй семеновцев, измайловцев, преображенцев. Увы, не тому Петру они были верные потомки. Любовь Романовых к потешным полкам была сродни поклонению фрунту Петра III. Недолго царил на Руси Петр Федорович, но глубоко пустили корни в романовскую породу его прусский характер и пристрастия. Соответственно августейшим вкусам и порядки в гвардейских полках сильно отличались от армейских.
Неисправность в форме во время дежурства и на карауле или, не дай Боже, ошибка в отдании чести старшему каралась значительно строже, чем промах, допущенный на учениях и чреватый серьезными ошибками в настоящем, неигрушечном сражении. Неподобающая, на взгляд начальства, прическа стоила дороже сбоя в маршруте. Кремневые ружья, которыми оснащена тогда была армия (а в Европе – давно уж нарезные), начищались песочком и кирпичом до такого блеска, что положительно теряли всякую возможность стрелять точно в цель. Гайки, прикреплявшие ствол к ложу, пригонялись как можно свободнее, чтобы приемы были, как выражался Михаил Павлович, темпистее.
Гродненский гусарский полк образован был в 1806 году, и первым его командиром стал генерал Яков Петрович Кульнев. В Отечественную войну 1812 года гродненцы в авангарде корпуса генерала Витгенштейна спасли Петербург, разгромив под Клястицами корпус маршала Удино. Это был последний бой славного героя генерал-лейтенанта Кульнева. Когда полк устремился в преследование французов, генерал был убит. По высочайшему повелению Александра I с 1824 года в честь этого сражения полк назывался Клястицким. Впрочем, недолго. За победы, одержанные над взбунтовавшимися поляками в 1831 году, император Николай Павлович восстановил полку прежнее имя и зачислил его в гвардейский корпус, которым командовал его императорское высочество великий князь Михаил Павлович.
Тут и кончилась вольница для полковых офицеров. Великий князь нашел, что старший его братец, наместник в Царстве Польском Константин Павлович, распустил гродненцев выше всякой меры и полк находится не в надлежащем виде. Едва ли не каждый корпусной смотр кончался тем, что кто-нибудь из командиров эскадрона или взвода на неделю водворялся на гауптвахту. В 1838 году найдена была полку и новая железная метла – его командиром был назначен молодой генерал-майор князь Дмитрий Георгиевич Багратион-Имеретинский.
Красавец князь характера был пылкого, сурового и необузданного. И в первую же неделю службы корнет Лорис-Меликов попал под его горячую руку. Он вывел свой взвод на учения, отрабатывались приемы рубки саблями, и корнет был чрезвычайно доволен своими гусарами – лихо у них получалось единым махом раскалывать сплеча чучело противника. На прочее он не смотрел.
– Господин корнет! Почему нижние чины выглядят не по форме?
Господин корнет только недоумевающе хлопал глазами в ответ. И сколько ни вглядывался в своих гусар, никаких отступлений от формы, хоть убей, увидеть не мог.
– У рядовых Малахова и Картинкина пуговицы не вычищены.
Корнет Лорис-Меликов недостаточно знал еще собственный взвод и не различал среди рядовых Малахова и Картинкина, известных в лицо командиру полка. Пуговицы на их мундирах и впрямь были чуть тускловаты.
Теперь-то, конечно, познакомился. И с Малаховым, и с Картинкиным. Солдат понизили на два класса и на неделю обрекли на грязные работы. Корнету же наказанием было двое суток гауптвахты, а чтобы не скучал ось под арестом, из канцелярии полка были принесены ему копии приказов, содержащих сведения о надлежащем внешнем виде гусар Гродненского полка. И в частности, такой, сочиненный еще в 1832 году генералом Эссеном: «Пуговицы надлежит чистить следующим образом. Растопив 1 золотник олова, смешать с 2 золотниками ртути; послюнив несколько пуговицу и взяв на палец сказанного состава, растирать оный и тотчас же чистить щеткою досуха».
Повод к второму аресту был еще глупее. Поскольку гусарам в равной степени положены были и кивера, и шляпы, Михаил первым делом заказал себе треуголку. Примерил – очень хороша ему треуголка. Вылитый Наполеон! Вышел на плац и нос к носу столкнулся с генералом. Ловко, по-уставному повернул во фронт, правая рука вскинулась, отдавать честь… Это ж азбука! К шляпе прикладывают левую руку. Поздно опомнился корнет Лорис-Меликов. Трое суток ареста.
С той поры шляпы не надел ни разу.
Вообще первые два года Лорис-Меликов частенько бывал на гауптвахте, впрочем, не чаще других. Чем больше дежуришь, – а на свежих выпускников Школы гвардейских юнкеров, как на новеньких, дежурства выпадали почаще прочих, – тем больше делаешь ошибок и, соответственно, чаще посещаешь суровое здание под каланчою. Не сразу выучился молодой корнет особому гвардейскому демократизму, заключавшемуся в том, что с фельдфебелями и унтер-офицерами надо дружить.
Дружить домами. Обер-офицеры в гвардии зависят от расположения к ним нижних чинов. А посему – не жмоться и всегда найди предлог одарить рублем или лишней чаркою водки своих помощников. А угощеньем не брезгуй. Крести детей, гуляй на свадьбах – короче, не чинись и не важничай.
Роздыху не было никакого. В октябре ожидался смотр начальника дивизии, и посему в понедельник учения конным строем, во вторник – пешим по конному, в среду и четверг – в пехотном строю по батальонному расчету, пятница и суббота – снова конный строй. И так – каждую неделю.
Смотр длился несколько дней, и командир 2-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенант Карл Густавович Штрандтман полком остался чрезвычайно доволен. Впрочем, князь Багратион был скептичен и намекал офицерам, чтоб не обольщались, довольство дивизионного командира нетрудно объяснить тем, что в полку служат оба его сына.
– Цыплят по осени считают, господа, а осень для вас наступит через две недели, когда на смотр приедет его высочество.
Как в воду глядел.
Полк выстроился в манеже по батальонному расчету. Великий князь Михаил Павлович оглядел строй и заметно помрачнел. Гусары, привычные к посадке на коне, во фрунте были нетверды, хотя на штатский глаз ряды смотрелись весьма браво. Так то на штатский глаз. А на генеральский – все не как у людей, то есть на парадах прусской армии блаженной памяти Фридриха Великого. Нет единого дыхания, солдаты думают Бог весть о чем и не едят преданными глазами начальство. Пеший строй – последнее увлечение великого князя, и тут уж он особенно строг и придирчив. Командир гвардейского корпуса был раздражен, и команда «Шагом марш!» прозвучала столь свирепо, что корнет Приклонский, ведущий 3-й взвод 1-го эскадрона, дрогнул и сбился с шага. И это перед самим великим-то князем!
Михаил Павлович пришел в ярость неописуемую. Лицо великого князя пошло багровыми пятнами. Справившись о фамилии корнета, он прошипел фразу, оставшуюся в русской армии бессмертной:
– Вся рота не в ногу, один корнет Приклонский в ногу. Семь суток ареста!
Генерал-майору князю Багратиону-Имеретинскому тоже досталось:
– Чем вы там с ними занимались?! Должной выправки нет! Шага настоящего – нет! Полк в совершенно неудовлетворительном состоянии!
Командир полка, впрочем, довольно спокойно выслушал распекания корпусного начальника, офицерам же сказал: