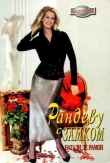Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Суббота
Даннекер[95]95
Известный своими зверствами эсэсовец Теодор Даннекер в то время возглавлял французскую канцелярию гестапо по делам евреев и руководил массовыми депортациями.
[Закрыть] приказал эвакуировать больницу Ротшильда[96]96
Еврейская больница, фактически превращенная с декабря 1941 г. в тюремную. При больнице существовал детский приют, затем хоспис. Медицинский персонал делал все возможное для спасения взрослых и маленьких пациентов: врачи и медсестры подделывали диагнозы и документы, всячески продлевали пребывание узников Дранси и детей в стационаре.
[Закрыть]. Всех больных, в том числе прооперированных накануне, отправили в Дранси. В каком состоянии? В каких условиях? Просто зверство.
Приходили Жоб и Брейнар. Жоб и слышать не хочет об отъезде. Играли очень красивый квинтет «Форель»[97]97
Инструментальный квинтет Франца Шуберта.
[Закрыть].
Воскресенье
Ездили в Обержанвиль – со всем семейством Бардьё. Весь день собирали фрукты. Дикая жара. А потом всю ночь была гроза.
Понедельник, 5 июля
Утром пришла вторая открытка от папы. Он пишет, как живет, как проходят дни. Все они одинаково пустые. В семь утра пробуждение, около этого слова стоит вопросительный знак – видно, папа не очень-то спит. В восемь – перекличка. (Однажды некий месье Мюллер, 58 лет, заболел и остался в постели, на него донесли, приехал Даннекер, тут же направился прямо к нему, увидел, что он лежит, да еще и в слишком хорошей пижаме, и велел его депортировать.) С восьми до десяти прогулка, шатания, как пишет папа. Он то и дело вворачивает шутливые словечки, от которых в таких обстоятельствах сжимается сердце. Вот дальше пишет о potatoes[98]98
Картофель (англ.).
[Закрыть]. Я прямо слышу его голос, он любил так говорить в Обержанвиле. От этого, с одной стороны, становится легче, как будто вот он, рядом, а с другой – нож в сердце. В половине двенадцатого дают суп, им же кормят в половине шестого. Обед каждый устраивает себе как может. Особенно долго тянется вторая половина дня – спать папа не хочет, чтобы потом не разбивать ночной сон. Играет в шашки, в скребл, в бридж. Это папа, который никогда ни во что не играл и каждый раз, когда в Обере, в маленькой гостиной, Жан с кем-нибудь еще усаживались за скребл, преспокойно работал за своим столом. Вечера проходят в разговорах. Папа рассказывает, как дела у месье Баша, Мориса, Жана Блока. Как он ходил к зубному, соседу по комнате. Пришлось привыкнуть спать под храп и без ставней, дома луна ему била в глаза. Одно место в письме было особенно больно читать, хоть это и мелочь. Папа пишет: «Можете прислать мне красной смородины. Другим присылают – я видел». От этих слов мне хочется сбежать куда подальше. В них есть что-то детское.
И вот так день за днем. Папа пишет, не верится, что прошла уже целая неделя. А я тут, на свободе, хожу, куда хочу, каждый день, каждый час нахожу себе разные дела, так что некогда думать.
Все тем же почерком, отлично приспособленным, чтобы писать какие-нибудь речи, деловые письма или открытки из разных мест, куда он ездил, – ровным, красивым, разборчивым, все так же умно описывает он жалкую жизнь в заточении, жизнь уголовного преступника в тюрьме.
Чудовищная несправедливость, гнусное издевательство – в такое трудно поверить, настолько это переходит все границы, а с другой стороны, мы уже ждем чего угодно.
Папа пишет, что месье Баш совсем пал духом. Он там сидит уже полгода, целых полгода! – и, видимо, потерял надежду, что этому когда-нибудь придет конец. А вместе с ней и желание жить дальше.
Папа живет ради нас. Верно, думает о нас днем и ночью. А ведь я его почти не знаю. Может быть, странно и дурно так говорить. Но папа, такой, каким его знает мама, мало кому открывается. И только иногда в этих его письмах что-то вдруг проглянет. Так вот, сегодня утром, прочитав последнее, я вдруг почувствовала, что мы с ним связаны нерасторжимо.
Вторник, 6 июля, утро
Неприятности скапливаются, как черные тучи на небе. Я удивляюсь собственной способности забывать и не думать.
Пришла открытка от Жерара. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что между нами произошло тяжелое недоразумение; я точно знаю что-то, чего не знает он, и я не хочу, чтобы он это знал; убеждаюсь, что я просто играла роль. Потому что любила писать. Но все же никогда не давала никакого слова.
Просто я думала, что все так и останется чем-то поверхностным, а для него само то, что я продолжала писать, означало углубление наших отношений.
Мне нравилось, что он пишет мне «милая Элен». Теперь же не получается это забыть, и кажется, будто бы он присвоил себе право вторгаться в мои чувства; а если я вспоминаю, что это обращение мне нравилось и я даже сама просила его так меня называть, оно представляется мне пустой, незначительной формулой.
* * *
В «Принцессе» Теннисона[99]99
Имеется в виду поэма «Принцесса» английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892).
[Закрыть] принц был подвержен странному недугу; он временами терял связь с реальным миром и погружался в потусторонний.
Я – как он, все происходит в жизни, наяву, вот я рассказываю Жерару что-то о Шекспире и не затрагиваю наших отношений, я всегда думала, что он хорошо меня знает и достаточно умен, чтобы понять, что я пишу, но вдруг мне бросается в глаза весь underlying[100]100
Скрытый смысл (англ.).
[Закрыть]. И делается как-то пусто и страшно.
Так, наверно, бывает, когда все происходит только в голове, а не в сердце.
* * *
Мы все втроем, Дениза, Николь и я, ходили на Тегеранскую улицу[101]101
На этой улице находились социальные службы УЖИФ.
[Закрыть] записываться в патронажную службу. По дороге смеялись, как сумасшедшие, скорее всего, это было что-то вроде exhilaration[102]102
Нездоровое веселье (англ.).
[Закрыть] от перевозбуждения. «Нечего вам тут делать! – сказал нам месье Кац. – Послушайтесь моего совета, уезжайте!» Но я его оборвала и ответила; «Мы не хотим уезжать». Тогда он сказал: «В таком случае нужно найти вам занятие».
Нам выдали довольно неприятные удостоверения[103]103
УЖИФ был учрежден правительством Виши по указанию оккупационных властей в ноябре 1941 г. и должен был объединить еврейские благотворительные организации, чтобы было удобнее отслеживать их деятельность. Арман. Кац был генеральным секретарем УЖИФ в оккупированной зоне. Элен Берр записалась волонтером в службу социальной помощи. Всем членам этой организации выдавались удостоверения или карточки (в подтверждение их легального положения), которые давали им некую иллюзию защищенности.
[Закрыть], Николь ужасно злится, говорит, что это уступка немцам. А я воспринимаю это как цену, которую надо заплатить за то, чтобы остаться здесь. Конечно, это некоторая жертва, потому что я терпеть не могу все эти в той или иной степени сионистские движения, которые невольно подыгрывают немцам; кроме того, это отнимет у нас много времени. До чего же странная у нас жизнь.
* * *
После обеда – с мадам Леви – сначала позвонила Франсуаза Пино, пригласила нас на субботу, а потом Клод Леруа, который любезно зашел ко мне часа в три.
Я до вечера ждала Сесиль Леман, но она не пришла. Ужинала с Николь, она пришла от Жана страшно взволнованная. Потом я пошла к Юдело[104]104
Врач-офтальмолог.
[Закрыть]. Урок Жанне Фок вместо меня дала Дениза, у меня теперь в это время назначены встречи, надеюсь, все как-нибудь само утрясется. Придумывать что-то уже нет сил. У меня воспалился глаз, а лечить его – муторное дело.
* * *
После ужина пекла печенье для Жака.
Близнецы[105]105
Имеются в виду близнецы Эммелина и Марианна Вейль-Рейналь. Семейство Вейль-Рейналь было в дружеских отношениях с Беррами. Сестры-близнецы, как и многие другие члены этой семьи, были депортированы и погибли в Аушвице.
[Закрыть] взяли и ушли. Марианна хочет, Эммелина нет. Хорошенькое дело.
Четверг, 9 июля
Плохо спала. Неудивительно после такого вечера. Поехали на целый день в Обер с Николь и Франсуазой. В саду тишина, мы собирали клубнику и красную смородину. Нам было хорошо и спокойно, хотя тяжелые мысли не уходили. Мы прекрасно понимаем друг друга, Франсуаза на той неделе уезжает и, мне кажется, уже не вернется. Кажется, происходит что-то непоправимое и я никогда больше не увижу тех, с кем расстаюсь.
Дома меня ждала Жизель. Получилось неловко. В малой гостиной сидела мадам Перилу. Николь с Франсуазой помогли мне перетаскать пакеты. Постепенно собралось много народу: месье и мадам Жакобсон, месье Леоте, месье Матей, маленькая мамина подопечная. А надо было проститься с Франсуазой и Николь, перебрать ягоды и выслушать Жизель. Она тоже уезжает и страшно расстроена. В воздухе витает ощущение конца света. Помимо всего прочего, пришла открытка от Жерара, и я никак не успевала ее прочесть; наконец прочла, пока мы с Жизель шли в лавку Тиффро. Очень печальное письмо. Но мне было некогда подумать.
Что-то соображать я стала потом, когда ушел месье Матей. Вчера вечером чаши весов опять уравновесились. Уже лежа в постели, я вдруг задумалась, почему не могу просто принять все как есть, пусть бы все шло как идет! И в полусне почти сдалась. Доводы, которые я приводила себе днем, улетучились, но сегодня утром вернулись. Хочу я того или нет, но ситуация обостряется: он пишет, что его планы зависят от меня. А мне это претит, я хочу быть свободной и не хочу, чтобы кто-то от меня зависел.
* * *
Сходила за фотографиями и отнесла их месье Кацу.
Днем зашла в магазин Бюде за книгами для Жака. Купила Светония и Вордсворта (себе). Заглянула в институт – там пусто, никого нет, потом прогулялась по Люксембургскому саду, теперь полному воспоминаний.
От бабушки пошла к мадемуазель Фок, застала там Денизу.
Нашла открытку от Жерара, написанную 22-го числа, и почувствовала, как он мне близок. Так это или нет?
Пятница, 10 июля
В библиотеке сегодня не было никакой работы. Я почти дочитала «Слепца в Газе»[106]106
Роман Олдоса Хаксли (1936).
[Закрыть]. Замечательно.
За мной зашла Николь.
К обеду пришла мадемуазель Детро.
Сегодня вышел новый приказ о метро. Еще утром на станции «Военная школа» я собиралась зайти в первый вагон. Как вдруг контролер грубо закричал: «Эй вы там, в другой вагон!» – и я поняла, что это он мне. Я помчалась со всех ног, пока поезд не ушел, еле успела сесть в предпоследний. И от бешенства, от унижения из глаз хлынули слезы.
Евреям теперь запрещается ходить по Елисейским Полям. В театры и рестораны тоже нельзя[107]107
Девятый антиеврейский закон немецких властей от 9 июля 1942 г. запрещал евреям посещать общественные места: театры, кино, музеи, а также библиотеки, стадионы, бассейны, парки, рестораны, чайные. И даже в магазины и другие торговые точки они имел и право заходить только с 15 до 16 часов.
[Закрыть]. Об этом сообщается в таком притворно-непринужденном тоне, как будто преследование евреев во Франции – нечто совершенно обыденное, само собой разумеющееся и узаконенное.
При одной мысли об этом во мне закипает дикая злость, вот пришла сюда успокоиться.
Мы с Бернаром и Николь ходили в галерею Шарпантье, потом Бернар позвал нас к себе домой на ужин.
Суббота, 11 июля
Музыка. Пришли Пино, Франсуаза Масс и Легран. Мы сыграли квинтет «Форель». Но принять гостей как следует не вышло. В половине седьмого пришли… корсетница и мадемуазель Монсенжон. А когда я вернулась в гостиную, было уже поздно. Все расходились. После ужина – Симоны.
Воскресенье, 12 июля
Обер с мадам Леви.
Понедельник, 13 июля
Ж. М. приходил в библиотеку. Он не стал дожидаться результатов экзамена и проводил меня домой, шли пешком.
Вторник, 14 июля
Серый тягостный день. Ничего не понимаю. Написала три резкие открытки и думаю, не глупость ли все мои «угрызения» и не разрушаю ли я сама свое же собственное счастье.
Может быть, причина моей резкости в другом. Меня, как никогда, раздирают сомнения. Утром получила еще три открытки. Каждая теперь для меня – настоящая пытка, потому что каждая ставит вопрос все острее. Я признаю, что он вправе сердиться и даже грубить. Живительно, что он это делает не так уж часто.
Не случится ли так, что однажды утром я проснусь и пойму, что все это были химеры и я упустила свое счастье?
Среда, 15 июля, 23 часа
Что-то готовится, что-то ужасное, быть может, самое ужасное.
Вечером, в десять часов, приходил месье Симон предупредить, что, как говорят, на послезавтра намечена большая облава, схватят двадцать тысяч человек. Я уже привыкла, что он приносит страшные вести.
День дурно начался – в обувной мастерской я прочитала новый приказ – и дурно кончился.
Вообще в последние дни всех вокруг охватил дикий страх. Кажется, власть во Франции принадлежит СС, и террор будет все нарастать.
Все осуждают нас за то, что мы не уезжаем. Обычно молча, но когда мы сами об этом заговариваем, то и вслух. Вчера мадам Лион-Кан, сегодня Марго, Робер, месье Симон.
Суббота, 18 июля
Вот я опять пишу. Думала, жизнь остановится в четверг. Но она продолжается. Она возобновилась. Вчера я провела весь день в библиотеке, и к вечеру ощущение нормальной жизни восстановилось настолько, что я уже не могла поверить в реальность того, что произошло накануне. И вдруг новый поворот событий. Прихожу сегодня домой, а мама говорит, что появилась надежда на лучшее для папы. С одной стороны, возвращение папы, с другой – этот переезд в свободную зону[108]108
Брат Элен Жак и сестра Ивонна Шварц, чей муж получил назначение в свободную зону, уже находились по другую сторону демаркационной линии.
[Закрыть]. То и другое непросто. Не знаю почему, но отъезд родных оказался для меня тяжелым ударом. Помню, я возвращалась, готовая бороться против зла вместе со всеми, кто на стороне добра, и пошла в Фобур-Сен-Дени к несчастной мадам Бьедер – ее мужа депортировали, и она осталась одна с восемью детьми. Мы с Денизой пробыли у нее с четверть часа, а когда ушли, я чуть ли не радовалась, что мне пришлось соприкоснуться с настоящим горем. И чувствовала свою вину за то, что раньше не видела такого, хотя оно было рядом. Сестру этой женщины, у которой четверо детей, забрали во время облавы. Она в тот вечер спряталась, но, по несчастной случайности, спустилась к консьержке как раз в ту минуту, когда за ней пришла полиция. Вид у мадам Бьедер затравленный. Ей не за себя страшно. Она боится, что у нее отнимут детей. Во время облавы детей волочили по земле. На Монмартре арестовали столько людей, что улицы были забиты. На Фобур-Сен-Дени забрали почти всех. Разлучали матерей и детей[109]109
За два дня, 16 и 17 июля 1942 г., французская полиция арестовала 12 884 человека: 3031 мужчину, 5802 женщины, 4501 ребенка. Холостых взрослых и бездетные пары отправили в Дранси, семьи с детьми – на Зимний стадион (Вель д’Ив) в. 15-м Округе Парижа.
[Закрыть].
Пишу наспех, только факты, чтобы не забыть, потому что это нельзя забывать.
В квартале у мадемуазель Монсенжон целое семейство, отец, мать и пятеро детей, отравились газом, чтобы их не забрали.
Одна женщина выбросилась из окна.
Говорят, были расстреляны несколько полицейских, которые предупредили людей, чтобы те успели убежать. Им всем угрожали концлагерем, если откажутся выполнять приказ. Кто будет кормить узников Дранси теперь, когда арестованы их жены? Маленькие дети навсегда потеряли родителей. К чему приведет то, что произошло позавчера вечером и вчера на рассвете?
На той неделе уехала двоюродная сестра Марго, но не смогла спастись: ее схватили прямо на линии[110]110
Демаркационной.
[Закрыть], бросили в тюрьму; ее одиннадцатилетнего сына допрашивали несколько часов, заставляя признать, что она еврейка; у нее диабет, и через четыре дня она умерла. Конец. Когда она впала в кому, тюремная медсестра переправила ее в больницу, но было уже поздно.
Я встретила в метро мадам Бор[111]111
Жена Андре Бора, вице-президента УЖИФ оккупированной зоны; они оба и четверо их детей были депортированы и погибли в Аушвице.
[Закрыть]. Она, как всегда, прекрасно держится, но видно, что совершенно подавлена. Не сразу меня узнала. И очень удивилась, что мы все еще здесь. В ответ на это мне всегда хочется гордо поднять голову. Она сказала, что у нас на Тегеранской улице прибавится работы. Скоро, по ее словам, доберутся до француженок. Когда она заговорила об Одиль, мне показалось, что все это было так давно.
И что же, придется уехать, уехать и променять борьбу, героизм на жалкое прозябание? Нет, я что-нибудь придумаю.
Народ у нас замечательный. Говорят, все простые парижские работницы, которые жили с евреями, а таких немало, просят разрешение вступить с ними в брак, чтобы спасти от депортации.
* * *
Да и просто на улице, в метро незнакомые мужчины и женщины полны сочувствия. Трудно выразить, как теплеет на душе от их добрых взглядов. Понимаешь, что ты выше мучителей, а все настоящие люди с тобой. И, по мере того как усиливаются гонения, эта связь становится все прочнее. Все искусственные разделения: национальные, религиозные, социальные – я в них и не верила никогда – уходят, уступают место состраданию и сплоченности против зла.
* * *
Я хочу остаться здесь, чтобы до конца осознать все, что случилось на этой неделе, хочу остаться, чтобы встряхнуть и растревожить равнодушных.
Пишу это и думаю о «Бранде» Ибсена, вчера начала читать эту пьесу. И по ассоциации – о Ж. М., который мне ее дал.
Я, конечно же, знаю – и вполне откровенна с собой, – что хочу остаться еще и из-за него. Знаю и то, что у меня нет ни малейшего желания встретиться с Жераром. Увидеться с Ж. М. – вот единственное, о чем я думала всю неделю. Я видела его в понедельник, а в четверг утром он прислал письмо – по поводу того, о чем он просил узнать папу[112]112
Знакомую Жана Моравецки Тамару Иссерли арестовали за то, что она, еврейка, отказалась садиться в последний вагон метро. Жан хотел узнать, не в Дранси ли она. На самом деле ее отправили в Аушвиц 22 июня 1942 г.
[Закрыть]. Я тут же написала ответ. И когда запечатывала конверт, прибежала от молочницы Дениза и, задыхаясь, сказала: «Схватили всех – и женщин и детей! Только маме не говори». Я все подробно расскажу – приделала к письму постскриптум, в котором обещала это сделать. Возможно, получится что-то похожее на «Последний день приговоренного к смерти» Гюго[113]113
Повесть Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1829) описывала мысли и чувства человека, осужденного на смертную казнь.
[Закрыть]. Меня трясло, как в лихорадке: предположение о том, какого масштаба катастрофа готовится, не укладывалось в голове.
Наконец вчера днем, после нескончаемого четверга и испорченного утра пятницы, я пошла в институт. Придет ли он, я не знала. Временами появлялось что-то вроде предчувствия: нет, не придет. И становилось тоскливо. Я поняла: библиотека для меня – это он. К счастью, там была чудесная Моник Дюкре. Поначалу я вообще была in a haze[114]114
В тумане (англ.).
[Закрыть], разбитая после бессонной ночи, и ничего не соображала. Но понемногу отошла в спокойной знакомой обстановке. Время подошло к четырем, а Ж. М. все не приходил. Заглянул Мондолони, и почему-то это меня обнадежило. Потом кто-то заслонил мне проход, а когда я обернулась, то узнала со спины его плащ и волосы. И сразу успокоилась. Довольно долго мы не разговаривали. Я была занята, он тоже. И мне еще всегда неловко из-за того, что я его ждала. Весь вчерашний кошмар словно рассеялся. Не знаю, что бы со мной было, если б он не пришел.
Мне нисколько не стыдно это писать. Пишу, потому что это правда, а не моя выдумка. Возможно, я просто привыкла его видеть, но дни, проведенные с ним, – лучшее, что есть в моей жизни, и я не хочу этого лишаться. Во вторник я была совершенно измучена и растеряна после понедельника, весь день: во время визита на улицу Лоншан[115]115
Т. е. к родителям Жерара.
[Закрыть] и потом. В среду утром думала только о том, как бы увидеть Ж. М. И не отгоняла эту мысль, чтобы проверить, насколько она сильна.
8 часов вечера
Новый приказ, девятый: запрещено входить в магазины, разрешается только между тремя и четырьмя часами (в это время все лавки закрыты).
Мама позвонила мадам Кац. Завтра утром – массовая депортация в Дранси, и уточнение, чтоб мы не волновались: не заберут ни одного француза-ветерана[116]116
Правительство Виши протестовало против депортации ветеранов войны, а также их жен.
[Закрыть], только иностранцев (включая ветеранов) и женщин. К ним отовсюду поступает множество несчастных детей: из Бельфора, из Монсо-ле-Мин.
Вечером приходила Франсуаза[117]117
Франсуаза Бернейм тоже работала в УЖИФ, была арестована 30 июля 1943 г. 2 сентября депортирована в Аушвиц, где и погибла.
[Закрыть], рассказывала, что творится на Вель д’Ив, куда согнали тысячи детей и женщин: дети кричат, некоторые женщины рожают, все это на голой земле, рядом немцы-охранники[118]118
На Вель д’Ив заключенных охраняли не немцы, как думала Элен Берр, а французская полиция.
[Закрыть].
Мы, как обычно, музицировали. Совершенно невероятно, что Франсуа еще здесь. Он все время смеется, отшучивается. Но все прекрасно понимает. В этом мужестве есть какое-то трагическое безумство. Мы словно идем по канату, который с каждым часом натягивается все туже.
Часам к семи пришла Франсуаза Пино, принесла тексты из Эколь нормаль, которые просил Жак. Держалась она так, будто все как обычно, но я чувствовала: она что-то хочет и не может сказать. Только быстро пробормотала, что они готовы выполнить любое наше поручение, а ее мать позаботится о продуктах.
Воскресенье, 19 июля, вечер
Еще подробности.
Какая-то женщина сошла с ума и выбросила в окно четверых своих детей. Полицейские приходили по шестеро, с электрическими фонариками.
Месье Буше рассказывал про Вель д’Ив. Туда согнали двенадцать тысяч человек – настоящий ад. Уже немало смертей, канализация забита и т. д.
Вчера вечером – новости от папы.
Уже два дня они сидят взаперти в своей полутораметровой каморке. Он видел ужасные сцены. Эжена Б. скрутил ревматизм, он лежит в ужасном состоянии.
* * *
С утра – вместе с Пино. В четверть десятого я зашла за Франсуазой. Мы сели в метро. Лил дождь. Франсуаза такая спокойная, уравновешенная, от нее заряжаешься бодростью.
Жан ждал нас в Эколь нормаль. Я выслушала ответы по истории, по французскому и по литературе. Сначала смущалась. Это мало чем отличалось от обычных школьных экзаменов. Но все же было как-то неудобно: Жан Пино позвал меня и посвятил в свои дела. Несколько студентов в очках. Но вообще пусто, не считая поступающих и тех, кто сдает агрегасьон. Возвращались пешком. Обошли все мои любимые улицы, вышли на площадь Пантеона, мокрую, в туманной дымке, но оттого еще более милую сердцу.
Меня обогнал на велосипеде Крюссар. Я узнала его только потом, но мог бы он и сам остановиться.
Я с жаром говорила об ужасах, которые творятся тут, и о том, что мне претит отъезд в свободную зону, а зря. Потому что Жан прошептал: «Мне двадцать один, такому, как я, тяжело сидеть сложа руки. Тошно». Я знаю, о чем он думает, и боюсь, как бы он не погиб совсем молодым смертью храбрых. У него благородная душа. Это прекрасно, но и очень страшно. Трудно описать это чувство.
* * *
С друзьями, которые появились в этом году, меня связывают такие искренние, глубокие, уважительно-нежные чувства, каких не может быть ни с кем другим. Это тайный союз товарищей по несчастью и по борьбе.
* * *
Пришла домой в половине первого. У мамы и Денизы были красные глаза. Я не стала расспрашивать, что случилось, ждала, пока они скажут сами. Дениза плачет постоянно, и это неудивительно. Но на этот раз была и конкретная причина: наш отъезд стал действительно необходимым. Мама утром ходила к Рене Дюшмену; обычно он архиспокоен и оптимистичен, сегодня же сказал, что все-таки надо готовиться к отъезду.
А вот, в общих чертах, что произошло в четверг.
Поскольку французские рабочие отказываются ехать в Германию, Лаваль[119]119
Пьер Лаваль (1883–1945) – премьер-министр правительства Виши в 1942–1944 гг. Организовал насильственный вывоз лучших французских рабочих в Германию, разрешил на неоккупированной территории деятельность гестапо для борьбы с Сопротивлением, руководил арестами и отправкой на уничтожение евреев Франции.
[Закрыть] продал польских и русских евреев, уверенный, что никто не станет протестовать. Возмущенные рабочие стали противиться еще упорнее. Есть еще один, третий, контингент приезжих евреев (из Турции, Греции и Америки), а потом настанет очередь французских.