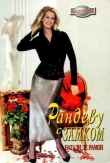Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Элен Берр
Дневник
1942–1944
Переводчик и издательство благодарят за помощь в подготовке книги Мемориал Шоа в Париже, Карен Тайеб, Арину Истратову, Сесиль Вессье, Елену Баевскую.
Особая благодарность Мариэтте Жоб, терпеливо отвечавшей на все вопросы и безвозмездно предоставившей для данного издания фотографию книги Поля Валери
Предисловие[1]1
Часть сносок в этой книге (они выделены курсивом) содержится во французском издании 2008 г., по которому выполнен перевод. Однако для русского издания сделаны дополнительные примечания, при составлении которых переводчик во многом опирался на сведения, любезно предоставленные Мариэттой Жоб, племянницей Элен Берр и публикатором «Дневника», а также на материалы из архива парижского Мемориала Шоа.
[Закрыть]
1942 год. По Парижу идет молодая девушка. Смутная тревога и дурные предчувствия томят ее той весной, и потому в апреле она начинает писать дневник. С тех пор прошло более полувека, но сегодня, читая эти страницы, мы становимся ее современниками. Проживаем день за днем вместе с ней, страдавшей от одиночества в оккупированном Париже. И слышим совсем близко ее голос в онемевшем городе…
В первый день, во вторник 7 апреля 1942 года, она идет на улицу Вильжюст, 40, в дом Поля Валери, – старый поэт, которому она набралась смелости написать, оставил для нее у консьержки книгу с дарственной надписью. Она звонит в дверь, на звонок с лаем выскакивает фокстерьер. «Месье Валери мне ничего не оставлял?» На форзаце Валери написал: «Для мадемуазель Элен Берр». И ниже: «Ясным утром свет так ласков и дышит жизнью синева».
Читаешь записи за апрель и март, и кажется, что для Элен Берр все в Париже созвучно этой фразе Поля Валери. Она ходит в Сорбонну, пишет диплом по английской литературе. Встречается с «сероглазым юношей»; они познакомились на концерте в Литературном доме на улице Суффло – слушали кантату Баха, концерт для кларнета и оркестра Моцарта… С ним и другими друзьями она гуляет по Латинскому кварталу. «На бульваре Сен-Мишель людно и солнечно, – пишет Элен. – От улицы Суффло до бульвара Сен-Жермен простирается моя страна чудес». Иногда она на целый день уезжает в загородный дом в Обержанвиле под Парижем. «День распустился во всей красе, с чистого, полного прохлады рассвета до тихого, мягкого вечера, нежно дохнувшего на меня, когда я закрывала ставни». Ей двадцать лет, она тянется к счастью, ей нравится скользить по нарядной поверхности жизни, в ней сочетаются артистизм и трезвый ум. Она увлечена английской словесностью, особенно поэзией, и, возможно, со временем станет тонким писателем вроде Кэтрин Мэнсфилд. Читая первые полсотни страниц ее дневника, почти забываешь, в какое страшное время он писался. Но вот в один апрельский четверг после лекций в Сорбонне она гуляет с приятелем по Люксембургскому саду. Они остановились у пруда. Элен любовалась солнечными бликами на воде, игрушечными корабликами и синим-небом – той самой, упомянутой Полем Валери в надписи на книге, синевой. А ее спутник сказал:
– Немцы победят в этой войне.
– Что же с нами будет, если они победят?
– Да ничего не изменится. Будет все то же: солнце, вода…
– Но любоваться светом и водой они позволяют не всем! – через силу выговорила я.
И хорошо, что не промолчала, – мне было бы стыдно.
Это первое упоминание о тьме, сгущающейся вокруг, и собственном душевном смятении, но прозвучало оно полунамеком, вскользь, так что мы лишь догадываемся, как одиноко ей в этом равнодушном солнечном городе. Кончается весна 1942 года, Элен ходит теми же парижскими улицами, но контраст между светом и тьмой все сильнее, и постепенно все охватывает мрак.
А в июне 1942-го начинаются настоящие испытания. В понедельник 8-го она должна первый раз надеть желтую звезду. Ее тяга к счастью и гармонии составляет диссонанс с чернотой и ужасом происходящего. «На улице чудесная погода, ясное утро, совсем как у Поля Валери, – пишет она. – И сегодня я впервые выйду из дома с желтой звездой. Две стороны нынешней жизни: светлое утро – воплощение свежести, молодости, красоты и желтая звезда – порождение варварства и зла». «Севр-Вавилон» – Латинский квартал. Двор Сорбонны. Библиотека… Обычные маршруты. Как поведут себя ее товарищи? «Я чувствовала: всем им горько и неловко». В метро на станции «Военная школа» контролер посылает ее в последний вагон, отведенный для пассажиров с желтыми звездами. Элен рассказывает о своих противоречивых чувствах. «Сначала я решила ее [звезду] не носить. Надеть ее – значило бы унизить себя, подчиниться немецким законам… Но вечером передумала – теперь мне кажется, что не надеть звезду – предательство по отношению к тем, кто наденет». На следующий день, наедине с собой она отвечает на воображаемый вопрос, почему она все же надела звезду: «Потому что хочу испытать свою смелость».
24 июня все тем же ровным тоном Элен описывает ужасное происшествие, которое ей пришлось пережить и которое определило все дальнейшее. «Хотела записать еще вчера вечером… Заставлю себя сделать это сегодня утром, чтобы ничего не забыть». А случилось вот что: ее отец был арестован и выдан французским полицейским Управлением по делам евреев немецкому гестапо, затем переведен в префектуру полиции, и вскоре его должны отправить в лагерь Дранси. Причина: желтая звезда на пиджаке была не пришита, а только приколота (чтобы легче переносить на другую одежду). Похоже, в префектуре не делали особого различия между «французскими» и «иностранными» евреями. Итак, Реймон Берр, отец Элен, горный инженер, вице-президент концерна «Кюльман», кавалер Военного креста и воинского ордена Почетного легиона и один из восьми человек своей «расы», защищенных 8-й статьей закона от 3 октября 1940 года («В соответствии с должным образом; обоснованным персональным решением Государственного совета на евреев, имеющих особые заслуги перед французским государством в области литературы, науки, искусства, не распространяются предусмотренные настоящим законом ограничения»), сидит на деревянной скамье под охраной полицейских. Жена и дочь добились разрешения увидеться с ним. У него отняли галстук, шнурки и подтяжки. «Чтобы нас успокоить, полицейский объяснил, что таков приказ, поскольку накануне один заключенный чуть не повесился».
В ту минуту, когда Элен увидела отца, которого стерегут, как преступника, в грязной каморке полицейской префектуры, в ее уме происходит окончательный перелом; между этим опытом и спокойной студенческой жизнью пролегла, как она пишет, «непреодолимая пропасть». Однако тон дневника остается прежним, без надрыва и пафоса. Сдержанные короткие фразы доказывают душевную стойкость Элен. Депортация отца в Дранси заставила ее отчетливо осознать все, что омрачает и отравляет парижскую атмосферу лета 1942 года, но чего не видят те, кто занят повседневными делами, или предпочитает закрывать глаза. У Элен глаза открыты. Хрупкая девушка, артистическая натура, она могла бы ради самосохранения или просто от ужаса отвести взгляд могла бы, в конце концов, уехать в свободную зону[2]2
После капитуляции Франции в июне 1940 г. страна была разделена на две зоны: оккупационную на севере и так называемую свободную на юге, со столицей в Виши, где находилось коллаборационистское марионеточное правительство.
[Закрыть]. Но нет, она: не прячется, напротив, в ней просыпается естественное сочувствие, – желание помогать тем, кому плохо и больно. 6 июля 1942 года она записывается волонтером в УЖИФ[3]3
УЖИФ (Union Générale des Israélites Français, UGIF – Всеобщий союз французских евреев, легальная организация, представлявшая евреев в оккупированной Франции.
[Закрыть], чтобы оказывать помощь узникам лагерей Дранси и Луаре. Отныне каждый день она сталкивается с семьями арестованных, видит вблизи непрерывный кошмар: Зимний стадион[4]4
В июле 1942 г. была проведена самая крупная за все время нацистской оккупации облава на евреев. Тысячи человек, в том числе детей, согнали на парижский Зимний стадион, где держали несколько дней, после чего отправили в лагеря смерти.
[Закрыть], Дранси, вокзал Бобиньи, откуда по утрам отправляются набитые людьми товарные составы. «Вам нечего тут делать! – говорит ей один из руководителей УЖИФ. – Послушайтесь моего совета – уходите». Но она остается. Выбор сделан, и обратного пути нет.
Думая о ее мужестве, искренности, чистой душе, я вспоминаю строки Рембо:
Элен предчувствовала, что этот путь ведет к смерти. «Счет идет уже не на недели, а на часы», – писала она. Или еще: «Мне почему-то нужно искупление». Некоторые страницы дневника Элен Берр, который она задумала как послание Жану, тому самому «сероглазому юноше» из Латинского квартала, не зная даже, попадет ли оно когда-нибудь в его руки, напоминают написанные в то же время пронзительные письма философа Симоны Вейль Антонио Атаресу[6]6
В 1941–1942 гг. французский философ Симона Вейль состояла в переписке с испанцем Антонио Атаресом, содержавшимся в концлагере Верне.
[Закрыть]. Да, Симона тоже могла бы написать: «С друзьями, которые появились в этом году, меня связывают такие искренние, глубокие, уважительно-нежные чувства, каких не может быть ни с кем другим. Это тайный союз товарищей по несчастью и по борьбе». Но в отличие от нее Элен Берр полна счастливого задора, она радуется погожим дням, с удовольствием бродит по солнечным парижским улицам со своим сероглазым другом, а в списке ее любимых книг нет ни одного философского трактата – только романы и стихи.
На девять месяцев дневник прерывается. А потом Элен возвращается к нему в ноябре 1943-го. Красивый плавный почерк первой части рукописи становится угловатым и неровным. Нет ничего красноречивее, значительнее этой девятимесячной немоты – за ней стоит то невообразимое, что Элен пришлось увидеть и пережить. «Все женщины, которые работали со мной, арестованы», – записывает она. Лейтмотив: «Другие не знают…», «Никто не понимает», «Не могу говорить – мне не поверят…», «Слишком много такого, о чем не расскажешь…» И внезапное признание: «Никто никогда не узнает, каких ужасов я навидалась этим летом».
Или вот: «Мы сейчас живем в большой истории. Те, кто облечет теперешнюю жизнь в слова, смогут по праву гордиться собой. Но будут ли они знать, сколько человеческих страданий вмещает каждая строка этого описания?» После долгого молчания голос Элен звучит так же чисто, но словно доносится издалека, почти так же, как голос Этти Хиллесум в «Письмах из Вестерборка»[7]7
Этти Хиллесум – молодая нидерландка, работавшая в 1942 г. волонтером в концлагере Вестерборк, а в 1943 г. погибшая в лагере смерти Аушвиц (около польского города Освенцим). После войны были опубликованы ее дневники и письма.
[Закрыть]. Она еще не вступила в последний круг ада. И привычно подмечает волнующие мирные мелочи: воротца в парк Тюильри, листья на воде; восхищается немеркнущей красотой Парижа. Покупает в книжной лавке Галиньяни Конрада и Стерна. Но все чаще по скупым обмолвкам, по упомянутым в дневнике названиям улиц мы понимаем, что ее носит по опасным, гиблым местам. Улица Бьенфезанс. Это там, прямо на работе, арестуют таких же, как она, волонтеров социальной службы, в том числе ее подругу Франсуазу Бернейм. Сама Элен только чудом не попала в эту облаву. Улица Клода Бернара. Приют для детей и подростков, где подонки-полицейские из Управления по делам евреев занимаются грабежом – потрошат вещи, конфискованные у тех, кого отправили в концлагеря. Улица Воклен. Здесь жили девушки, которых схватили и депортировали за несколько дней до освобождения Парижа. Детский центр на улице Эдуара Нортье в Нейи. Элен часто бывала там, занималась с детьми, водила их на прогулки, а заболевших отвозила в детскую лечебницу на улице Севр или в больницу Ротшильда на улице Сантера. Среди них маленький Дуду Вайнриб «с лучезарной улыбкой», малышка. Одетта, Андре Кан – «любимчик из Нейи», которого она держала за руку, и четырехлетний мальчик, чьего имени никто не знал. Почти всех заберут 31 июля 1944 года.
Как-то раз я решил пройти по всем этим улицам, чтобы испытать на себе одиночество Элен Берр. Улицы Клода Бернара и Воклен расположены неподалеку от Люксембургского сада, на границе «континента Контрэскарп», как назовет эту местность поэт[8]8
Имеется в виду поэт Жиль Ивен (псевдоним Ивана Щеглова, 1933–1998).
[Закрыть], в живописном оазисе посреди города – трудно вообразить, что и туда проникло зло. Улица Эдуара Нортве – рядом с Булонским лесом. Наверняка в иные вечера 1942-го всем, кто гулял по этим улицам, война и оккупация казались чем-то далеким и нереальным. Всем, кроме молодой девушки по имени Элен Берр, которая знала, что прямо тут, вокруг страдают люди и творятся зверства, но понимала, что сказать об этом спокойным и равнодушным прохожим невозможно. И потому писала дневник. Догадывалась ли она, что через много лет он будет прочитан? Или боялась, что ее голос заглохнет так же, как голоса миллионов бесследно исчезнувших жертв? Открывая эту книгу, хорошо бы помолчать, прислушаться к голосу Элен Берр и пойти с нею рядом. Этот голос и эта душа останутся с нами на всю жизнь.
Патрик Модиано, Лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 года
Это мой дневник. Остальное находится в Обержанвиле

Первая страница дневника, запись от 7 апреля 1942
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
1942
Вторник, 7 апреля, 4 часа дня
Сегодня я ходила… в дом, где живет Поль Валери. Собралась наконец забрать свою книгу. После обеда было солнечно, ни намека на дождь. Я доехала на 92-м до площади Звезды. Потом пошла по улице Виктора Гюго и тут стала трусить. На углу улицы Вильжюст чуть не повернула обратно. Но строго сказала себе: «Надо отвечать за свои поступки. There’s по one to blame but you?[9]9
Сама затеяла – сама расхлебывай (англ.). Дословно «Некого винить, кроме себя» (прим. верст.).
[Закрыть]». И робости как не бывало. Самой странно стало, с чего это я вдруг испугалась. Всю прошлую неделю и сейчас, до этой самой минуты, я не видела в своем поступке ничего особенного. Это мама сбила меня с толку – она ужасно удивлялась, как это я решилась на такую дерзость. А по-моему, все очень просто. Я шла и, как всегда, витала в облаках. Позвонила в дверь дома номер 40. На звонок с лаем выскочил фокстерьер, потом появилась консьержка. Недоверчиво спросила: «Вы к кому?» Я ответила самым непринужденным тоном: «Месье Валери мне ничего не оставлял?» (При этом как-то отстраненно – как будто глядя на себя издалека – удивлялась собственной наглости.) Консьержка шагнула в свой закуток: «На чье имя?» – «Мадемуазель Берр». Она направилась к столу. Я точно знала – книга здесь. Консьержка поискала на столе и протянула мне сверток в белой бумаге. «Большое спасибо», – сказала я. «К вашим услугам», – любезно ответила она. И я вышла, едва успев разглядеть свое имя, аккуратно выведенное на свертке. А на улице сразу его развернула. На форзаце тем же разборчивым почерком было написано: «Для мадемуазель Элен Берр». И ниже: «Ясным утром свет так ласков и дышит жизнью синева. Поль Валери».
Радость захлестнула меня – радость, созвучная тому, как виделся мне мир, поющая в унисон с веселым солнцем и чисто умытым, украшенным пенистыми облаками синим небом. До дому я дошла пешком, довольная своей маленькой победой – что-то скажут родители! – и тем, что самое невероятное сбывается.

Книга, которую Поль Валери подписал для Элен Берр.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
* * *
Жду мисс Дэй[10]10
Частная учительница английского языка.
[Закрыть] – она должна прийти к ужину. Небо вдруг потемнело, дождь хлещет в окна; кажется, будет нешуточная гроза – вот уже молния сверкнула, прогремел гром. Завтра мы собираемся устроить пикник в Обержанвиле[11]11
В Обержанвиле под Парижем находился загородный дом семьи Берр.
[Закрыть] – будут Франсуа и Николь Жоб[12]12
Франсуа Жоб – будущий муж Денизы, сестры Элен. Николь – его сестра.
[Закрыть], Франсуаза и Жан Пино, Жак Клер. Еще недавно, спускаясь по ступенькам на Трокадеро, я с радостью думала об этом: по крайней мере можно будет развеяться. А сейчас моя радость потускнела. Впрочем, гроза почти прошла, скоро выглянет солнце. И почему такая переменчивая погода? То плачет, то смеется, прямо как ребенок.
* * *
Вчера заснула, дочитав вторую часть «Муссона»[13]13
Роман американского писателя Луиса Бромфилда (1937), действие которого разворачивается в колониальной Индии.
[Закрыть]. Замечательная книга. Чем дальше, тем больше ею восхищаюсь. Позавчера прочитала разговор Ферн с матерью, двух одиноких женщин. Вчера вечером – про наводнение, дом Беннерджи и Смайли. Я как будто сама живу среди этих героев. Рэнсом – мой старый знакомый, он такой славный.
* * *
Весь вечер прошел в предвкушении того, что будет завтра. Не то чтобы я бурно веселилась, но душу наполняла какая-то тихая радость, она то забывалась, то поднималась снова. Я готовилась так основательно, будто уезжаю в дальние странствия. Поезд в восемь тридцать три. Надо встать без четверти семь.
Среда, 8 апреля
Вернулась из Обержанвиля. Было столько всего: воздух, солнце, ветер, дождик; я так счастлива, так устала, что ничего не соображаю. Помню только, что перед ужином в маминой спальне меня вдруг скрутила ужасная тоска, без всякой разумной причины, просто прекрасный день подходил к концу, еще немного – и придется оторваться от этого благодатного места. Никак не могу смириться с тем, что все хорошее кончается. Но чтобы впасть в отчаяние – такого я сама от себя не ждала. Я-то думала, эти детские штучки давно забыты, но получилось как-то само собой, я не успела спохватиться и даже не пыталась побороть эту напасть. Дома нашла две открытки – одну от Одиль, другую от Жерара[14]14
Одиль Небюрже, лучшая подруга Элен, и Жерар Лион-Кан (1920–2004), с которым она была помолвлена. Жерар воевал в составе Свободных французских войск. Впоследствии стал известным юристом.
[Закрыть], сердитую, резкую. Он насмехается над моим письмом. Я уж не помню, что писала, но думала, он меня поймет. Отвечу в таком же тоне.
* * *
Слипаются глаза. Я совсем разомлела, перед глазами прокручивается весь сегодняшний день: вот мы на вокзале – серое небо и дождь; едем в поезде, шутим, болтаем, уверены, что все сегодня будет хорошо; вот первый раз вышли в сад, гуляем под дождем по мокрой траве, вдруг показалось солнце, и небо, начиная с маленького лоскуточка, расчистилось; перед обедом играем в deck tennis[15]15
«Палубный теннис», или ринго, – игра, в которой игроки перебрасываются резиновым кольцом через сетку.
[Закрыть]; обедаем на кухне, всем страшно весело, посуду моем всей компанией, Франсуаза Пино старательно вытирает тарелки, Жоб с трубкой в зубах их аккуратно расставляет, Жан Пино несет тарелку или вилку, кто-нибудь обнимает его на ходу, он смеется, разводит руками; потом гуляем по дороге – ясно, солнечно, и вдруг короткий ливень; разговор с Жаном Пино, возвращение домой, там нас ждет Жак Клер; опять идем гулять все вместе, доходим до Незеля, небо чистое до горизонта, наливается светом и цветом; приятный ужин: несладкий безвкусный шоколад, варенье, хлеб; все счастливы; едем обратно, мы с Денизой и обеими Николь[16]16
Двоюродная сестра Элен и сестра Франсуа Жоба.
[Закрыть] сидим впритирку на скамье, чтобы мог поместиться и Жоб, у меня пылают щеки; напротив Жан Пино, такой красивый: мужественное лицо и светлые глаза; прощаемся в метро, все улыбаются, довольные, день правда удался. Все это видится и очень близким, и каким-то странно отдаленным. Я знаю, все уже прошло и я в своей комнате, но в то же время слышу голоса, вижу лица, фигуры, словцо меня окружают призраки живых людей. Ведь этот день – уже не совсем Настоящее и еще не совсем Прошедшее. Воспоминания, картинки наполняют тихим шелестом ночной покой.
Четверг, утро, 9 апреля
Проснулась в семь часов. В голове все смешалось. Вчерашняя радость, вечерняя обида, сегодняшнее состояние unpreparedness[17]17
Неготовности что-либо делать (англ.).
[Закрыть], потому что позавчера дальше следующего дня ничего не планировала, досада на Жерара – если подумать, напрасная, он прав, что надо мной смеется; серьезное и вдохновенное лицо Жана Пино в поезде; мысль о том, что Одиль уехала насовсем как раз тогда, когда между нами стала завязываться настоящая глубокая дружба. Как я теперь без нее?
Суббота, 11 апреля
Так захотелось взять и прямо сейчас послать все подальше. Мне надоело, что я не могу жить нормально, не могу чувствовать себя совершенно свободной, как в прошлом году, и не имею права стать такой, как прежде. Я будто привязана к чему-то невидимому, короткая привязь не пускает на волю, так что я начинаю ненавидеть это незримое препятствие, хочу его разрушить.
Хуже всего, что внутренне сама-то я чувствую себя по-прежнему свободной, но перед другими, перед родителями, перед Николь и, главное, перед Жераром, вынуждена играть некую роль. Что бы я ни сказала, они все равно будут убеждены, что моя жизнь изменилась. И пропасть между этими двумя взглядами с каждым днем расширяется. Есть «я», которое изо всех сил старается снова стать таким, каким было всегда, каким осталось бы, если бы ничего не случилось; и есть другое «я», какое, по мнению всех окружающих, должно было прийти на смену прежнему. Или, может, это новое «я» – плод моего воображения? Да нет, не думаю.
Чем больше проходит времени, тем тягостнее мне нынешнее положение. Как получилось, что оно вызывает во мне неловкое чувство, от которого хочется убежать, спрятаться?
Вот почему когда вечером, вернувшись домой, я нашла письмо от Жерара, в котором он пишет, что мы увидимся не раньше осени, то расплакалась, впервые за много месяцев. Не то чтобы я огорчилась, но страшно устала от этой смутной неловкости. Не могу больше оставаться в ложном положении – ложном, да, ложном! – перед ним, перед родителями, перед Денизой, Николь, Ивонной. У меня была надежда, что он приедет и все наконец прояснится. А выходит, еще всю весну и все лето жить вот так… И я никому ничего не могу объяснить. Я подняла голову – страшно хотелось назло неведомо кому и чему, недолго думая, выложить все как есть… Эх, я бы с таким удовольствием!.. Но кончилось тем, что я засунула эту новость в кучу. Какая она неприятная.
Прекрасно понимаю, что сама все запутываю, но как так получается?
Всему причиной – к такому заключению я неизменно прихожу – то, что я ничего не могу решить, пока не увижу его опять и не узнаю лучше.
С этим никто и не спорит, но вот чего родители, мне кажется, не понимают: для меня этот вывод имеет абсолютное, буквальное значение – я абсолютно ничего не знаю о том, как все обернется, и я абсолютно не склонна ни к какому решению, а просто жду результата, будто слежу за спортивным матчем, в котором сама не участвую.
Наверно, дело в том, что я совсем не выношу неопределенности. Чтобы освободиться и вернуться к нормальному состоянию, мне необходимо поставить точку. Любое изменение в привычном течении жизни выбивает меня из колеи. Я, как сказала бы Дениза, «домоседка».
Как только я все это поняла, я стала просто ждать, когда же кончится этот матч, который разыгрывается где-то там, вне меня; чем кончится, мне безразлично, лишь бы скорее.
Но это тянется так долго, что я, как ни стараюсь, не выдерживаю напряжения. Поэтому я сорвалась, когда узнала, что оно еще продлится.
Поэтому я ненавижу всю эту историю и чуть ли не сама довожу ее до абсурда. В глубине души я не хочу никаких перемен, хотя они в подобных случаях неизбежны. Но пусть эта перемена окажется быстрой и, главное, радостной, как и должно быть, когда все хорошо!
Конечно, я могла бы сегодня вечером броситься на кровать, разрыдаться и сказать маме, что я хочу одного – чтобы все стало как раньше. И мама стала бы меня утешать, и я заснула бы, с соленым привкусом слез во рту, зато со спокойной душой. Но на душе у мамы, когда она вернется в свою спальню, тяжести прибавится.
Да и не уверена я, что смогла бы. Это значило бы поддаться self-pity[18]18
Жалости к себе (англ.).
[Закрыть], а я стала очень строгой к себе – по-моему, сейчас это нужнее всего. Только поэтому я удержалась, а вовсе не из гордости. Какая там гордость рядом с мамой – смешно! И не потому, что не желала выставлять напоказ и преувеличивать страдание, которое на самом деле не так уж сильно, – ведь тем самым я бы добилась только одного: сделала бы его cheap[19]19
Жалким (англ.).
[Закрыть]. Нет, я говорила бы честно и искренне. Но я не хочу огорчать маму. Хватит того, что папа получил сегодня извещение об изъятии[20]20
Речь идет о так называемой арианизации экономики, то есть конфискации собственности, недвижимости, предприятий, принадлежавших евреям. Начиная с осени 1940 г. как оккупационные немецкие власти, так и правительство в Виши последовательна осуществляют меры по изъятию имущества евреев и передаче его временным управляющим.
[Закрыть], и мама все это тяжело переживает, хотя виду не подает.
It sufficeth that I have told thee[21]21
Довольно и того, что все поведал я тебе (англ.). Возможно, Элен переделывает строчку Шекспира из трагедии «Юрий Цезарь»: «Довольно и того, что день придет к концу» (акт V, сцена 1).
[Закрыть] тебе, мой белый лист; мне уже полегчало.
* * *
Подумаем о другом. О сказочна красивом сегодняшнем, совсем уже летнем дне в Обержанвиле. Он был великолепен с самого начала до конца, с сияющего, полного прохлады и надежды восхода до тихого вечера, который и сейчас, когда я подошла закрыть ставни, дохнул на меня ласковым теплом.
Утром, как только мы приехали, я начистила картошки и сразу побежала в сад – вот где мне всегда хорошо. И там меня, как старые знакомые, ждали те же, что прошлым летом, ощущения, но только свежие и обновленные. Слепящий простор огородных грядок, восторг от того, как буйно все растет под утренним солнцем; чудесные открытия на каждом шагу, тонкий аромат цветущих кустов, пчелиный гул; неровный, будто бы слегка хмельной полет невесть откуда взявшейся бабочки. Все это я узнавала с невыразимой радостью. Села на скамейку и замерла, вдыхая воздух счастья, от которого сердце мое таяло, как воск; каждый миг дарил что-то новое: вот в сплетении пока еще голых ветвей какая-то птаха, которой я прежде не слышала, вдруг придется пробовать голос и вспоротая им тишина тотчас заполнится другими птичьими голосами, далеким воркованием голубей, чьим-то щебетом, а вот еще одно чудо: гляжу не нагляжусь на капельки росы, усыпавшие траву; чуть поведешь головой – и алмазы превратятся в изумруды, а потом в червонное золото. Один из этих маленьких фонариков дошел аж до рубиновой густоты. И тут мне вздумалось запрокинуть голову и посмотреть а на мир снизу вверх – какая же гармония красок открылась в раскинувшемся вокруг пейзаже: синее небо, сизая дымка холмов, подернутые туманом розовато-зеленоватые или бурые поля, коричневые и приглушенно-рыжие черепичные крыши, мягко-серая колокольня, и все залито нежным светом. Только зелень молодой травы у меня под ногами вносила резкую ноту, словно была единственным клочком живой яви в этом зачарованном пейзаже. «На картине такое зеленое пятно на пастельном фоне показалось бы неуместным», – подумала я. Но в реальности ему нашлось место.