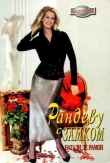Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Воскресенье, 31 октября, 7.30
Только что разобрали Четвертый квартет Бетховена. Приходила Анник. Несмотря на нашу неуклюжесть, внутренняя мелодия, анданте Так хороши, что меня пробрало до дрожи. Душа моя словно расширилась, вся я наполнилась звуками, и почему-то хочется плакать. Я так давно не слушала эту музыку. Всем сердцем призываю Жана. Это с ним мы слушали квартеты, он научил меня любить их.
Понедельник, 1 ноября
Вчера вечером дочитала «Имморалиста». Кажется, я не понимаю Жида, не улавливаю смысл его книг, потому что он едва намечен, сама проблема изложена не совсем ясно. Зачем Мишель довел жену до смерти? Чего ради? Что позитивного в его позиции? Она даже не выражена определенно.
Кроме того, философия Жида противоположна моей собственной; в его желании от всего получать удовольствие есть что-то дряхлое, вымученное, рассудочное, эгоистичное.
Он исходит из заранее продуманной схемы, его Я – центр мира, ему не хватает смирения, великодушия. Нет, он мне не нравится.
Даже стиль его мне кажется, так это или нет, каким-то вычурным, манерным, устаревшим. Некоторые фразы коробят своей неестественностью.
Мои мысли бесконечно вращаются вокруг двух осей: первая – человеческое страдание, живое, ощутимое страдание людей, которых арестовывают и депортируют; вторая – разлука с Жаном. Две эти боли слились воедино, одну от другой уже не оторвать.
Я будто ворочаюсь с боку на бок в постели – и так мучение, и этак.
* * *
Утром получила письмо от мадам Кремье, которая пишет: «Я совсем отчаялась». Боже мой, чем я могу ей помочь? Теперь-то мне легко себе представить, что с ней стало за полтора года тревожного ожидания и неизвестности.
Как-то раз, когда нам обеим с Франсуазой захотелось обнять мадам Кремье, Франсуаза сказала: «Знаете, Элен, она так несчастна, ей сейчас так плохо». Франсуаза всегда весело улыбалась, но в голосе ее – так и слышу его до сих пор – угадывалось искреннее сочувствие. Мы тогда удивлялись, откуда у таких женщин, как мадам Кремье, берется столько сил, чтобы вынести чудовищные испытания. Франсуаза говорила, что она похожа на ребенка, у которого отняли все, – да, мне тоже так потом казалось. А теперь вот и сама Франсуаза… Ее веселый, срывавшийся на высокие ноты голос, ее радостный смех тоже смолкли и звучат только в моей памяти. Она еще сравнивала мадам Кремье с мадам Шварц. Сколько зияющих пустот вокруг меня! После облавы 30 июля меня долго не отпускало чувство, что я – единственная уцелевшая после крушения, и в голове звенела и плясала одна и та же фраза. Пришла незваной и преследовала меня, это слова из Книги Иова, которыми заканчивается «Моби Дик»:
Никто никогда не узнает, каким убийственным было для меня это лето.
С той первой высылки 27 марта 42-го (день, когда депортировали мужа мадам Шварц) мы так ничего ни о ком и не узнали. Говорили, будто депортированных отправляют на русский фронт и пускают впереди войск, чтобы они подрывались на минах.
Еще говорили об отравляющих газах, которыми убивают всех, кого привозят составами на польскую границу. Должно быть, это не беспочвенные слухи.
И подумать только, что каждый, кого арестовали сегодня, вчера, даже прямо сейчас, обречен на эту страшную участь. Что это еще не закончилось, а продолжается и продолжается с какой-то сатанинской регулярностью. И если, например, меня арестуют сегодня вечером (а я давно этого жду), через неделю я буду где-нибудь в Верхней Силезии, а возможно, уже буду мертва, и вся моя жизнь, а с ней вся бесконечность, которую я чувствую в себе, исчезнет.
И так будет с каждым, кого это уже настигло и кто тоже вмещал в себя целый мир.
Понимаете, почему меня так потряс дневник Антуана Тибо?
В эту минуту я смерти не боюсь, потому что думаю, что, когда она придет, я уже не буду думать. Я сумею выкинуть из головы мысли о том, что я теряю, смогла же я забыть о своих желаниях.
И вообще, столько вокруг тех, кто каждый день жертвует своей жизнью. Люди внезапно придвинули к нам Смерть, расширили ее зону действия, удесятерили ее силу.
Но мне не хочется представлять себе Смерть в виде какого-то существа, как у Дюрера, как в сознании средневекового человека или у Акселя Мунте. Нет, ее следует мыслить не как отдельную сущность, но как проявление божественной воли.
Вот только это трудно сделать, когда каждый день видишь столько смертей, причиненных людьми. Как будто есть не одна, а две Смерти: та, которую посылает Бог, – «естественная»; и та, которую сотворили сами люди.
А должна быть только одна. Не вправе человек отнимать жизнь у человека.
Ливень Смерти проливается над миром. Убитых на войне называют героями. Ради чего они умерли? Те, кто сражался на другой стороне, были уверены, что защищают то же самое. А ведь каждая жизнь так драгоценна сама по себе.
Многих возмутило бы то, что я пишу. Но, прислушайся они к здравому смыслу и к своему сердцу, разве они пришли бы к чему-то иному? Мне кажется, я не труслива, потому и смею писать такое. Те же, что в ответ на мои слова примется вопить о «мужестве», «доблести», «патриотизме», просто заморочены ложными страстями. Они заблуждаются, они слепы.
Разве и в прошлую войну после двух лет на фронте солдаты не чувствовали себя, как им казалось, «разочарованными», тогда как на самом деле у них просто рассеивались эти ложные страсти? И тогда они признавались, что в них не осталось даже ненависти к бошам и вообще они забыли, что такое ненависть. Об этом говорится в «Жизни мучеников» Дюамеля, в «Эпилоге» «Семьи Тибо», в «Чудесном улове» Пурталеса[222]222
«Чудесный улов» – роман франко-швейцарского писателя Ги де Пурталеса (1937).
[Закрыть].
Сами они считали, что на них обрушилась тяжкая глыба роковой неизбежности и сопротивляться бесполезно. Однако эту глыбу раскачали люди, и эта «неизбежность» – дело рук человеческих.
«Жизнь мучеников» подарила мне на день рождения мадам Шварц. Без Жана мой день рождения был, конечно, ущербным, но все-таки его скрасили друзья и письма от него. Теперь же меня лишили всего, я чувствую себя оголенной, naked to the awaited stroke[223]223
Беззащитной перед грядущим бедствием (англ.).
[Закрыть].
Да, после «Жизни мучеников» я упала духом: эта книга написана с предельной беспристрастностью, которую я почитаю более всего, но вид с этой высоты внушает лишь отчаяние. Каково же решение? Быть может, люди пристрастные счастливее, поскольку для них решение, пусть и ошибочное, существует, им понятно, что делать, они знают, кого ненавидеть, и это гораздо удобнее, чем жить без ненависти.
По-моему, высшая добродетель, к которой может стремиться человечество, это такая вот беспристрастность. А дальше… я пока не знаю, не вижу решения, не могу об этом говорить, по мне, это все равно что рассуждать о загробной жизни. Но предчувствую, что верное решение лежит на этом пути, и первый шаг к нему – беспристрастность.
Вот почему «Жизнь мучеников», хоть в ней не высказано окончательное суждение, очень полезна как урок. Дюамель не дает собственной оценки, он приводит факты, беспристрастно говорит о результатах войны, безумной, свирепой, слепой, и, главное, полностью разоблачает страшное заблуждение, которое лежит в ее основе.
Помню, сначала эта бесстрастность меня удивляла и раздражала. «Ну, и к чему он ведет?» – вертелось в голове. Но со временем я поняла, что в этой книге заложена великая мудрость, которая мне открылась.
«Реальным становится только то, что пережито в действительности: даже пословица – не пословица, пока жизнь не докажет вам ее справедливости»[224]224
Из письма Джона Китса Джорджу и Джорджиане Китс – от 14 февраля – 3 марта 1819 г. (Пер. Сергея Сухарева.)
[Закрыть].
Китс.
Выписала эту фразу, никак не связанную со всем предыдущим, потому что она поразила меня сегодня утром, в ней сформулировано главное, что не дает мне покоя: проблема человеческого взаимопонимания и сочувствия. На мой взгляд, из этого проистекает все.
Это я утром опять штудировала Китса и, как и прежде, очень увлеклась.
Как бесконечно много наша мысль способна охватить за несколько часов!
* * *
Два часа – с Николь.
Все те же люди: Франсуаза Воог, Перец, Элиана Ру.
Вторник, 2 ноября
Утром была с мамой в Нейи.
Дети меня не отпускали – все хотели уехать со мной. Деде Кан горячо сказал – так и вижу его умоляющую мордашку, черные, на диво черные при светлых волосах глаза, всегда готовые заискриться весельем: «Хочу, чтоб ты спала рядом со мной!» Это высшее проявление его любви.
Среда, 3 ноября
Еще одно насыщенное утро – удивительно! Я оказалась свободна. Наконец-то привыкла к хаотичной жизни, приучилась использовать свободные часы, как только они выдаются, и больше ничего не делать по заранее составленному плану. Понадобились все эти потрясения, все обстоятельства, которые уже целый год мешают мне вести нормальный образ жизни, чтобы довести меня до этого, заставить уступить – я говорю уступить, потому что мало кому так, как мне, претят всякие перемены. Настолько, что я опасалась даже новых развлечений, впечатлений, какими бы соблазнительными они ни были (например, путешествий или непредвиденных событий), потому что они могут внести в мою жизнь беспорядок и еще потому что я пред ними робела.
Так вот, сегодня утром я занималась в своей старой комнате. Корпела над «Одами» Китса, делала выписки.
Просидела два часа и поняла, как прав Вольф[225]225
Имеется в виду Люсьен Вольф, один из крупнейших исследователей творчества Китса.
[Закрыть], говоря, что основное свойство поэзии Китса – это сила внушения. Например, когда я прочитала «Оду к осени», она еще долго звучала, lingered deliciously[226]226
Сладостно длилась (англ.).
[Закрыть] во мне.
Хочу, чтобы Жану передали еще и мои заметки, особенно большую коричневую тетрадь в картонной обложке, потому что они – такое же мое отражение, как эти листки. Я не успела написать, что думаю сама о Китсе, но мои выписки из литературы о нем точно показывают, что мне в нем нравится или не нравится.
Четверг, 4 ноября
Утром ходила на первое собрание слушателей курса Казамиана.
Вот что я думала перед этим: я начинаю третий учебный год без права заниматься вместе с теми, кто готовится к агрегасьон, просто как «вольнослушатель». Почувствую ли я и на этот раз прелесть первого учебного дня?
Смогу ли вернуться в свою обычную стихию после всего, что пережила этим летом?
Будет ли меня мучить воспоминание о том, как год назад я пришла на первую лекцию и очень огорчилась, что Жана нет (он еще был в Париже)?
А вот мои теперешние впечатления: я полна разных планов, страшно хочется работать, делать задания, писать рефераты. Никакой неловкости я не почувствовала, во всяком случае, гораздо меньше, чем в прошлом году. Может, теперь я прочнее срослась с Сорбонной?
И – как в насмешку! – у меня так мало времени. Как совместить с учебой Нейи и все остальное, занимающее столько времени? Что же делать?
Пока что я не принимаю в расчет никакие препятствия. Взяла на третий триместр тему реферата по Шелли. Сама понимаю, что это одни разговоры, смеюсь над собой, но пусть – это будет забавно, такая веха в непроглядно темном будущем.
* * *
Видела Савари. Совсем как в прошлом году. В это же время. Но он мне решительно не нравится.
Пятница, 5 ноября
Лекция мадам Юшон.
И первый урок у Надин. Прошел год. Такие регулярные возвраты лучше всего размеряют время.
Целый год, и ничего не изменилось.
Суббота
Мадам де ла В. – к ужину, Надин Анрио, музыка у Жобов.
Говорят, по английскому радио передавали какие-то страшные вещи о польских лагерях.
Воскресенье, 7 ноября
Шарль и Симон.
В воскресенье вечером, когда мы с Шарлем сидели вдвоем в малой гостиной, он рассказывал мне, как их арестовывали и его разлучили с родителями, и сказал: «Я даже плакать не мог, так мне было плохо».
Причем говорил без всяких эмоций, matter of fact[227]227
Безразличным (англ.).
[Закрыть] тоном. Но он это не придумал, это подлинное воспоминание.
Понедельник, 8 ноября
В библиотеке – приходил немец, спрашивал англосаксонские книги. Знал бы он, к кому обращается! В довершение всего единственный язык, на котором мы могли общаться, был английский – презабавная ситуация!
Мари-Луиза Реж вернулась из Крёза, ходят слухи, что туда прибыли немцы с пулеметами, чтобы истреблять еврейских беженцев. И постепенно пройдутся так по всем департаментам.
Отвозила Анну в больницу Ротшильда, по пути она рассказала мне про свою двоюродную сестру родом из Польши, которая потеряла на этой войне четверых сыновей. А муж ее умер от отравления газами на предыдущей. Жизнь ее разбита, она отдала Франции всех близких, а теперь скрывается, живет как загнанный зверь, почти помешалась.
Дома меня ждала открытка от того несчастного военнопленного, что все спрашивает, удалось ли мне что-нибудь выяснить про его двенадцатилетнего сына, о котором уже год ничего не известно. Что может быть ужаснее положения таких, как он: они вернутся и не найдут ни жен, ни детей!
Вторник, 9 ноября
Утром отвезла в детскую больницу девчушку двух с половиной лет, похожую на маленькую арабку. В больнице она все время плакала и звала маму – инстинктивно, механически. «Ма-ма!» всегда срывается с губ, когда нам больно и плохо. Я вздрогнула, когда различила эти два слога в потоке рыданий малышки.
Ее мама и папа были депортированы, ее отдали няне, а потом и оттуда забрали! И она месяц провела в лагере Питивье.
Жандармам дали приказ забрать у няни двухлетнего ребенка и отправить в лагерь, и они его выполнили. Вот оно, самое наглядное доказательство нашего нынешнего озверения, полного морального падения. И это самое ужасное.
Страшно, что моя реакция – протест – на происходящее остается исключением, тогда как все должно быть наоборот: отклонением от нормы должны считаться они, те, кто способен на такие вещи!
Оправдание всегда такое же, как то, что дал мадам Коэн полицейский инспектор, явившийся в ночь на 10 февраля в приют, чтобы арестовать тринадцать детей, старшему из которых было тринадцать, а младшему пять лет (родители их были депортированы или пропали, но надо было укомплектовать очередной состав, где не хватало нескольких человек до тысячи): «Что вы хотите, мадам, я исполняю свой долг!»
Дойти до того, чтобы считать своим долгом нечто несовместимое с совестью, справедливостью, добром и милосердием, – это несомненный крах всей нашей так называемой цивилизации.
Ладно еще немцы – там уже у целого поколения старательно развит рецидив варварства (у них это повторяется периодически). Так что мозги у них атрофировались. Хотелось, однако, надеяться, что с нами такое не пройдет.
* * *
Ужасно еще и то, что мы почти не видим тех, кто всем заправляет. Система так отлажена, что ответственные лица показываются мало. А жаль, иначе протест был бы шире.
Или мне так кажется, потому что я смотрю извне? Ведь нужно же хотя бы минимальное количество людей, которые все организуют и осуществляют.
* * *
Однажды на улице мне пришло на ум: «Нет, неверно, что немцы – народ художников, раз они изгоняют таких, как Менухин и Бруно Вальтер[228]228
Иегуди Менухин (1916–1999) – великий американский скрипач. В апреле 1945 г., буквально через несколько дней после гибели Элен Берр в лагере Берген-Бельзен, он дал концерт перед только что освобожденными узниками этого лагеря. Бруно Вальтер (1876–1962) – немецкий дирижер и пианист, в 1939 г. покинул Германию после прихода нацистов к власти.
[Закрыть], раз отказываются слушать виолончелиста, потому что он другой веры или, как они утверждают, другой расы. Отказываться читать Гейне… не укладывается в голове».
Среда, 10 ноября
Страшно беспокоюсь за близких. Возвращалась сегодня после встречи с мадам Моравецки, вконец уставшая за день, но прижимая к груди пачку мыла, которую Жан мне прислал через мать; оно лавандовое, этот запах сохранился у него на руках, когда мы расстались, а внутри была еще бумажка – память о другом мыле (о том, что я посылала ему в прошлом году). Это лучше всего доказывало, что, несмотря на разделяющее нас молчание, он думает обо мне. Еще у меня есть его последняя фотография.
Папа прочел мне зашифрованное письмо Ивонны[229]229
С ноября 1942 г. перестала существовать свободная зона. Немцы оккупировали всю территорию Франции. Преследования евреев усилились и на юге, где находились Жак Берр и Ивонн а Шварц, брат и сестра Элен Берр.
[Закрыть]. Она пишет о разъезде. Я сразу поняла. Разговор с Мари-Луизой Реж открыл мне глаза, так что трудно было не догадаться. Они будут действовать методично: департамент за департаментом. Боюсь, и новое убежище окажется ненадежным.
Мы тут уже привычные, и так хочется защитить других – как их, должно быть, ошарашило. А что делать, если все убежища рухнут одно за другим?
Не станет и маленькой тихой гавани, где письма и фотография Жана могли бы укрыть меня хоть на краткий миг. Но я больше беспокоюсь за других. Сама не жалуюсь и ни о чем не жалею. Чем суровее испытание, тем, может быть, лучше.
Ну и денек! Была на свадьбе Анни Дижон в Сен-Жермен-де-Пре и потом на банкете. Там были Пино (и еще много знакомых). Теперь мне всегда грустно после встречи с Пино. И свадьбы утомляют и удручают.
Пятница, 12 ноября
После обеда примчалась разъяренная мадам Агаш – она узнала, что молодую мадам Бокановски, которую поместили в больницу Ротшильда вместе с двумя грудными детьми, увезли в Дранси, где уже давно находится ее муж. Она была вне себя и все спрашивала маму: «Как? Они депортируют детей?»
Не могу передать, как тяжело мне было видеть, что до нее дошло только теперь, когда дело коснулось ее знакомых. Мама, видимо, почувствовала то же самое и ответила ей: «Мы уже год твердим вам об этом, а вы не хотели верить».
Не понимать, не ведать, даже когда знаешь, – значит держать закрытой дверь в свою душу; и, только когда она распахнется, человек по-настоящему осознает хотя бы часть того, о чем пассивно знал. Это самая большая трагедия нашего времени. Никто ничего не знает о чужих страданиях.
И я подумала: как могут говорить о христианском милосердии те, кто неспособен на сострадание и братскую любовь? Разве вправе они считать себя посланцами Христа, самого рьяного социалиста в мире, чье учение основано на равенстве и братстве всех людей? Да им вообще неизвестно, что такое братство. Жалость – да, пожалеть они могут, по-фарисейски, потому что жалость подразумевает превосходство и снисхождение. Нужна не жалость, нужно понимание – понимание, которое позволит им почувствовать всю глубину, всю неизбывность человеческого страдания, чудовищную несправедливость такого обращения с людьми и разбудит протест.
Мысленно я говорила мадам Агаш: «Теперь вы понимаете, почему мы в тревоге и скорби? Мы страдаем за других, за всех людей, а вы просто жалели тех, о ком слышали».
Но разве она хоть когда-нибудь видела, что творится у меня в душе? Она всегда видит меня спокойной, занятой сотней разных дел. Так что это и моя вина. Моя внешность вводит людей в заблуждение. Мне бы решиться показать себя такой, как я есть, отбросить стыдливость или гордость, заставляющую меня все еще выглядеть как все, и не принимать их жалости; решиться выказать свое смятение, ради того чтобы добиться своей цели: обнажить страдание во всех его видах.
Мне часто кажется, что я играю роль, тогда как должна бы не притворяться спокойной, а обнажать и углублять пропасть, отделяющую нас от других людей, не делать вид, что ее нет, не отворачиваться от нее из деликатности, как мне нередко случается, чтобы они не подумали, будто я их упрекаю.
Если бы люди знали, как истерзано мое сердце!
Вчера из больницы забрали сорок четыре больных, в том числе одного с последней стадией туберкулеза, двух женщин с дренажами в животе, одну потерявшую речь, одну на сносях и мадам Бокановски.
Но зачем? Зачем депортировать таких людей? Это же нелепость. Чтобы они работали? Они же умрут по дороге.
Боже мой, какой ужас! Вокруг густой мрак, и я не вижу выхода. Я готова выслушать самые жуткие рассказы, вобрать всю боль, но я не знаю, как быть, все слишком страшно.
* * *
Теперь я уже справилась с этим чувством, подавила его как не имеющее право на существование. Но перед ужином у меня мелькнула мысль: что плохого в желании очутиться наконец в тихой гавани, среди любви и ласки? Чтобы меня холили и лелеяли, чтобы расплавились доспехи, которыми я, одиночка, заслонялась от бури. Или нет, плавиться нечему, но придется оживлять глубинные пласты. Настанет ли день, когда я перестану быть одна, captain of ту soul[230]230
Сама себе госпожа (англ.).
[Закрыть] когда мне можно будет окунуться в материнскую (как ни парадоксально это прозвучит!) нежность Жана? Хочу, чтобы меня качали, как ребенка. Пока что я сама забочусь о детях. А потом мне понадобится много, очень много нежности. Тем больше, что сейчас мне этого нельзя.
Я не могу просить участия у мамы, ее душа – такой же раскаленный уголь, как моя. Я нахожу в ней свою боль, свою печаль, в страдании все равны, так что и мы с ней ровня, хоть она мне мать. Когда она сажает меня на колени и тихонько обнимает, я только плачу. Но легче не становится – утешить меня, знаю, она уже не может.
Неделю назад я горела желанием взяться за работу. Но оно быстро прошло. Да я и понимала, что это лишь иллюзия. Ее рассеял один случай, сам по себе пустяковый, но многое обнаруживший. Вчера я вернулась из Сен-Дени только в четверть восьмого и потому опоздала на занятие к Делатру. А он отдал тему, которую я наметила, другой студентке. Я подошла к нему после занятия, извинилась и спросила, нельзя ли мне ее вернуть (он мог бы это сделать, не говоря уже о том, что мог бы, как любезно поступил в то же утро Казамиан, закрепить ее за мной даже в мое отсутствие), но он не захотел и сказал мне: «Если вас нет, ваше место занимают другие». От огорчения, обиды и просто от того, что со мной довольно грубо обошлись, у меня слезы навернулись на глаза, и я еще час не могла успокоиться. Думала о том, что я с таким трудом пытаюсь удержаться в университетской жизни, которая для меня так важна; что ведь Делатр знал, как дорога мне умственная работа, знал, что я к ней способнее, чем многие другие. Я добровольно пожертвовала ею, а это было бы хоть каким-то возмещением.
Ну а потом и, в общем-то, без особого труда, поскольку я легко могу от чего-то отказаться, даже забыть об этом, заставить себя сделать, что сочту нужным (никогда не могла объяснить мадам Шварц, что это значит, а это главное в моем характере), я решила прекратить все попытки готовиться к агрегасьон.