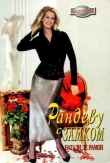Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Суббота, 13 ноября
Вчера вечером читала «Винни-Пуха», которого дала мне Жаннина Гийом. Улыбалась про себя и даже смеялась в голос. Попадаешь в типичную атмосферу английского детства, мне сразу вспоминается мисс Чайлд. А какие остроумные находки, какой тон – серьезный и веселый, автор подшучивает над детьми и восхищается ими, прекрасно понимает, что они намного выше взрослых. Я была в восхищении.
Утром, после урока немецкого, поднялась по улице Родье, дошла до улицы Ламарка под проливным дождем, вода струилась по ступенькам Сакре-Кёр.
К обеду пришли Дениза с Франсуа и мадемуазель Детро. Мне непременно нужно было рассказать кому-нибудь про «Винни-Пуха». Я начала и сразу же заметила, что это никому не интересно. Но все-таки продолжила, хоть видела, что злоупотребляю вниманием сидящих за столом и надоедаю им. Быть назойливой неприятно, но я преодолела это чувство. Мне в голову не пришло, что другим нет дела до моего «Винни-Пуха». Извечная моя проблема: найти с кем поделиться своим восторгом, иначе мне, одной, радость не в радость. Теперь никого из тех, с кем я могла бы поделиться, не осталось, в первую очередь Жана.
Все же мадемуазель Детро меня выслушала и похвалила прекрасные иллюстрации к «Винни», и вот я, стоя на коленках около ее кресла, давай объяснять ей, про что там.
Объясняла плохо, не получалось передать всю прелесть оригинала, на французский это непереводимо, а мадемуазель Детро этот дух не так близок, как Денизе и маме. Однако я не останавливалась, мои щеки пылали. Другие вокруг разговаривали о своем, и мы были как бы отдельным, отрезанным от всех островком. Я позабыла обо всем, только изо всех сил старалась дать ей почувствовать очарование книги.
Потом мама, немножко сонная, с улыбкой спросила: «Ну и что там было с этим Винни?» Но я знала: она спрашивает не столько потому, что заинтересовалась «Винни-Пухом», сколько удивленная моим пылом. Ей интересна не книжка, а я. Еще, конечно, она хотела сделать мне приятное. Ну, и забавно было. Но не было понимания этой книжки, которого я так добивалась.
Я зашла к Галиньяни. «Винни-Пуха» не нашла, зато нашла «Алису в Зазеркалье» – продолжение «Алисы в Стране чудес» и книжку детских стихов того же автора, который написал про Винни, тоже с отличными картинками.
Потом пили чай с мадам Кремье. Мы с ней пришли одновременно.
Никому не понять, какой ужасной жизнью живет мадам Кремье. Я только отдаленно могу себе это представить. А знать никто не может. Как-то она мне сказала: «Вам не понять, Элен. Мне и самой-то временами кажется, что это какой-то сон. Открываю дверь и думаю: „Муж, наверное, дома“, – и тут же думаю, что это невозможно, ведь его нет». Как тяжело это слушать!
Несколько раз звонил телефон, один раз сказали, что в понедельник будет депортация. После звонков мы не могли вернуться к разговору, что-то мешало. Но надо было, чтобы она поменьше думала об этих вещах.
Она хотела что-то отыскать в своей тетради, которая лежала в ящике мадам Шварц. Что ж, все кончено, безвозвратно ушло. Наше бюро, мадам Шварц, ласковый взгляд ее блестящих глаз и легкая улыбка. Смешливая Франсуаза, которая сновала туда-сюда с какой-нибудь бумажкой в руках. Мадам Робер Леви, статная, красивая, всегда собранная, всегда в хорошем настроении и полная оптимизма, мадам Кан, которая вечно ворчала и ругалась с курьерами, Жак Гетшель, заходивший проверить картотеку, мадам Орвиллер, уже встревоженная и удрученная множеством бед, – все это оживает во мне, но обеззвученно, как dumb show[231]231
Пантомима (англ.).
[Закрыть], одни фигуры, голосов не слышно, и оттого страшновато.
А ведь этот разгром не был нам наказанием, мы всего лишь старались помочь несчастным людям. Мы знали обо всем, что происходит, каждый новый приказ, каждая депортация прибавляли нам боли. Нас считали предателями[232]232
Организация УЖИФ была легальным посредником между немецкими оккупационными властями, правительством Виши и еврейским населением. Поэтому ее деятельность многими осуждалась.
[Закрыть], потому что туда приходили те, у кого только что арестовали кого-нибудь из близких, и нас они, естественно, воспринимали именно так. Учреждение, существующее за счет чужой беды. Я понимаю, люди так и думали. Со стороны оно примерно так и выглядело. Но каждое утро сидеть, как на службе, в конторе, куда посетители приходят справиться, был ли такой-то арестован или депортирован; сортировать письма и карточки с именами женщин, мужчин, стариков и детей, которых ждет жуткая участь. Ничего себе служба! Довольно страшное занятие.
Да, правда, у меня настолько вошло в привычку по утрам, в один и тот же час проделывать один и тот же путь, что раза два мне случалось на минуту ощутить эту однообразную жизнь как «работу», как что-то регулярное, обыденное и даже порадоваться предстоящей встрече с подругами. Но если это чувство и можно поставить мне в вину (а это было бы неправильно, потому что внешне эта жизнь ничем не отличалась от обычной службы), клянусь, оно рассеивалось тотчас, едва я переступала порог, ибо я в полной мере создавала, что имею дело с людскими страданиями и что у нас тут не просто контора, – а значит, обвиняют нас напрасно. Прекрасно понимаю, насколько омерзительной могла казаться вся эта канцелярская возня. Помню, когда я первый раз пришла на Тегеранскую улицу после ареста папы, у меня тоже сложилось ужасное впечатление. Когда видишь, как сидят себе бюрократы и обслуживают фабрику страданий, которые немцы умышленно, планомерно причиняют людям…
Зачем я сюда пришла? Чтобы иметь возможность делать хоть что-нибудь, быть рядом с несчастными. И мы в отделе интернированных лиц делали все, что могли. Те, кто знал нас близко, это видели и судили о нас справедливо.
Те же, кто, глядя со стороны, думает, что мы взялись за эту работу ради того, чтобы получить пресловутые удостоверения, якобы гарантирующие безопасность… Да если б я заботилась об этом, ни за что бы сюда не пошла. В июле 42-го, сразу после облавы шестнадцатого числа, когда мы начинали тут работать, а все наши друзья в панике бежали из Парижа, месье Кац сказал маме, что если мы хотим остаться – а видит Бог, как Все уговаривали нас уезжать, – то нам нужно найти занятие; тогда говорили, что всех достаточно молодых людей, у которых нет работы, будут забирать. А удостоверения были чем-то побочным; выдавая их, он говорил: «Предъявите это, если вас задержит на улице гестапо». Однако в то время этот документ не имел такого значения, которое получил потом (а теперь опять утратил). Мы и не думали об этом. А думали, что поступить в такое учреждение – значит пожертвовать собой. С тех пор я сильно изменилась, от многого избавилась, иногда ценой страшных потерь. А разгром 30 июля окончательно опроверг мнение тех, кто думал, будто бы мы тут хотим уцелеть.
Никто лучше нас самих не понимал, насколько наше положение ненадежно и шатко. Я же помню, что говорила мадам Шварц.
Зачем я ворошу воспоминания? Вот думаю об этом, и прошлое опять видится как dumb show. Все это мертво.
Нет, поразмыслив, я, пожалуй, понимаю, откуда этот сбой, этот out of join[233]233
Сбой, вывих (англ.). Возможно, цитата из «Гамлета» (акт I, сц. 5): Time is out of joint (Век вывихнул сустав).
[Закрыть], почему все это кажется мне мертвым. Я забываю, что сейчас живу посмертной жизнью, ведь я должна была умереть вместе с остальными. Если бы я ушла вместе с ними, новая жизнь казалась бы мне продолжением предыдущей и у меня не было бы такого наваждения.
Мы вышли от мадам Кремье в семь часов, на улице по-прежнему – как из ведра; подождали 92-й автобус, но не дождались и поехали на метро. Я вышла на Трокадеро и пустилась бегом в темноте и холоде, под ливнем, то и дело наступая в лужи.
На улице Фуркруа мадам Кремье, держась за меня и укрываясь под моим зонтиком (большим старым бабушкиным зонтиком), спросила: «Элен, а что в такую погоду делают они?» Что я могла ответить…
Ужасно, когда не можешь ничем утешить.
Воскресенье, 14 ноября
Вышла из дому рано, поехала поговорить с мадам Ш. о Шарле. Дело хлопотное, а мама предоставила мне полную самостоятельность. Это, конечно, признак уважения, но теперь я осталась одна. Перед уходом зашла к Шарлю, он бросился мне на шею и не отпускал все время, пока мы разговаривали. Столько любви, удивительно – не верится, что это мне.
Потом поехала в Нейи за Одеттой – отвезти ее домой. Эта трехлетняя девочка с васильковыми глазами и золотыми кудрями – ни дать ни взять маленькая англичанка. Она все время молчала. Единственное, что ей явно нравилось, это чтоб ее держали на руках.
К четырем я ее привезла и сразу отправилась к Денизе, приехала к ней без сил.
К счастью, она стала играть на пианино. Но это тут же напомнило мне совсем еще недавнее прошлое, когда я, уже поднимаясь по лестнице, слышала ее игру и, главное, когда она окружала меня такой нежной заботой. И я поняла, что чувствую себя одинокой еще и потому, что нет Денизы. Я как-то до сих пор не осознала, что она вышла замуж.
Утром меня задержал телефонный звонок – звонила Дениза Манту, она проездом в Париже, и мы с ней встретимся в другой раз. Но ее брат Жерар здесь, сказала она, и был бы рад повидаться со мной. Брат и сестра Манту – отголосок такой далекой жизни, я не уверена, что мне будет приятно.
Вчера вечером после ужина читала The Good Natured Man[234]234
«Добрячок» – пьеса английского писателя Оливера Голдсмита (1730–1774).
[Закрыть] Голдсмита, как вдруг позвонили в дверь. Это был молодой человек, которого прислала мадемуазель Детро за советом: как ему быть с двумя детьми, которых он приютил после ареста их отца (врача), матери и двух младших братьев, годовалого и двухлетнего. Отца задержали на улице, он рванулся бежать, когда у него хотели проверить документы, потом пришли за всей семьей – они уже собирали чемоданы, но, увы, было поздно. Немец, который пришел арестовывать мать, говорил ей: «Почему вы не скажете, где ваши остальные дети? Семья всегда должна быть вместе». А как же семьи из Меца, когда жен разлучали с мужьями?
Теперь депортируют целыми семьями – с какой целью? Создать в Польше государство евреев-рабов? И они думают, что эти несчастные люди, чьи предки укоренились здесь, некоторые – пять веков тому назад, не будут всеми силами стремиться назад?
Дальше читать я уже не смогла. Легла спать. И снова меня мучит вопрос о том, что такое зло, вопрос огромный и неразрешимый.
Март, 16 ноября
На Вокзальном бульваре, где открыли филиал «Левитана»[235]235
«Левитан» – большой мебельный магазин в Париже.
[Закрыть] (центр, где «привилегированные» заключенные Дранси, то есть «супруги арийцев»[236]236
Так нацисты называли евреев, состоящих в браке с неевреями. Теоретически они не подлежали депортации.
[Закрыть], сортируют и упаковывают предметы, украденные немцами из еврейских домов – теперь эти вещи отправят в Германию), сейчас содержатся двести человек, мужчин и женщин вперемешку, в одном помещении с общим туалетным – закутком. Все приходится делать на виду, мужчин и женщин изощренно унижают.
Там находятся месье Кон, Эдуар Блок – калека, как он справляется? Мадам Верн, жена банкира. Хотя какое теперь имеют значение классовые различия? Страдают все, но особо чувствительным и утонченным натурам, как месье Кон, приходится особенно туго.
Заходила в Нейи, просто так.
В половине двенадцатого была в Сен-Дени.
После ужина плакала.
Среда, 17 ноября
Вернулась из детской больницы, куда меня позвала старшая медсестра по поводу одного ребенка. Эта добрая умная женщина хотела спасти Дуду; я объяснила ей, что тут ничего нельзя сделать – Дуду «на учете»[237]237
На учет ставили детей, чьи родители были депортированы, немцы помещали их в приюты УЖИФ, откуда их запрещалось брать. Большую часть таких детей в конце концов депортировали.
[Закрыть], – и почувствовала ее неодобрительное отношение к УЖИФ. Мне стало горько. Я ее хорошо понимаю, и так трудно объяснять все это людям. Чудовищно уже то, что это организация официальная, не подпольная. Но, во-первых, если бы ее не было, кто бы занимался заключенными и их семьями? А во-вторых, кому известно, сколько добра делают многие ее члены?
Она пересказала то, что видел один их санитар, вернувшийся из Польши; французским работникам там запрещается выходить из особой зоны. Он же однажды вечером, в темноте выбрался за ее пределы, очутился на берегу какого-то озера и вдруг услышал шум. Он спрятался и стал свидетелем беспримерного злодеяния: увидел, что немцы гонят перед собой толпу женщин, мужчин и детей. Потом по одному заставляют их подниматься на что-то вроде трамплина. И оттуда – плюх! – прямо в озеро. Я слушала, и у меня кровь стыла в жилах. То были польские евреи. Оказывается, я еще не все знаю, и каждый новый рассказ огнем обжигает душу. А под конец она сказала: вполне вероятно, что, отступая на русском фронте, немцы вернутся в эти места, вытащат трупы и объявят, для устрашения наших добрых буржуа, что это сделали большевики. Может, и Катынь – их рук дело?[238]238
В апреле 1940 г. в Катынском лесу под Смоленском сотрудники НКВД, выполняя решение высшего партийного начальства, расстреляли около четырех с половиной тысяч пленных польских офицеров. В апреле 1943 г. наступающие немцы нашли тела жертв и объявили о зверском расстреле на весь мир. Советский Союз, напротив, приписывал катынские казни немцами только в 1990 г. официально признал ответственность за них НКВД.
[Закрыть]
Этот санитар был в концлагере вместе с русскими. В том самом, где разразилась страшная эпидемия тифа, из-за которой в Германию был послан Лемьер (и, по ее словам, ничего не смог сделать). Там умерли четырнадцать тысяч русских пленных. На исходе дня немцы впрягали русских в повозки, в каждую по четверо, и сваливали на них обнаженные тела, причем хватали без разбора – мертвых и еще живых.
Там были и русские женщины; французы хотели дать им поесть, но их заперли в камеру. А вечером провели обнаженными перед французскими работниками, которые так кричали на немцев, что те снова загнали женщин в камеру.
Могу ли я, зная все это, оставаться спокойной и прилежно работать? Да, сегодня утром я решила поработать над диссертацией, но в глубине души понимала, что это невозможно и непременно случится что-нибудь еще и помешает. Так и вышло: сначала известие о том, что Ивонна и все остальные вынуждены прятаться поодиночке из-за угрозы облав. А потом вот это – как же можно сохранять душевное равновесие, которое требует прежде всего singleness of mind, если стоит отстраниться от зла, свирепствующего в мире, как оно само напоминает о себе?
Счастливы лишь те, кто знать ничего не знает.
Среда, 24 ноября
Меня вдруг охватило отчаяние. Может, потому что наступила зима, третья долгая зима без всякой надежды? Или просто нет больше сил? Как знать? Человек наделен невероятным запасом прочности. Кто бы мог подумать, что мы способны выдержать то, что выдерживаем сейчас? Как, например, не сойдет с ума мадам Вейль, мать мадам Шварц, которую я видела вчера утром? Или старая мадам Шварц, у которой депортированы два сына и невестка; зять в плену, дочь в лагере и парализованный муж?
Судя по всему, нацистская партия в Германии достаточно сильна, чтобы война продолжалась еще долго. Мужчин обязывают оставаться в разрушенных бомбежкой городах, женщин переводят на другие заводы, а дети с шести лет ходят в нацистские школы. Дети! Какие у нас основания полагать, будто немцы видят положение вещей так же, как мы, оценивают шансы обеих сторон, понимают, что воевать бесполезно? Не стоит сравнивать логику сегодняшнего рядового немца с нашей собственной. Они отравлены, их отучили думать и иметь свое мнение:
«За нас думает фюрер!» Я не рискнула бы спорить с немцем, потому что уверена: он совершенно неспособен нас понять. Их доблесть – не более чем животный инстинкт. Одни воюют потому, что им приказали, из стадного чувства, другие – из безумного фанатизма.
Меня ничто в них не восхищает, потому что в них не осталось никаких благородных человеческих качеств. Поэтому война не кончается и будущее так безотрадно.
Утром читала «Защиту поэзии» Шелли, а вчера вечером – платоновский диалог в его переводе. Как горько думать, что эти шедевры утонченного, благородного человеческого духа, высота ума, широта мысли – все это сегодня мертво. Жить в наше время и тянуться к таким вещам – просто насмешка, одно с другим несовместимо! Что сказал бы Платон? Что сказал бы Шелли? Многие считают, что я витаю в облаках, занимаюсь бессмыслицей. Но разве не бессмыслица и не заблуждение та одержимость злом, что нынче правит миром? Родись я в другое время, то, что мне дорого, было бы в чести.
Сегодня год, как уехал Жан. Ровно год назад я получила от него букет разноцветных гвоздик. А в субботу исполнился год с тех пор, как он приходил последний раз, и с самого утра я заново переживала все детали этого последнего дня. Но теперь словно переступила некую черту, избавилась от власти воспоминаний, осаждающих меня в каждую такую годовщину.
Пятница, 26 ноября
Плохая ночь, ухо болело так, что я испугалась, не отит ли это, так же, как два года назад, в то ужасное 12 декабря. Наверно, И температура поднялась. Весь день ходила какая-то funny[239]239
Чудная (англ.).
[Закрыть]. Но все-таки была у Надин. Адажио из Пятого трио Бетховена. Как это прекрасно!
Воскресенье, 28 ноября, полдень
Умерла бабушка, внезапно, позавчера вечером, сразу после маминого ухода.
Я так устала, что не могу даже думать. Да и не успела еще как следует понять. Пойму, когда все кончится. То, что происходит теперь: бдения в бабушкиной спальне, вид лежащего на кровати тела, – это горе, составляющее часть большого испытания, но в нем нет ничего ужасающего, такого, что переворачивало бы душу и вызывало протест, оцепенение или страх (а ведь я первый раз вижу мертвое тело). Все бесконечно просто, она как будто спит, лицо ее почти не изменилось – только приобрело желтоватый оттенок слоновой кости. Когда я первый раз зашла к ней вчера утром, меня больше всего поразила именно эта каменная неподвижность. Вот уже три дня она спит, спит и не просыпается, и ничто уже ее не потревожит.
Но я точно знаю, что не это заставит меня горевать о смерти бабушки. Это никак не вяжется с памятью о ней живой. А осознание потери возникнет именно из памяти, из воспоминаний о тысяче связанных с бабушкой мелочей.
Пока же я только чувствую, что утрачена последняя веха, обозначавшая наше место во времени, между прошлым и будущим.
Стараюсь не спать. Этой ночью снились такие кошмары, что заставила себя больше не засыпать.
С нежностью смотрю на это спящее тело цвета слоновой кости. Как хорошо, что она так мало изменилась.
Вчера утром Николь сказала: «Жизнь в ней еле теплилась. И вот погасла, как свеча». Так и есть, и не стоит роптать. Эта тихая мирная смерть просто милость на фоне того, что творится вокруг.
Тетя Марианна убита горем. Теперь она последняя, кто еще жив из того поколения, и это для нее настоящая трагедия. Дядя Эмиль, бабушка, тетя Лора – никого уже нет. Много часов она молча сидела у кровати, уронив голову в свои меха, сама такая же бледная и осунувшаяся, как покойница. Никто из нас не скорбит так сильно, как она.
Бабушка умерла на той же кровати, на которой когда-то родилась я, а еще раньше – мама. Я это узнала сегодня от мамы, в таком смешении жизни и смерти есть что-то утешительное.
Вечером перечитала письмо Жана от 27 июня, где он писал о бабушке, когда ей было очень плохо. Прошло полгода, и как все переменилось – вокруг меня пустота.
Мне бы так хотелось, чтобы бабушка успела с ним познакомиться, – мне будет не хватать ее благословения. Одно то, что она его знала, улыбалась ему, разговаривала с ним, приобщило бы его к моему прошлому, моему внутреннему миру. Так жаль, что это не случилось, сначала было такое половинчатое знакомство, а потом он надолго уехал.
Понедельник, 29 ноября, вечер
Пришла от тети Марианны. Как это грустно. Там была Дениза. Она что-то бормотала, глядя в пустоту, с трудом ходила, то и дело задавала одни и те же вопросы. И вдруг – каково было на это смотреть тете Марианне, и без того потрясенной смертью бабушки, – принималась распевать, грузно приплясывая, кафешантанные куплеты, которые записаны у нее на пластинках. И только в это время говорила связно и внятно.
Тетя Марианна очень мне обрадовалась.
Я все никак не осознаю, никак не сходится одно с другим: бабушка, какой она была раньше и в последние дни. В моей памяти останется первая, живая, и, когда в голове прояснится, именно этот образ будет отзываться болью. Другой ничуть меня не испугал, будто это не она, а кто-то чужой. Я не входила в комнату, когда ее клали в гроб, не потому что было страшно (страх я бы поборола, кроме того, она не сильно изменилась), а потому что для меня это уже была не бабушка. Вечером просидела несколько часов около гроба; сегодня утром купила гвоздики, а вчера фиалки, чтобы положить в гроб, но все это меня ничуть не взволновало. Разложила все цветы.
Сегодня вечером, вернувшись домой, нашла среди писем с соболезнованиями два замечательных – от Надин Анрио и мадам Кремье. Расплакалась от сочувствия друзей. И вдруг подумала, что с ними обеими меня познакомила Франсуаза. Сердце сжалось при мысли о ней.
Завтра мне надо будет выйти на станции метро «Пер-Лашез». Именно там почти год назад, около пяти вечера у нас была первая долгая беседа с мадам Шварц; поезда проезжали один за другим, а мы сидели на скамейке и разговаривали. Я рассказала ей про Жана, не могла не рассказывать тем, к кому лежало сердце. Теперь – ни таких признаний, ни порывов, все, кого я любила, исчезли. Но я все еще слышу ее голос, вижу сияющие нежностью глаза (в них всегда-всегда сияла любовь): «Как это хорошо, милая вы моя девочка!»
Мадам Дюшмен очень верно написала маме – что бабушка теперь покоится в надежном убежище. До нее не доберутся. Помню, мы с ужасом думали, что она может попасть в дом престарелых, в этот ад, где мучится столько стариков. И вообще, разве не лучше покой, чем наша нынешняя жизнь, полная постоянных тревог и страданий? И этот страх за близких и невозможность знать, что будет завтра… Когда постоянно боишься за близких, не можешь строить планы даже на самое ближайшее будущее. Это не пустые слова – мне в самом деле глубоко созвучны прекрасные строки из «Адонаиса», и хочется затвердить их наизусть:
Не has outsoared the shadow of our night;
Envy and calumny, and hate and pain,
And that unrest which men miscall delight,
Can touch him not and torture not again;
From the contagion of the world’s slow stain
He is secure, and now can never mourn
A heart grown cold, a head grown gray in vain.[240]240
Он воспарил над нашим наважденьем, / В котором оставаться мы должны, / Горячку называя наслажденьем / В ночи, где ложь и злоба так сильны, / И жизнью безнадежно мы больны; / Он воспарил над миром, исцеленный, / И не узнает ранней седины… (Перси Биши Шелли. «Адонаис. Элегия на смерть Джона Китса, автора Эндимиона, Гипериона и др.». Пер. Владимира Микушевича.)
[Закрыть]
В какую-то минуту сегодня мне стало казаться, что это мои стихи.
* * *
Понемногу приходит осознание, что бабушки больше нет.
Я приходила к ней не только из уважения к семейным обычаям, не только потому, что это было частью хорошего обряда, поклонения прошлому, которое она воплощала, но еще и потому, что ее дом стал для меня тихой заводью посреди страшной жизни, с ней я не говорила о том, что творится, это был зеленый островок доброй старины, островок покоя.
Я старалась дарить ей любовь и нежность и сама черпала нежность полной мерой. Как же мне теперь жить без нее?
* * *
Бедная мадам Баш! Вчера она сказала, что бабушке теперь лучше, чем всем нам. Она измучена тревогой за мужа, заботами о родителях, которым по 85 лет, и перед ними надо притворяться, что все хорошо. Это очень стойкая женщина: прекрасно все понимая, она обычно остается трезвой и спокойной. Но вчера она совсем сломалась и рыдала на лестнице.
В гроб (не говорю: бабушке, потому что это совсем разные вещи) положили букет фиалок, который я купила в воскресенье, веточку мелиссы из Обержанвиля – она лежала у меня в бельевом ящике, это единственное, что осталось тут на память о Байонне, – и гвоздики, купленные по просьбе Ивонны и Жака.