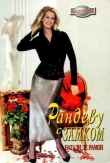Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Понедельник, вечер
Господи, я не думала, что это будет так тяжело.
Весь день я крепилась изо всех сил. Шла, высоко подняв голову, и смотрела встречным прямо в лицо, так что они отворачивались. Но это тяжело.
Впрочем, большинство людей вообще не смотрят на тебя. А хуже всего встречать других таких же, со звездой. Утром я вышла из дому с мамой. На улице две девчонки показывали на нас пальцем: «Видала? А? Евреи». А в остальном все прошло нормально. На площади Мадлен встретили месье Симона, он остановился и слез с велосипеда. Дальше я одна доехала на метро до «Звезды», там зашла в мастерскую за своей блузкой и села на 92-й. На остановке стояли девушка с парнем. Девушка показала ему на меня. Они что-то говорили.
Я инстинктивно повернула голову – солнце светило в глаза – и услышала: «Какая мерзость!» Одна женщина, по виду maid[61]61
Прислуга (англ.).
[Закрыть], улыбнулась мне еще на остановке, а потом несколько раз оборачивалась и улыбалась в автобусе; а какой-то шикарно одетый господин не сводил с меня глаз, я не могла понять смысл этого взгляда, но гордо смотрела в ответ.
Опять села в метро – до Сорбонны, еще одна простая женщина мне улыбнулась. А у меня почему-то слезы на глаза навернулись. В Латинском квартале почти никого. Дел у меня в библиотеке не было. До четырех часов расхаживала по прохладному залу, опущенные шторы пропускали рыжеватый свет. В четыре вошел Ж. М. Какое счастье было с ним поговорить! Он сел перед моим столом и так просидел до конца, мы разговаривали, а то и просто молчали. На полчаса он отлучился – ходил за билетами на концерт в среду, и тут зашла Николь.

Страница Дневника. Запись, сделанная 8 июня 1942 года, в день, когда Элен первый раз надела желтую звезду.
© Mémorial de la Shoah / Coll. Job
Когда из библиотеки все ушли, я достала свой пиджак и показала ему звезду. Но смотреть на него не могла – я снимала звезду, а сине-красно-белый букетик на булавке, которой она была приколота, вставляла в петлицу. Когда же подняла глаза, увидела, что он поражен до глубины души. Уверена, он ни о чем не догадывался. Я испугалась, что теперь наша дружба даст трещину и ослабнет. Но он проводил меня до «Севр-Вавилон» и был очень внимателен. Хотела бы я знать, что он думал[62]62
«На самом деле для Жана Моравецки не было неожиданностью появление желтой звезды на одежде Элен. В 1992 г. он рассказывал ее племяннице Мариэтте Жоб: „Когда Элен достала свой пиджак, я, еще не глядя, понял ее боль, которая, видимо, отразилась на моем лице, ее-то, в свою очередь, почувствовала Элен. Я ничего не сказал, и она по-прежнему думала, что я ничего не знал“». («Дневник Элен Берр. 1942–1944», издательство Талландье / Мемориал Шоа, Париж, 2011, с. 144.)
[Закрыть].
Вторник, 9 июня
Сегодня было еще хуже, чем вчера.
Устала так, как будто отшагала пешком пять километров. Лицо растянулось от постоянных усилий сдержать подступающие слезы.
Утром осталась дома, играла на скрипке. Моцарта. Все в нем перезабыла.
Но после обеда началось то же самое, я обещала в два часа зайти в институт за Виви Лафон после ее курсов подготовки к агрегасьон[63]63
Агрегасьон – общенациональные конкурсные экзамены, которые нужно пройти, чтобы получить ученую степень агреже, дающую право преподавать в средней и высшей школе. Элен Берр не могла участвовать в этом конкурсе, потому что вишистское законодательство запрещало евреям преподавать в учебных заведениях. Она после защиты университетского диплома начинает готовить диплом о поэзии Джона Китса.
[Закрыть]. Звезду надевать не хотела, но все-таки приколола; сочла, что это нежелание – просто трусость. И вот… сперва на проспекте Ла Бурдоннэ на меня показывали пальцем две девчонки. Потом контролер в метро «Медицинская школа» (а когда я спускалась, одна женщина сказала мне: «Здравствуйте, мадемуазель!») приказал мне: «В последний вагон!»[64]64
7 июня 1942 г. по требованию немецких властей префект департамента Сена обязал евреев ездить в метро только вторым классом и только в последних вагонах. Во избежание скандала префект заявил, что никаких объявлений и публичных сообщений не будет.
[Закрыть] Значит, вчерашние слухи оказались правдой. Дурной сон сбывался наяву. Подошел поезд, я зашла в первый вагон. А после пересадки ехала в последнем. Звезд ни у кого не было. И тут-то, с запозданием, я чуть не расплакалась – так было горько, так противно; чтобы сдержать слезы, я старательно глядела в одну точку.
В большой двор Сорбонны я вошла ровно в два часа, мне показалось, там был Молинье, но я не была уверена, поэтому направилась прямо в вестибюль библиотеки. Молинье, это все же оказался он, подошел ко мне сам. Разговаривал очень дружелюбно, но отводил взгляд от моей звезды. Смотрел на меня поверх нее. Мы словно говорили друг другу глазами: «Не обращай внимания!» Он сдал второй экзамен по философии.
Мы расстались, и я подошла к лестнице. Там было полно студентов, одни прогуливались, другие кого-то поджидали, некоторые поглядывали на меня. Спустилась Виви Лафон, пришла еще одна моя подруга, и мы вышли на солнце. Говорили об экзамене, но я чувствовала, что все наши мысли вертелись вокруг желтой звезды. Когда мы с Виви остались наедине, она спросила, не боюсь ли я, что мой букетик-триколор сорвут, и сказала: «Не могу видеть это на людях». Знаю, многим неприятно. Но знали бы они, какая это пытка для меня. Я стояла и мучилась, здесь, во дворе Сорбонны, на виду у всех друзей. Вдруг мне почудилось, что я уже не я, все вокруг изменилось и я теперь какая-то чужая, – так бывает в ночных кошмарах. Вокруг все знакомые, но я чувствовала: всем им горько и неловко. Как будто у меня клеймо на лбу пылало. На ступеньках стояли Мондолони и муж мадам Буйа. При виде меня они обомлели. А Жаклин Ниезан заговорила со мной как ни в чем не бывало; Воск тоже был смущен, я протянула ему руку, чтобы он пришел в себя. Старалась вести себя естественно, но получалось плохо. Страшный сон затянулся. Подошел Дюмюржье – он брал у меня книжку, спросил, когда можно вернуть мне мои записи. Вид у него был непринужденный – подчеркнуто непринужденный, как мне показалось. Наконец вышел Ж. М., и стоило мне его увидеть, как я почувствовала что-то такое, какое-то несказанное облегчение – вот кто все знает и понимает меня. Я позвала его, он обернулся, улыбнулся. Ужасно бледный. Сказал мне: «Извините, я сегодня сам не свой». И правда, он выглядел совершенно растерянным и разбитым. Но все же улыбался, и по крайней мере он-то не переменился.
Через минуту-другую он спросил, что я собираюсь делать. Сам он шел к Молинье, а потом надеялся снова найти меня во дворе. Я вернулась к Виви Лафон, Маргерит Казамиан и еще одной, очень милой девочке. Скоро мы все пошли в Люксембургский сад. Приходил ли потом Ж. М., я не знаю. Но ждать его не стала, так лучше. Лучше для нас обоих: я была слишком взволнована, а он подумал бы, что я пришла ради него. В саду мы сидели за столиком, пили лимонад и оранжад. Все такие милые: и Виви Лафон, и мадемуазель Коше – она вышла замуж два месяца тому назад, – и та девочка, не знаю ее имени, и Маргерит Казамиан. Но никто из них, по-моему, не понимал, как мне плохо. Иначе спросили бы: «Зачем же вы ее носите?» Стесняются, наверное. Иной раз я и сама себя спрашиваю зачем, но точно знаю ответ: чтобы испытать свое мужество.
Минут пятнадцать я посидела на солнышке с Виви и мадемуазель Коше, потом пошла в институт в надежде повидать Николь и Жан-Поля, а то было как-то одиноко. Николь я не встретила, зато сразу почувствовала себя среди своих; конечно, мое появление было впечатляющим, но тут все всё знали, никто не смутился. Специально подошла Моник Дюкре – мне хорошо известны ее взгляды – и завела со мной долгий, сердечный разговор; один студент по имени Ибален (он приходил узнать свою оценку) так и подскочил, наткнувшись на меня взглядом, но демонстративно подошел к нам и присоединился к беседе – о музыке. О чем говорить, было совершенно не важно, главное – подтвердить без всяких слов, что нас объединяет дружба.
Анни Дижон тоже была очень приветлива. Я пошла на почту купить марку, и у меня опять перехватило горло, а когда служащий с улыбкой сказал мне: «Так вы еще красивее, чем раньше», чуть не разревелась.
В метро контролер ничего не сказал мне. Я поехала к Жану. Там была и Клодина. Жан не выходит из дому. Если бы не Клодина, я бы могла поговорить с ним вволю. Но она была тут, вмешивалась во все, о чем бы ни зашла речь, и во все вносила blight[65]65
Помеха (англ.).
[Закрыть] и я осекалась – заранее знала, что она будет нам возражать. В общем, ничего хорошего из этой встречи не вышло, и я с тяжелым сердцем вернулась домой, без звезды.
Стала рассказывать маме, как прошел день, но не договорила – едва не расплакалась и убежала к себе, не понимаю, что со мной творится.
В половине четвертого звонил Ж. М., просил передать, что будет ждать меня завтра утром, без четверти десять, – наверно, он вернулся во двор и не застал меня. Он ведет себя очень благородно, я ему благодарна, точнее, этого я от него и ждала.
Среда, 10 июня
Утром была на концерте в Трокадеро. Эту штуку не надевала.
Было холодно, шел дождь. У входа увидела Николь и Ж. М., они стояли и разговаривали. Потом подошла Симона. Но сидели мы в разных местах. Первый раз в жизни я ходила на концерт вдвоем с молодым человеком.
Так приятно, когда за тобой ухаживают, когда, например, он подавал мне жакет, мне это непривычно. У него такие изысканные, я бы сказала даже безупречные, манеры.
Четверг, 11 июня
Были в Обере.
Выехали в семь мантским поездом. Все утро собирали клубнику и черешню.
Нам было страшно весело, может, оттого, что в кои-то веки мы собрались все вместе – никого из семьи, кроме нас четверых, тут больше не осталось. Кроме того, это была разрядка.
Вернулись двухчасовым поездом.
Мы с мамой пошли к бабушке взять фотографии. В Париже было солнечно и очень жарко. Фотографии – чудесные. От радости я летела домой как на крыльях.
Приходила мадемуазель Фок. Я дала ей первый урок английского. По ходу дела набиралась дерзости.
В пять часов почтальон принес две открытки от Жака, одну от Владимира и одну от Жерара.
К ужину пришла Анни Леоте. А после ужина варили компоты и беспечно болтали.
Пятница, 12
Встала не в духе, обидела маму. Она попросила меня показать открытки от Жака. Я же, сама того не желая, должно быть, ответила слишком snappily[66]66
Резко (англ.).
[Закрыть]. Дальше все пошло только хуже.
Перед уходом я зашла к ней проститься, с желтой звездой на кармане. Маму это, естественно, рассердило. Она велела мне прикрепить ее на другое место. А меня бесило, что ее вообще нужно носить. Я сорвала ее и прицепила на плащ. А она сказала, что и так тоже плохо. Мы накричали Друг на друга, и я ушла, хлопнув дверью.
Дошла пешком через все Марсово поле до метро «Ла-Мотт-Пике» (чтобы купить пирожное в «Птит-маркиз»). Там маршировали боши, команды звучали как звериный рык.
Доехала на метро до «Одеона». Прошлась по Латинскому кварталу. Пришла в библиотеку, там встретила Мориса Сора, который, говоря со мной, явно искал глазами звезду. Ему было неловко. Купила томик Малларме на улице Гей-Люссака и стала дожидаться у входа одиннадцати часов, когда кончается занятие у группы агреже. Долго никто не выходил, и вдруг я заметила Ж. М. – он шел по двору. Он обернулся, увидел меня. Кончилось тем, что он проводил меня до дому. Я всю дорогу болтала без умолку, такого со мной не бывало. А что говорила, не помню.
Видела и Спаркенброка, он был какой-то весь растерзанный, с отросшими волосами. Я его насилу узнала. Рядом с Ж. М. у него женоподобный вид. Что-то с ним не так.
Во второй половине дня пришла Франсуаза Масс, мы целый час проболтали, потом пошли в зал Гаво на мастер-класс Маргерит Лон и Жака Тибо[67]67
Выдающиеся музыканты – пианистка Маргерит Лон и скрипач Жак Тибо были также педагогами, а в 1943 г. организовали ставший знаменитым конкурс молодых исполнителей.
[Закрыть]. Мы договорились встретиться в четыре с Франсуазой и Жаном Пино. Были еще Дениза и Николь. Сидели в ложе. Концерт был великолепный.
Домой шли пешком. Успели обо всем поговорить, пока не расстались с Пино на улице Боске. Чудесное, воодушевляющее чувство – знать, что у тебя есть настоящие друзья, которые тебя любят и понимают. Никогда раньше я такого не испытывала. Пожимая на прощание руку, Жан Пино сказал: «Что ни говори, а вы замечательные девушки, да-да, просто восхитительные». Это было сказано от всего сердца и выражало то, что всегда сквозит в наших беседах, делает их неповторимыми. Я так расчувствовалась, что перешла улицу не глядя.
Вспоминаю сейчас все, что случилось на этой неделе, и вижу: она прошла под сумрачным небом, это была трагическая, сумбурная, полная потрясений неделя. Но в то же время я с восторгом думаю, какое счастье, что я встретила родственные души: Пино, Ж. М. Прекрасное сопутствует трагедии. Оно как бы сгущается посреди моря мерзости. Удивительно.
Суббота, 13 июня
Мы музицировали, сыграли Четвертый квартет и струнное трио Бетховена. Я играла несколько часов подряд и к вечеру совсем устала.
Воскресенье, 14 июня
Обержанвиль – с Симоной и Франсуазой.
Все трое были в дурашливом настроении. Особенно мы с Николь резвились и веселились, как в детстве, – почему-то на нас всегда находит такой стих, когда мы с ней моем посуду. Как говорится, телячий восторг.
Лопали черешни-помпончики. Болтали глупости. Подкалывали друг друга по поводу Жана Пино и Жан-Поля. В общем, вели себя как cracked[68]68
Чокнутые (англ.).
[Закрыть]. Но было здорово.
Понедельник, 15 июня, вечер
Жизнь остается невероятно гнусной и невероятно прекрасной. Со мной случаются такие вещи, какие, я думала, бывают только в книгах.
Вот, например, сегодня вечером по пути из Сорбонны я встретила на проспекте Ла Бурдоннэ Жана Пино. Он остановился, мы обменялись парой слов, он смотрел на меня своим чистым взглядом, со своей улыбкой на грани смеха. В руках он держал букет роз. И вдруг говорит: «Хотите эти цветы? Берите!» – и я согласилась. Взяла букет. Но тут же ужаснулась – что это я такое сделала! А он не захотел брать цветы обратно, мы оба рассмеялись, сердечно пожали друг другу руки и разошлись.
До трех часов сидела в библиотеке над «Преступлением и наказанием» – читаю взахлеб. Вдруг открывается дверь, входит Ж. М., и я смотрю на него совершенно спокойно. Он зашел на минутку и убежал звонить по телефону. Нам, как ни странно, было не о чем говорить. Он принес мне книги. Начал говорить и запнулся: «Постойте-ка, когда же это было?..» – долго соображал и наконец припомнил, что в пятницу вечером – в тот день он звонил мне домой и приглашал отметить окончание экзаменов с ним и Молинье. Бернадетта мне ничего не сказала.
Часам к пяти внезапно набежали дела. Он разговаривал с Мондолони. Потом ушел, а я так и не успела с ним поговорить, только промямлила что-то, когда он прощался. Он трижды переспрашивал, но так и не расслышал. В конце концов сказал по-английски: «It’s crowded now»[69]69
Тут так много народа (англ.).
[Закрыть] – и ушел.
Тот парень, Сталин (почему-то его прозвали так), просидел до самого конца, может, нарочно – у меня на кармашке была приколота звезда. Мы с Николь, Жан-Полем и Сюзанной Бенезеш вместе поехали на метро. На улице Медицинской школы встретила Жерара Кайе с нашего курса. Красивый парень. Он это знает и расточает всем свои чары.
Дома нашла две открытки от Одиль.
Вторник, 16 июня
Странный день. Мы с Николь поехали в Обержанвиль за свиной тушей. Все утро дурачились – все тот же «телячий восторг». Это было здорово.
Вернулась я в четыре, с тяжеленной корзинкой, выпила чаю и была в прекрасном настроении. Без всякой причины.
Вдруг вспоминаю, что уже давно не думаю о Жераре и могу совсем забыть его. Сердце у меня сжимается – ведь как раз теперь он уехал на плато[70]70
Имеются в виду Высокие плато – пустынная область в Алжире, где в то время находился Жерар Лион-Кан.
[Закрыть]. И просил писать ему почаще. Мне кажется, расстояние между нами увеличилось втрое, я живу какой-то другой жизнью. Как случилось, что я обо всем забыла? Бывают минуты, когда мне мерещится трагический исход. Но в остальное время я об этом и не вспоминаю.
Совершенно ясно, что я его не люблю так, как надо бы.
И могу писать это вот так хладнокровно?
Одно хорошо – я твердо решила быть искренней. Чем все это кончится? Не могу ничего загадывать дальше завтрашнего дня.
Среда, 17 июня
Такого, как сегодня утром, я не слышала никогда в жизни.
Концерт был великолепный.
И никогда уж не смогу без слез слушать адажио из Concerto еп mi[71]71
На вопрос Мариэтты Жоб о том, какой концерт они с Элен слушали в тот день, Жан Моравецки ответил, что это был знаменитый скрипичный концерт, Макса Бруха соль минор. Элен имеет в виду его вторую часть, адажио, написанную в ми-бемоль мажоре. Вообще у Элен было два любимых скрипичных концерта: этот концерт Бруха и концерт ре мажор Бетховена, который был исполнен в память о ней на ее скрипке во время траурной церемоний сразу после войны.
[Закрыть]. Долго не могла прийти в себя. Очнулась, только пройдясь по Латинскому кварталу – искала Фукидида для Жака. Заходила в лавки Жибера, Дидье, в магазины на улице Суффло, на бульваре Сен-Мишель. Пока рылась в книгах, успокоилась.
Вечером была у бабушки.
* * *
Вчера умер Клод Мангейм, после двух месяцев болезни. Какое страшное, безутешное горе – потерять мужа, когда ты еще совсем молода. Дениза осталась с двумя маленькими дочками. Как она теперь будет жить?
Четверг, 18 июня
Мастерские, Метей.
После обеда четверть часа вздремнула. Это напомнило мне Бержерак.
В половине третьего пришел Пьер Детеф.
Вечер – у Жана. Но его самого я почти не видела. Сначала пришла Дениза Сикар. Потом Клодина попросила меня сыграть. Потом пришла мадам Симон, и мы играли вместе.
А около половины седьмого я ушла на урок с мадемуазель Фок.
К ужину пришли Брокары и мадам Леви.
Четверг
Не знаю, то ли я до сих пор жила в каком-то помрачении, а теперь прозрела?
То ли, наоборот, помешалась сейчас?
Получила вечером четыре открытки от Жерара. Он не может знать, что со мной творится. И, несмотря на мою сухость, по-прежнему во мне уверен. Ни о чем больше не знает. Ждет, когда мы соединимся. Еще недели три назад это заставило бы меня строить планы на счастливое будущее. Ну а сегодня мне только стало очень тяжело. Правильно ли я решила, не знаю.
Месяц назад я была в полной растерянности. Теперь же что-то во мне повернулось в другую сторону, потому что я старалась жить нормальной жизнью, как будто не было этой смуты. И вот что произошло.
Наверное, так было суждено. Это должно было случиться. Я с самого начала думала, не потому ли так увлеклась, что не знала никого, кроме Жерара. Никто, даже мама, не понимал, как мне тревожно. Разве только Ивонна, но она далеко.
Целую неделю я пыталась бороться. Но что толку? Раз так должно было случиться, я не могу и не должна этому мешать.
Не знаю, по-настоящему ли все теперь, но я хотя бы поняла, что тогда, в первый раз, никакого чувства во мне не было.
Вернее, оно шло от головы. Но любят не головой, не рассудком.
Может быть, я не люблю Жерара по-другому просто потому, что не вижусь с ним? Вот в чем вопрос.
Но мне всегда чего-то в Жераре не хватало.
Так это или нет?
Будь он тут, с нами, я бы могла выбирать свободно. Но меня мучит, не дает ясно мыслить само то, что я связана обязательствами.
Я этого не отрицаю. Но не могу понять, как это получилось. Все оттого, что я слишком люблю писать письма.
Придется начинать все сначала.
Теперь я совсем-совсем не представляю себе, что будет дальше.
Заснула в слезах. После разговора с мамой. Она зашла пожелать мне спокойной ночи. И задержалась в комнате. Я видела – она ждет. И все ей сказала, а потом пожалела, потому что плохо выразила то, что думала, потому что не уверена, действительно ли думаю то, что сказала, потому что говорить неправду нечестно, потому что не хочу никого затруднять своими делами, потому что, конечно же, разревелась.
Проснулась утром – те же сомнения в голове. Да еще чувствую себя опустошенной, как будто долго рыдала.
Перечитала вчерашние открытки. И снова стало больно – ничего не поделаешь. И еще щемящее чувство – как будто что-то потеряно, что-то оборвалось.
Как я могла, не любя его, допустить, чтобы он писал мне такие письма? Читаю – и кажется, я теряю что-то чудесное. А как подумаю – снова раздваиваюсь.
Я написала ответную открытку. Отрывистые, горькие, не оставляющие надежды слова.
Начала – и сразу вспомнила, с каким удовольствием писала раньше. Меня заклинило, будто что-то разбилось.
Слепая, что ли, я раньше была? Нельзя так писать, если не уверена в своих чувствах.
Но верно ли, что теперь все прояснилось? А может, это теперь я ослепла? А если все прояснилось, не окажусь ли я на пустом месте?
Singleness of mind[72]72
Душевное одиночество (англ.).
[Закрыть].
* * *
За обедом – месье Буассери.
Музыка у Лион-Канов. Я страшно нервничала и выглядела полной дурой. Франсуаза заметила.
Когда месье Лион-Кан ушел, мы с Франсуазой остались поболтать, и это было уже не так ужасно. Потом я зашла к бабушке за мамой.
Забыла сумку на улице Лоншан.
Суббота, 20
Заходила за сумкой. Франсуаза забыла оставить ее у консьержки. Я поднялась, позвонила три раза. Давно знакомая дверь стала мне неприятна, я ее разлюбила. Никого не оказалось дома. Спускаясь, встретила на лестнице месье Лион-Кана, мы вместе зашли в квартиру, он долго искал сумку в комнате Франсуазы, но не нашел.
Краем сознания я понимала, как забавно это выглядело: мы вдвоем в пустой квартире, я тут почти своя. Но смеяться совсем не хотелось.
Ушла без сумки, доехала на метро до «Сент-Огюстен». А оттуда пешком до лавки Галиньяни. Купила стихи Уолтера де ла Мера.
На музыке была в кошмарном настроении и никак не могла встряхнуться.
А тут еще Дениза – душа болит на нее смотреть. Она тоже мучится, хоть и молчит. Но я-то знаю.
Среда, 24 июня
Хотела записать еще вчера вечером… Но была слишком потрясена, не хватило сил. Заставлю себя сделать это сегодня утром, чтобы ничего не забыть.
* * *
Первое, о чем я подумала, как только проснулась и увидела свет сквозь ставни: у папы сегодня не будет нормального завтрака, он не будет сидеть за столом, не съест свой ломтик поджаренного хлеба, не нальет себе кофе. И так стало от этого тяжело.
Это была только первая мысль, за ней не сразу (я, как часто бывает, снова задремала), но последовали другие, пока не пришло полное понимание того, что произошло; обычно же я не встаю, пока не услышу, как бренчат ключи в его кармане, как открываются ставни в его спальне, – жду, когда он включит газ. Не услышала – и поняла. А вот сейчас – опять в голове не укладывается.
* * *
Это случилось вчера, примерно в такое же время, как сейчас. Утром я дважды выходила. В первый раз – сбегала в ближайшую молочную посмотреть, нет ли там сливочного сыра, мы ждали к обеду Симону. Во второй – села в 92-й и доехала до площади Звезды, пошла сначала в мастерские, а оттуда в Американскую библиотеку. Мы с папой договорились идти домой вместе, но было еще рано, и я задержалась на Тегеранской улице.
На улице Бом[73]73
Там находилось представительство химического концерна «Кюльман», вице-президентом которого был Реймон Берр.
[Закрыть] у привратницкой стояло все семейство Карпантье, я поздоровалась, мне едва ответили. Все выглядели чем-то озабоченными, так что и я не стала ни с кем заговаривать; только погладила собаку, а мимо застывшей, как статуя, мадам Карпантье прошла молча. Аро зашел в вестибюль вместе со мной, мне это показалось странным, но мало ли какие у него дела. К тому же, когда я сказала: «Как здесь хорошо», он самым естественным тоном ответил: «Да, прохладно». Но он и по лестнице пошел за мной следом. И я опять подумала – с чего бы это. Я спросила, на месте ли папа, он сказал – нет. Уже потом я вспомнила, каким растерянным тоном это было сказано. Он предложил мне пойти к президенту, месье Дюшмену[74]74
Рене Поль Дюшмен – президент компании «Кюльман», который немало способствовал освобождению Реймона Берра из лагеря Дранси.
[Закрыть]. А я сказала: «Но папа ведь скоро придет». Он ответил «да-да», но как-то не очень уверенно. Наверху увидела Карпантье – он был за секретаря, у него тоже спросила, на месте ли папа. Он сказал: «Нет, мадемуазель, но вы можете пройти к господину президенту». Тут уж не только любопытство, но и страх шевельнулся во мне. Карпантье и Аро переглянулись. От всей этой таинственности мне стало не по себе. Но паниковать раньше времени не хотелось, поэтому я с легкостью заглушила в себе все сомнения. Однако же, когда Карпантье распахнул передо мной дверь в кабинет месье Дюшмена, я подумала: «Ну, вот сейчас…» – и все опять нахлынуло. Месье Дюшмен встал из-за стола, и я спросила: «Что случилось?»
Он начал так: «Сегодня утром, Элен, я видел вашего отца, и он оставил мне вот эту записку». И еще долго что-То говорил, но я не поняла ни слова (пришлось потом переспрашивать), только одно было ясно: папу арестовали. Я не сразу заметила, что и не слушаю его. Еще только войдя, я была поражена его видом. Я знала, что у него экзема, но сейчас он был просто зеленый, с двухдневной щетиной, и от него разило лекарством. В конце концов до меня дошло, что он хочет отвезти меня домой на машине и поговорить с мамой. Записку я взяла с собой. Листок бумаги с фирменной шапкой. Помню, там было очень точно указано время: 23 июня, девять часов тридцать минут, а дальше отчетливым папиным почерком: «Полицейский инспектор уводит меня на улицу Греффюль, а оттуда в немецкую полицию», потом отдельной строкой: «Почему – не знаю».
И еще ниже: «Возможно, это необязательно арест или лагерь». «Связался с мэром». И наконец: «Жена ничего не знает, поскольку я и сам не знаю, чем все кончится. С уважением…»
Так и вижу этот листок.
Месье Дюшмен закрыл чернильницу, сложил бумаги, и мы поехали. По дороге я худо-бедно представила себе, что и как. Но окончательно все уяснила из его рассказа маме: он пришел на работу в половине десятого и увидел, что отца уводит инспектор полиции. Папа думал, что не дождется его, поэтому написал записку.
В машине я не раскрывала рта и видела все словно сквозь туман. Месье Дюшмен два раза пытался меня разговорить: спрашивал про Ивонну и поздравлял меня с получением диплома. Была отличная погода. Светлое июньское утро в Париже… но я не замечала этой красоты. Во время катастроф погода всегда хорошая.
Пока поднимались по лестнице, думала, как подготовить маму. Первые три этажа шла нормально, а последний – шагала через ступеньку, чтобы опередить запыхавшегося месье Дюшмена; открыла Луиза и явно удивилась, что со мной Дюшмен, а я ничего не говорю. Мама что-то писала за секретером в малой гостиной. Я с порога сказала: «Мама, пришел месье Дюшмен… видимо… папа арестован…» И это все, что я успела, – вошел сам Дюшмен. Мама резко встала. Потом они оба сели, и месье Дюшмен рассказал все по порядку. Тогда-то я все и узнала. В голове прояснилось, и я пошла сказать Денизе – она занималась на пианино. На нее известие подействовало как разорвавшаяся бомба: она вскочила, я старалась выложить все побыстрее, говорила чуть ли не односложными словами, помню, она не то вздохнула, не то застонала и чуть не упала, я ее поддержала. Потом мы тоже пошли в малую гостиную.
Месье Дюшмен встал и собрался уходить. А мама все сидела в кресле. Потирала лоб и бормотала: «Я ничего не чувствую… совсем ничего». Знаю я это ощущение. Но мама хотя бы все осознала, а я до сих пор не могу. Она позвонила тете Жер.
В половине первого зазвонил телефон – незнакомый мужской голос. Мы сразу поняли – это инспектор, который задержал папу; я взяла вторую трубку. Было так странно слышать все ту же историю из уст постороннего человека. Это удостоверяло ее, как печать. До сих пор она оставалась чем-то, что ходило между нами и чего, может, и не было на самом деле. Теперь же мы убедились – все действительно так. И все непоправимо.
По словам инспектора, папу могли бы отпустить, потому что допрос на проспекте Фоша[75]75
На проспекте Фоша находилось парижское, управление гестапо.
[Закрыть] прошел благополучно, но у него была плохо пришита звезда. Я возразила. Мама тоже, она объяснила, что прикрепила звезду скрепками и кнопками, чтобы ее можно было снимать и прицеплять на другие костюмы. Но полицейский стоял на своем: папу отправят в лагерь из-за этого. «В Дранси все звезды хорошо пришиты». Так мы узнали, что его интернируют в Дранси[76]76
С лета 1942 г. почти всех евреев интернировали в Дранси, а оттуда отправляли в Аушвиц.
[Закрыть].
* * *
Долго я буду помнить этот обед. Пришла Симона. Все сидели молча. Я, как ни странно, ела с большим аппетитом. Мама позвонила мадам Леви и попросила ее подняться к нам. А когда она пришла и села, все ей рассказала. Я старалась не смотреть на мадам Леви, боялась, что ей будет неприятно. Она сидела рядом со мной. Но по выражению лица Денизы поняла, что она побледнела. Дениза сказала: «Ей сейчас станет дурно». Мы обе в душе упрекали маму за то, что она не щадит ее чувств. Но, может, мы просто сами еще мало что пережили и потому могли думать о чувствах мадам Леви.
Еще запомнилась суматоха, которая поднялась в доме после обеда. Как будто мы собирались куда-то уезжать. Во время обеда прибежала Андре[77]77
Андре Бардьё – кухарка семьи Берр, у нее Элен ночевала в последние месяцы перед арестом, когда из-за ночных облав стало опасно оставаться дома, ей она доверила свой дневник. И Андре его сохранила.
[Закрыть] с двумя батонами хлеба. В комнате мисс Чайлд[78]78
Английской гувернантки.
[Закрыть] были разложены папины вещи. Мадам Леви так и сидела в кресле перед кофейным подносом. В спальне мама с Андре отбирали белье. Симона пулей помчалась к себе домой за ветчиной. Я скоро тоже ушла в лавку Тиффро с целым списком покупок. Там, на улице Монтессюи, пришлось подождать минут десять. Тротуар раскалился под солнцем, и я даже под тентом вся взмокла. Топталась перед дверью и умирала от нетерпения. На улице было спокойно, как всегда в час дня. Наконец подошел сам Тиффро, которого я не сразу узнала. Я все рассказала, он помолчал и спросил: «Простите, не соображу, как вас зовут?» – «Мадемуазель Берр». – «Да-да, конечно». Мы зашли в лавку, он медленно, методично стал доставать нужные вещи. Я еле вытерпела. Ушла с полными руками: термос (он сменил на нем пробку), зубная паста, щетка, мятная настойка. Когда вернулась домой, уже почти все было собрано. Пришли тетя Жер и Николь, но я их заметила только потом.
Поехали все втроем, отвез нас Аро. Париж хорош как никогда, снова набережные, Сена, Лувр. Мне вспомнился другой случай, когда вся эта красота поразила меня вопиющим несоответствием с трагическими обстоятельствами. Дело было 16 мая 1940 года, в день ланского прорыва[79]79
Наступление немцев под пикардийским городом Лоном.
[Закрыть], когда мы спешили за мадемуазель Лезье. Это уже далеко позади. Будущее тогда еще оставалось неведомым. Теперь оно проявилось, мы его знаем. И опять перед нами новый и опять неизведанный пласт будущего. А тогда уже через двенадцать дней еще один отрезок времени сбросил покров тайны и неизвестности и оказался горестным и безобразным[80]80
Через 12 дней после ланского прорыва, 28 мая, капитулировала Бельгия.
[Закрыть].
Автомобиль остановился у цветочного рынка. Мы вышли, нагруженные вещами. Это была целая процессия. Я несла рюкзак и одеяла, Дениза – корзину. У дверей префектуры нас остановил полицейский. Мама стала объяснять ему, зачем мы пришли, эти слова прозвучали первый раз, и я вздрогнула: «Мы по поводу одного интернированного, его отправляют в Дранси. Нам сказали, можно принести вот это…» Но тут же смирилась со своей ролью. Мы шли по каким-то бесконечным лестницам и коридорам с голыми стенами и дверями по правой и левой стороне, я думала, может, это камеры и в одной из них папа; нас посылали с этажа на этаж. В коридорах попадались то какие-то личности с бандитскими рожами, или мне так казалось, то служащие за столиками, все чрезвычайно вежливые. Рюкзак был тяжелый. У мамы едва хватило сил подняться на последний этаж. Да и я твердила себе: «Иди, иди, осталось еще немного». Как путь на Голгофу.
Нас еще погоняли по длинному коридору, в который выходило множество застекленных дверей, и привели в кабинет номер «?», как оказалось, предназначенный для иностранцев, потому что сидевший там полицейский сказал в телефон: «Пятый этаж. Нет, он француз. Понятно, значит, на третьем». Но и на третьем папы не было. Там была комната без таблички, в ней что-то вроде длинной конторки, за которой сидели несколько служащих. За эту загородку вела деревянная дверца. А справа была еще одна дверь, перед ней стоял полицейский, невысокого роста, чернявый, молодой. На вид понятливый. Мы изложили ему, по какому делу пришли, он скрылся за той самой дверью и выкрикнул имя – Берр.
Как только появился папа, мне показалось, что вот этот час автоматически сцепился с недавним временем, когда мы были все вместе, а все промежуточное – просто дурной сон. Как будто наступило затишье, грозовое небо ненадолго прояснилось. Теперь я думаю: это милость судьбы, что мы увидели папу уже после первого акта трагедии, после ареста. Он рассказал нам, как все было. И при этом улыбался.
Так с улыбкой потом и ушел. Теперь мы все знаем, и у меня такое чувство, что мы стали еще ближе друг другу и что он уехал в Дранси еще теснее с нами связанный.