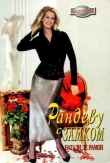Текст книги "Дневник"
Автор книги: Элен Берр
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
* * *
Вошел он со своей сияющей улыбкой, как бы приглашая оценить забавную сторону ситуации; он был без галстука, меня это сразу кольнуло – всего два часа прошло, а уже успели. Папа без галстука – первый признак «заключенного». Но оказалось, это временно. Один из полицейских извинился и сказал, что галстук, шнурки и подтяжки папе сейчас вернут. Мы засмеялись. Чтобы нас утешить, полицейский объяснил, что таков приказ, поскольку накануне один заключенный чуть не повесился.
Так и вижу, как папа не спеша одевается прямо там, в этой комнате. Сначала галстук ему дали чужой – месье Розенберга, папа уже знал своих сокамерников по именам. Со всеми успел познакомиться, мне захотелось расспросить о них, и от его рассказов почему-то стало легче. Своих соседей, судя по всему, он изучал с какой-то насмешливой отстраненностью, смотрел на все с иронией, а значит, сохранил не только спокойствие, но и sense of humour[81]81
Чувство юмора (англ).
[Закрыть]. У меня на душе потеплело, я была ему благодарна. Но все это так трудно объяснить.
От этих двух часов остались в памяти какие-то обрывки. Сначала я сидела на деревянной скамье напротив папы с мамой и пришивала его желтую звезду. Дениза что-то возмущенно говорила полицейскому, а тот смотрел на нее сочувственно. Я помалкивала. Старалась осознать, что же происходит. Наверно, именно тогда до меня все окончательно дошло, и голова была занята только сиюминутным.
Было похоже, будто мы сидим и ждем поезд на вокзале. Нет, было даже намного спокойнее, чем на вокзале. Почти что весело. Тон задавал сам папа. Иногда волнами подступало тревожное предчувствие – что будет дальше, когда кончится это свидание. Но, в сущности, это казалось неважным.
Мы даже разговаривали с полицейским и префектурными служащими. Был среди них человечек маленького роста, очень аккуратный и, казалось, очень concerned[82]82
Участливый (англ.).
[Закрыть], настоящий диккенсовский персонаж вроде мистер Чиллипа[83]83
Герой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
[Закрыть]. Он все советовал нам с Денизой вести себя осторожно. Был искренне огорчен и очень учтив. Самый молодой служащий беспечно раскачивался на дверце. Сцена была достаточно комичной – папа в роли заключенного, представители власти – полны сочувствия и уважения. Что, спрашивается, все мы там делали.
Но все это потому, что с нами не было немцев. Поскольку все были французы, жуткий смысл происходящего не ощущался в полной мере.
Забыла описать подробности ареста, это все, что я знаю с папиных слов, и не узнаю больше, пока он не вернется. Его действительно доставили на улицу Греффюль, потом – на проспект Фоша, где на него налетел немецкий офицер (или, как я расслышала, солдат), стал его оскорблять (schwein[84]84
Свиньи (нем.).
[Закрыть] и все такое) и сорвал с него звезду с криком: «В Дранси, в Дранси!» Это все, что я поняла. Папа говорил довольно сбивчиво, потому что мы засыпали его вопросами.
В середине свидания вдруг поднялась какая-то суета. То и дело открывалась и закрывалась дверь в коридор. Один из полицейских громко сказал: «Они пытались разговаривать с заключенным через щели в стене». А служащий ему ответил: «Впустите их, это мать и невеста». До этого я никогда не бывала в тюрьме. Но то, что подразумевалось в этих словах, в ту же секунду воскресило в памяти все сцены в полицейском участке из «Преступления и наказания», вернее, одну обобщенную сцену. Как будто действие всего романа сосредоточилось в полицейском участке.
Опять открылась дверь, вошли три женщины: мать, толстая блондинка простецкого вида, невеста, а третья, должно быть, сестра, потом ввели заключенного – черноволосого юношу, красивого какой-то грубоватой красотой, это был итальянский еврей, которого, кажется, обвиняли в торговле на черном рынке. Все они сели на деревянную скамью напротив нашей. И вот тогда запахло настоящей бедой. Но мы, все четверо, были настолько далеки от этих несчастных людей, что я и забыла, что мой отец тоже арестован.
Пятница, 26 июня
Утром в библиотеке.
Все так добры ко мне. Я вижу, как тяжело Сильви Себаун. Но предложить ей свою помощь не могу – она слишком гордая. Хоть знаю, что она очень бедствует. Я сообщила новость множеству друзей. Под конец уже затвердила все наизусть; а в одиннадцать часов пришла Сесиль Леман, очень красивая, в черном платье. Мы разговорились. Не подумав, я сказала ей, что все виновники поплатятся, а Сесиль мне ответила: «Да, но погибших уже не оживить». И только тут я осознала всю жестокость своих слов. Явился Сталин, я ему все рассказала. Он так и сел.
Он пробыл со мной целый день, и мы вместе ушли. Я ведь его почти не знаю, а он такой заботливый…
Мама сегодня получше. Может, потому что она выспалась. Я стараюсь делать всякие мелочи, которые обычно делал папа, – если она не заметит, что их не хватает, то и не огорчится лишний раз: по утрам открываю, по вечерам закрываю ставни в ее комнате, включаю утром газ.
Всю вторую половину дня спала на ходу. Отнесла пакет мадемуазель Детро, оттуда через Люксембургский сад пошла в институт. Свежая листва высоких красавцев-деревьев, пляска солнечных бликов – блаженный покой, он не отменяет печали, но словно разделяет ее с вами.
Отвозила письмо на улицу Бьенфезанс[85]85
Там находилось бюро УЖИФ.
[Закрыть], в метро толкучка, духота. Издергалась страшно – хоть плачь, три раза переспрашивала номер дома.
Потом поехала к бабушке на улицу Рейнуар. Разглядывала народ в вагоне, и вдруг ясно представился папа – красивый, элегантный. В ту минуту до меня дошло: вот почему я превратилась в безжизненный автомат, вот в чем смысл того, чем были наполнены последние дни, – все-все сводилось к одному, к тому, что папы, вот такого, каким его вижу, теперь с нами нет, его увезли.
От бабушки узнала новость: дома получили открытку от папы. Я помчалась туда. Усталость как рукой сняло. Прочитала на открытке: «Берр Реймон, номер 11943, лагерь Дранси», – но смысл не поняла, понимание приходит какими-то вспышками. Перечитала несколько раз, чтоб убедить себя, что все так и есть.
Дома уже была мама. Она читала и плакала. До половины восьмого не могли уйти – все время кто-то приходил.
Звонил адмирал Вриакос[86]86
Посол Греции в Париже.
[Закрыть]. Дениза ухитрилась засунуть себе в ухо черешневую косточку, мы все посмеялись. Еще была мадам Леви.
Пятница, вечер, 23.15
В какую-то минуту сегодня вечером я очень остро ощутила, как все ужасно. И не тогда, когда готовила пирог для папы. Хоть в голове так и роились мелкие воспоминания: как он наведывался на кухню и вдыхал аромат, когда мы пекли пироги. Но это меня не огорчало, даже наоборот – поддерживало иллюзию, что он тут, и еще дальше отодвигало мысль о реальном положении вещей.
Нет, это случилось, когда я перечитывала открытку: места, где он обращается к нам «мои девочки»; где описывает, чем занимался в первый день. То есть сначала я не расстраивалась, а скорее была рада узнать, что он там делает. Но потом почувствовала, до чего же скудна его новая жизнь и что означает этот перечень материальных нужд. На первый взгляд, кажется – он просто обустраивает быт на новом месте, а потом понимаешь, что это за быт.
И все-таки, глядя на знакомый почерк, я никак не могла уразуметь, что к чему, – он напоминал мне только папины письма из разных поездок. Еще недавно я видела его на открытках, которые он отправлял Жаку и Ивонне и где по большей части писал про Обержанвиль. Совсем не вязался этот почерк со значением слов, со смыслом того, что написано.
Вот и теперь опять не укладывается в голове.
Нет, вот какой-то проблеск среди ночи: я вижу, что между папой, каким он был дома и каким стал сейчас, там, где он есть и откуда прислал это письмо, разверзается непреодолимая пропасть.
Суббота, 27 июня, утро
Сегодня утром мадам Леви получила открытку от мужа[87]87
Он тоже был интернирован в Дранси.
[Закрыть], который уступил папе всю оборотную сторону.
Папа уже не так бодр, как накануне (писал он вчера). Говорит, что лагерная жизнь очень уныла. Мы и так уже о многом догадывались, но заговорить решилась только мама, остальные старались не верить или думать, что так и должно быть. Мама обратила внимание, что он просит теплую одежду. Она сидит переписывает письмо и плачет.
Первую посылку мы собрали прямо на столе в гостиной. Я плюнула на все свои дела и осталась дома с мамой. Позвонила Пино, чтобы сказать им, что папа там познакомился со студентом Эколь нормаль[88]88
Высшая нормальная школа – одно из самых престижных высших учебных заведений Франции.
[Закрыть]. Дениза пошла отправлять посылку. Я переписала вчерашнюю папину открытку для Жака. Многое пришлось опустить, чтобы не причинить ему боль.
Я позвонила мадам Агаш, хотела рассказать ей новости. Но подошел санитар, сказал, что мадам Агаш не стоит беспокоить – ее муж совсем плох. Кругом одни страдания! Надо же, как неловко получилось: в доме умирает человек, а тут телефон растрезвонился. Я поскорей повесила трубку, будто хотела стереть этот звонок.
Этим же утром он и правда скончался.
7 ч 30 мин
Ничего не понимаю. Традиционный субботний вечер прошел так хорошо, я окунулась в нормальную жизнь, хоть знаю, что вокруг беспросветный кошмар. На ужин пришли Детеф с женой, Анник, ее кузен Легран, Жоб, Николь и Брейнар. С вечерней почтой получила две открытки от Одиль и две от Жерара. Все нормально. Не знаю, что и думать. Такое чувство, будто после тяжелого сна я вынырнула в спокойную жизнь.
Притом что до восьми часов пребывала в этом кошмаре – с утра все было хуже некуда. После обеда я переписала папину открытку для Ивонны (сейчас, когда я пишу, эти слова до меня не доходят). Пришел Жоб, остался с Денизой в кабинете. А у мамы сидели Легасты. Я их почти и не застала, только проводила до дверей. Мадам Легаст, по-моему, плакала – даже проститься не смогла.
Потом все собрались, и я тоже. Поговорили с Жобом, и постепенно все: беседа, настроение – вошло в обычное русло. Мы даже немножко поиграли трио. Я попросила маму оставить место на открытке, чтобы и я могла хоть строчку папе приписать. Но когда она ее принесла, я будто позабыла, как это важно, все снова улетучилось из головы.
Казалось бы, открытки от Жерара должны были вчера занимать мои мысли. Но эта часть меня как будто отмерла. Я перестала отвечать – в фигуральном смысле. Читать эти открытки любопытно, но не более. Потому ли, что я так решила? Или на самом деле он мне стал безразличен? Уверена, что никакой другой причины нет, хоть всю неделю много думала об этом. Во мне все погасло.
Вот пришла мама, сейчас этот цепенящий морок пройдет.
Понедельник, 29 июня
Когда утром встаешь, еще не знаешь точно, что сегодня будешь делать. И каждый раз настигает какая-нибудь неожиданность.
Я вот утром получила открытку от Жерара, не ту, что помечена номером первым, а написанную еще раньше. Поколебалась и решила про нее забыть.
Пошла к Терезе, отнесла письмо для мадам Дюк. Открыла ее кухарка и стала 62 убежденно говорить, что русские за меня отомстят!
Шла обратно по проспекту Ла Бурдоннэ и думала, насколько я помню, о своих туфлях. Вдруг меня вывел из раздумья какой-то человек – подошел, протянул мне руку и громко сказал: «Французский католик жмет вашу руку… они за все заплатят!» Я сказала «спасибо», пошла дальше и не сразу сообразила, что произошло. Если и был на улице кто-нибудь еще, то не очень близко. Мне стало смешно. А ведь это был благородный поступок. Прохожий, видно, эльзасец, у него три ленточки в петлице.
На улице чувствуешь себя как на сцене, это нелегко.
* * *
Ходила за молоком и врезалась со всего маху в железную шторку – страшно больно. А все потому, что, когда после обеда, примерно в половине первого, я вышла из дому, на улице было так солнечно, ясно и хорошо, что я замечталась.
Часа в четыре в библиотеку пришел Ж. М. Я ждала его. С ним был Жан-Поль. Вышли вместе и дошли пешком до «Севр-Вавилон».
Вчера Франсуаза Масс рассказала, что на прошлой неделе из Турель[89]89
Казармы Турель в Париже на бульваре Мортье.
[Закрыть] депортировали восемьдесят женщин, одну из них арестовали лишь за то, что ее шестилетний сын не носил звезду. Среди них была дочь одной женщины-врача, которую знают и Ж. М. (она живет в Сен-Клу), и сама Франсуаза. Ее приговорили к пожизненным принудительным работам. Остальных, говорят, отправили куда-то под Краков.
* * *
В воскресенье ездили в Обержанвиль – Дениза, Николь, Франсуаза и я. Мама в последнюю минуту не поехала – ей нужно было повидаться с месье Обреном. Оно и к лучшему. Боюсь, ей было бы слишком тяжело.
Я заставила себя не думать. Всю дорогу мы болтали. А когда собирали клубнику, думала совсем о другом – о чем все время думаю невольно. Конечно, нас угнетало чувство невосполнимой пустоты, мы с Денизой все время были вместе – я ходила за ней, помогала собирать ягоды. Но о своих чувствах мы не говорили.
Провозились с клубникой до самого вечера. С виду все было так, будто мы просто приехали сюда среди недели без родителей. Но на дне души был тяжелый осадок – мы помнили, что случилось. Только сейчас я поняла, что мы не ходили никуда, кроме клубничных грядок, а весь сад так и жил своей собственной жизнью – ведь живет же он сам по себе, когда нас нет. Я больше не могу сливаться с ним, как прежде, не чувствую, что он меня принимает и любит. Теперь он ко мне равнодушен. И виновата я сама, потому что перестала обходить его весь целиком. Да и приезжаем мы редко и ненадолго.
Расцвели штамбовые розы, розовые и красные. Было похоже на garden-party[90]90
Прием гостей в саду (англ.).
[Закрыть].
Я старалась делать все, что обычно делал папа. Чтобы Дениза об этом не думала. Катила садовую тележку, нагружала пакеты.
Перед уходом мы простились с Юпами. Они все знали, но детям не говорили. У мадам Юп посреди разговора вдруг дернулось, как от боли, лицо, она чуть не заплакала. Это было ужасно. Но быстро прошло. Месье Юп[91]91
Садовник в Обержанвиле.
[Закрыть] пришел помочь нам собирать черешню. Обсуждали, что нужно сделать для папы. Разговоры о материальных вещах плотно занимают ум.
На обратном пути сидели в поезде перепачканные клубничным соком. А я еще яйцо разбила, и оно потекло. Потом уступили места женщинам с грудными детьми. На вокзале нас встретили Андре с мужем и Луиза. Так было приятно! Хотя, если вдуматься, в этой радости таилась печаль.
Вторник, 30 июня
Ночью стреляли пушки, выла сирена, но взрывов слышно не было. Мне смутно вспомнилось: вот только-только вечером мы говорили, что прекратились английские налеты. А Ж. М. сказал, что их больше и не будет. Мы переговаривались с мамой, каждая из своей комнаты, и обе думали об одном – о папе. Ночью эта мысль мучит нестерпимо, как никогда днем. Днем боль, как коркой, затягивается житейскими заботами.
Утром получили от папы список необходимых вещей. Мама стала читать и заплакала – он просил много теплого, шерстяного. Чем дальше, тем хуже, голос у нее срывался. Про одну вещь я вообще не знала, что это такое; оказалось, порошок от насекомых. Мама показала на голову. Я поняла.
Я тут же сходила в молочную лавку. Но там ничего не было.
После обеда поеду в Обержанвиль за папиным серым костюмом – он ему нужен. Смогу ли хоть тогда осознать, что значит эта поездка? Пока не могу. Ничего не могу поделать – все это не укладывается в голове. Знаю, что папа в Дранси. Знаю, что еще неделю назад он был тут, веселый, живой, энергичный. Но эти две вещи никак не вяжутся друг с другом.
Четверг, 2 июля, вечер, 23.15
Только я закрыла ставни в спальне, как сверкнула молния во все небо. Оно остается зловещим. Это после того, как весь день бушевало, лил дождь, вдали грохотало. Был страшно напряженный день, и только к вечеру наступила развязка. Хочу все записать, пока не уснула. Потому что усну, несмотря ни на что, это точно, сон пересилит разум, как всегда.
Что же случилось? Началось с того, что только мы сели за стол, как позвонил месье Дюшмен. Я сняла трубку и передала маме. Она говорила уверенным, спокойным голосом, так что потом, когда, она сказала: «Папу освободят при условии, что он уедет», – я просто опешила. Я еще не освоилась с самой этой мыслью и удивилась, как быстро согласилась мама; она потом спросила, что бы сделали мы на ее месте.
Уехать. Всю неделю меня не оставляло смутное предчувствие. Первый отклик на эту мысль – жгучее отчаяние. А затем – протест. Сейчас, немного подумав, я вижу, что во мне говорит эгоизм; я не хочу жертвовать своим счастьем, ведь все хорошее, что было в моей жизни, сосредоточено здесь. Но допустим, я себя уговорю, заставлю себя пойти на эту жертву. Остается другое.
Согласиться уехать, как делают многие, – значит пожертвовать еще и чувством собственного достоинства.
Пожертвовать причастностью к героической борьбе, которую чувствуешь здесь.
Пожертвовать тем, что на равных правах участвуешь в сопротивлении, и смириться с тем, чтобы покинуть других французов, которые останутся бороться.
Все это так, но на другой чаше весов – папа. И колебаться нельзя. В начале недели мы сильно опасались, что его отправят еще дальше. Так что никаких колебаний, это даже не обсуждается. Но это гнусный шантаж, хотя многие люди обрадуются. Одни верят, что проявляют доброту и милосердие, не догадываясь, что в конечном счете рады потому, что больше не придется утруждаться из-за нас и даже нас жалеть; другие будут думать, что нашли для нас идеальное решение, и не поймут, что для нас это такая же тяжелая потеря, какой была бы для них, – они не представляют себя на нашем месте, считают, что мы обречены на изгнание просто потому, что мы – это мы. Но все это происходит в уме. Я могу эти мысли прогнать, сказать себе, что это только мысли. А дело-то не только в них. Есть вещи невозможные, чуть подумаешь – вздрогнешь, потому что это правда совершенно невозможно: оставить бабушку и тетю Жер, уехать, когда другие остаются в лагере. Оставить мадам Леви.
Она примчалась сразу после того телефонного разговора. Страшно взволнованная. Ее вдруг прорвало. Она должна нам кое-что сказать, о чем ей самой рассказали. Казалось, от волнения слова вот-вот хлынут, как слезы. Это касалось указа, который должен появиться 15-го числа[92]92
Акция, вошедшая в историю как «облава на Вель д’Ив» (т. е. на Зимнем стадионе, куда согнали около 14 тысяч парижских евреев, вскоре высланных во французские концлагеря, а оттуда в лагеря смерти), первоначально была назначена на 13 и 14 июля, а потом перенесена на 16 и 17 июля. По требованию немецких властей французское правительство организовало масштабную облаву как в оккупированной, так и в свободной зоне. Теоретически французская полиция должна была арестовывать не французских подданных, а только евреев-иностранцев. В результате-утёчек из столичной городской администрации еврейские организации были информированы о неизбежной облаве.
[Закрыть] и согласно которому в концлагеря отправят всех евреев. Должно быть, весь душный предгрозовой день она размышляла об этом в одиночестве. И за ужином тоже только об этом и думала, мы же, все трое, думали о другом. Два мысленных потока встречались или текли параллельно друг другу, в полном молчании. И я холодела при мысли о том, что нас относит в сторону от общей участи. Утешало одно: в свободной зоне нас ничего хорошего не ждет. Мне почему-то нужно было искупление.
После ужина небо нахмурилось еще больше. Прямо над головой загрохотал гром. Но мадам Леви понемногу приходила в себя. И ушла успокоенной. Мама вечером еще обдумывала, как отомстить подлецам, устроившим эту сделку, и что она скажет людям. У меня же слипаются глаза, ломит виски, и в голове мутится. Завтра утром буду лучше соображать. Не могу поверить в реальность всего, что было в этот вечер. Что бы там ни говорили.
Пятница, 3 июля, 7 часов утра
Проснулась с единственной, ясной мыслью: нас хотят принудить совершить ужасную подлость. Чего же еще можно было ждать от немцев? В обмен на папу они забирают у нас то, чем мы больше всего дорожим: нашу гордость, достоинство, дух сопротивления. Какая подлость! А люди подумают, что мы еще и рады этой подлости. Боже мой – рады!
И даже будут довольны, что теперь-то можно больше не считать нас достойными восхищения и уважения.
Да и для немцев это выгодная сделка. Держать папу в тюрьме – значит вызывать довольно громкое возмущение. Это им не на пользу. Выпустить папу на волю, чтобы он жил как раньше, – затруднительно и опасно. А сделать так, чтобы папа исчез, растворился в свободной зоне – и все успокоится, все уляжется, – вот это идеальный вариант. Им не нужен герой. Надо сделать его презренным. Жертвы не должны вызывать восхищение.
Ну, если так, клянусь и дальше мешать им, насколько хватит сил.
Во мне живут два очень близких, хотя и разнородных чувства: с одной стороны, я чувствую, что, уезжая, мы совершаем пусть вынужденную, но подлость – да, подлость по отношению к остающимся в лагерях и всем другим несчастным людям; а с другой – что мы жертвуем радостью борьбы, то есть жертвуем счастьем, ведь в борьбе находишь не только радость от самого действия, но и друзей, братьев по сопротивлению.
По сути, правомерны обе точки зрения: для меня самой отъезд – это не подлость, а огромная жертва, в другом месте мне будет плохо, но я не могу требовать от других, чтобы они думали так, как я. Для других это подлость.
Пятница
Утро было какое-то странное. Небо так и не прояснилось – оставалось низким и хмурым. В помещении влажно и душно. Я вышла из дому с опозданием (сегодня мое дежурство в библиотеке), потому что дожидалась почты. Пришли две открытки от Жерара, я прочла их на улице. В институтском дворе уже собирались студенты, Альбус сказал мне, что во время устных экзаменов библиотека не работает. Так что неожиданно я оказалась свободной. Поднялась в библиотеку, с трудом пробилась сквозь толпу на лестнице. Но там было страшно жарко, и я вернулась вниз. На втором этаже Шарль Делатр принимал экзамен у филологов, я приоткрыла дверь и заглянула – всего на секунду, поэтому не поняла, заметил он меня или нет. Но тут же услышала через дверь уверенные шаги – это был он. Он вышел, поздоровался, увидел папку у меня под мышкой, сразу понял, что это мой диплом, и спросил, как продвигается дело. Я ответила: «Насколько возможно». Он уже собирался вернуться обратно, но снова подошел и спросил: «Правда, что арестовали вашего отца?» Я рассказала, как все было. Он сочувственно выслушал, прежде чем вернуться в аудиторию.
Я вышла во двор и целый час стояла, прислонясь к стене, ждала Николь. Студенты этого курса были по большей части незнакомыми. Но некоторые меня знали и подошли поболтать. Довольно долго разговаривала с Моник Дюкре. Часов в десять появился Жан-Поль. Я обрадовалась – наконец кто-то из своих. Он страшно нервничал из-за экзамена. Я проводила его, для поддержания духа, до первой аудитории, где принимал Ландре. Он был записан на вторую половину дня. Не помню, сколько раз бегала вверх и вниз по лестнице встретила там Сильвера Моно – очень приятный парень – и хорошенькую Анни Дижон. У нее маленький носик, и, когда она чем-то возмущается, ноздри очень забавно раздуваются. Мы как-то раз разговаривали о ней с Жаном Пино, и он назвал ее «очень-очень милой». Так и есть. Наконец я нашла Николь, она была с Жан-Полем. И уж тогда, в одиннадцать часов, пошла домой. Застала там маму с Денизой. Новостей никаких. Оказывается, вчерашнее предложение не было ультиматумом. А мы все трое так вчера измотались. Я пошла на кухню печь к ужину песочное печенье. Луиза ушла, за нее все делает Бернадетта. Стараемся держаться друг за друга.
Месье Буассери пришел в одно время с месье Дюшменом. Я немного послушала под дверью: месье Дюшмен настроен очень оптимистично, говорит с убежденностью, явно искренней, не нарочитой: про де Бринона[93]93
Фернан де Бринон – французский политик, коллаборационист, в 1940–1942 гг. был представителем правительства Виши при немецкой администрации в Париже.
[Закрыть], который «принял близко к сердцу» и т. д.
Месье Буассери ничего не знал и был потрясен. За обедом было невесело. Потом нам с Денизой ужасно захотелось спать. Но я героически держалась. В полтретьего сходила к Метею. Жара невыносимая. Часов в пять пришла Франсуаза Масс. Мы с ней поужинали в моей комнате. Сыграли сонату Моцарта.
Часов в семь, в одно время с Анник, пришел Оливье Дебре[94]94
Оливье Дебре – студент, учился на филологическом факультете и в Высшей школе изящных искусств. Впоследствии стал известным художником. Он сын профессора Робера Дебре и брат будущего премьер-министра Мишеля Дебре, оба они были участниками Сопротивления.
[Закрыть], гладко выбритый – дружеская шуточка.
После ужина мама ушла. Дениза в папином кабинете занималась немецким. Я читала биографию Достоевского. Мама вернулась около десяти. Мы еще посидели. Речь опять зашла о концлагерях. И, как всегда в таких случаях, сбивались с серьезного на смешное, шутили, так что, в конце концов, возобладали шутки, перебивающие трагизм ситуации. Под конец перебрались на кухню, наелись там холодного зеленого горошка – я его обожаю, потом – в ванную комнату Денизы, обсуждали сравнительные достоинства Ж. М., Денизе он не нравится, и Жана Пино.
Я потому описываю эти мелочи, что жизнь наша сжалась, сами мы стали ближе друг другу и каждая мелочь приобретает огромное значение. Живем уже не с недели на неделю, а с часу на час.