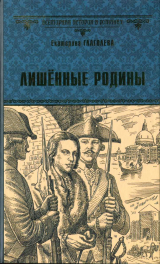
Текст книги "Лишённые родины"
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Праздники, концерты, театральные представления, катания с деревянных гор… Третьего сентября король с императрицей и великокняжеской семьей любовался из павильона, поставленного у входа в Летний сад, трехактным фейерверком над Невой. В первом действии брызги разноцветных огней соединились в вензели G и Е, лавровые венки, пальмовые ветви и звезды; во втором зрителям был представлен извергающийся вулкан на фоне дворца; наконец, завершилось всё запуском тысяч шутих, из-за которых стало светло как днем. Сколько тысяч было сожжено таким образом? Шведам явно хотят показать, насколько Россия богата, куца им с нею тягаться…
Наутро после фейерверка король отправился в Павловск и наблюдал из ложи вместе с Марией Федоровной и великими княжнами, как цесаревич лично командует сводным полком из пехоты, гусар, казаков и артиллерии. Потом были прогулки по парку, посещение зверинца, вечером – итальянская опера; на другой день – бал по случаю дня рождения Елизаветы Алексеевны, который давал великий князь Александр; затем всё семейство отправилось в Гатчину.
Мария Фёдоровна томилась; ожидание казалось ей нестерпимо долгим. Разве можно так мучить двух влюбленных детей! Они еще так молоды и неопытны, им нужно помочь сделать первый шаг. Она возьмет это на себя и проделает всё очень тонко, свекровь останется довольна.
Они шли втроем по темной неширокой аллее, обсаженной мохнатыми лиственницами, в глубине которой светлела беседка. Фрейлины благоразумно отстали. Густав хранил молчание, подлаживаясь под мелкие шаги дам; Alexandrine семенила слева от матери.
– Вы печальны, ваше величество, – заговорила Мария Федоровна участливым тоном. – И мою бедную малютку это беспокоит. Прошу вас говорить со мной, как с другом. В чем причина вашей грусти? Надеюсь, вы здоровы?
– Совершенно. Вам нечего опасаться. Когда Alexandrine будет у меня в Стокгольме, всем моим печалям настанет конец.
Мария Федоровна затрепетала от радости. Нужно поймать его на слове!
– Но ведь вы еще так долго не увидитесь! – сказала она с отчаянием в голосе. – Я знаю, вы любите друг друга и будете тосковать – ах, как я это понимаю! Когда любишь, даже день разлуки кажется годом, а вы… на сколько месяцев вы расстаетесь?
Густав принялся за подсчеты с самым серьезным видом и, когда закончил, в глазах его стояли слезы.
– На восемь месяцев, – выдавил он из себя.
– Восемь! – ахнула его будущая теща. – Ах, это очень долго.
– Да, это очень долго, – эхом отозвался король.
– Так почему бы вам не приблизить минуту встречи? Вы же сами сказали, что ваши печали окончатся, как только Alexandrine будет в Стокгольме.
– Я очень желал бы этого, но для бракосочетания короля существуют лишь два времени года: осень и весна, зимою это невозможно.
Мария Федоровна весело рассмеялась.
– Так отчего бы вам не жениться теперь?
– Двор не составлен, апартаменты не готовы…
– О, двор составить недолго, а если кто кого любит, то не обращает внимания на апартаменты.
– Море опасно.
На этих словах раздался тоненький голосок Alexandrine:
– С вами я всегда буду считать себя в безопасности.
Король почувствовал комок в горле и снова замолчал; Мария Федоровна тактично выждала некоторое время, прежде чем возобновить разговор и привести корабль в нужную гавань:
– Доверьтесь мне, Густав, – мягко сказала она и тронула его за руку. – Вы ведь желали бы поскорее окончить это дело?
– Я очень бы этого желал, но всё зависит от герцога.
Как глуп он был, в самом деле, объявив, что женится только после коронации! Впрочем, в тот момент это спасло его от союза с горбатой дурнушкой. Его вовремя предупредили об изъянах немецкой принцессы и о красоте русской. Правда, Густав ни разу не видел Луизу-Шарлотту Мекленбургскую, однако ему не присылали и ее портретов, это неспроста! Зато Alexandrine в самом деле прелестна, и он… да, он любит ее.
– Хотите, Густав, я переговорю с императрицей? – подсказала ему выход из положения Мария Федоровна. – Принимаю это на себя и не сомневаюсь в том, что ее величество не поставит вас в ложное положение.
Густав посмотрел на нее с благодарностью.
– Да, ваше высочество! Только нужно, чтобы она сделала это предложение регенту как бы от себя, а не от меня.
У него словно камень с души свалился.
Весь вечер король пребывал в отличном расположении духа, целовал своей невесте руки, говорил ей нежности и даже обнимал ее при всех; Мария Федоровна этому не препятствовала.
На следующий день, в понедельник, был бал в Большой зале Таврического дворца. Стройные ряды белых колонн искусно подсвечивались снизу; в восьми вызолоченных люстрах горели сотни свечей. Екатерина завела разговор с герцогом Сёдерманландским и между прочим спросила, почему бы не обручить короля и Александру Павловну прямо сейчас, не откладывая. Герцог согласился, что это разумное решение, нужно лишь узнать мнение министров и самого монарха. Через час он вернулся к императрице: король желает этого всем сердцем.
– Это будет обручение с церковным благословением или без оного? – невинно поинтересовалась Екатерина.
– С благословением, по вашей вере, – успокоил ее Карл. – Соблаговолите назначить день.
Императрица задумалась.
– В четверг, в моих покоях, – ответила она, всё взвесив. – Так будет лучше: они ведь желают, чтобы это произошло частным образом, не в церкви – в том соображении, что в Швеции брак должен быть объявлен публично лишь по совершеннолетии короля.
– Совершенно справедливо, – подтвердил регент.
– При этой церемонии, полагаю, со стороны короля будете вы и еще… трое государственных чинов, а с нашей стороны – я, мое семейство, министры, коим будет назначено подписать брачный договор, граф Николай Салтыков и генеральша Ливен.
Герцог поклонился.
Утром следующего дня в Зимний дворец явился шведский посол – просить руки Александры Павловны для Густава IV Адольфа. О расторжении помолвки с мекленбургской принцессой было объявлено официально; русским и шведским уполномоченным министрам дали два дня на согласование союзного трактата и брачного договора, подготовленных Коллегией иностранных дел.
***
– Нет, каково, а? – густо хохотал Булгарин. – Приезжай, говорит, ко мне в Константинополь, тут много поляков, как пончик в масле купаются! Герсдорф – басурманин! Поверить не могу! В гарем к себе приглашает! Да я тебе сейчас прочитаю!
Он начал рыться по карманам в поисках письма, но не нашел.
– Э, видно, обронил где-нибудь или дома забыл. Ну ничего, в другой раз!
Герсдорф был минским адвокатом, из лифляндцев, умный, веселого нрава и приятного обхождения. С Булгариным они дружили с детства, познакомившись еще в школе в Новогруцке. Отправляясь в армию к Костюшке, Герсдорф занял в Минске несколько сот червонцев в одном католическом монастыре под поручительство Булгарина. После разгрома повстанцев о нем не было никаких вестей, и Булгарин почитал его погибшим. Монастырю он выдал вексель на свое имя: обязательство есть обязательство. Жаль, что деньги пропали, но деньги – дело наживное, а вот друга уже не вернешь никогда, его жаль вдвойне. И вдруг, приехав в сентябре девяносто шестого года в Вильну по делу о продаже своего имения, он узнал, что не утратил ни тех, ни другого! Его разыскал какой-то грек, купец из Константинополя, вручил деньги в уплату долга, с благодарностью за поручительство, и письмо от Герсдорфа, который сумел пробраться в Турцию, принял там магометанство, получил даже какой-то важный пост в артиллерии и обзавелся гаремом. Обрадованный и позабавленный, Булгарин читал письмо всем своим знакомым, каждый раз смеясь и шутя над тем, уж не податься ли и ему к туркам, переменить веру и зажить припеваючи?
Заметив в дверях своего камердинера, он оборвал смех и пошел узнать, что случилось. Слуга ответил, что на квартире его ожидает какой-то господин по весьма важному делу и просит немедленно приехать. Простившись с хозяевами и извинившись, что покидает их так рано, Булгарин поехал к себе.
Хорошее настроение в миг улетучилось, когда он увидел во дворе две кибитки с почтовыми лошадьми и часовых у входа. В его квартире хозяйничали полицейские чиновники, рывшиеся в его вещах и бумагах, складывая последние в мешок; тут же находился офицер с командой. Булгарин побагровел.
– Что это значит? – рявкнул он. – По какому праву у меня производится обыск? Извольте объясниться!
Офицер предъявил полученный им приказ: доставить господина Булгарина в Гродно со всеми бумагами, добавив, что о причине ареста ему ничего не известно.
Вышли во двор, сели в кибитки: в одну – Булгарин с офицером и солдатом, в другую – полицейский чиновник с двумя нижними чинами; кони понеслись во всю прыть. Ехали всю ночь и к утру прибыли в Гродно, где Булгарина заключили под стражу в монастыре бернардинцев.
…Получив письмо об аресте мужа, пани Анеля схватилась за сердце. Но тут же взяла себя в руки и принялась распоряжаться об отъезде в Минск. Вперед выслали слуг, чтобы подготовили городской дом к прибытию хозяев; служанки собирали вещи – возможно, в городе придется зазимовать, увязывали в узлы постели, перины и одежду; повар запасал провизию в дорогу. Тадеушек бегал по двору, глядя, как запрягают лошадей и укладывают на телеги тюки и корзины.
В Минске госпожа Булгарина сразу отправилась к генерал-губернатору Тутолмину – просить совета и покровительства. Тутолмин уже знал от Репнина о том, что случилось, и не стал скрывать, что граф Бенедикт сам навлек на себя неприятности своей несдержанностью и легкомыслием, усугубив дело своим поведением на допросах, то пытаясь обратить всё в шутку, то слишком горячась и пускаясь в политические рассуждения. Конечно, он знает Булгарина лично и с самой хорошей стороны, соболезнует его участи и непременно вступится за него, даже напишет в Петербург, но сейчас ещё не время: пусть первый жар пройдет, пыль уляжется. Если даже и отправят его в Сибирь, то Сибирь не могила: оттуда возвращаются. Государыня сейчас занята устройством шведского брака великой княжны Александры Павловны; как только всё уладится к ее удовольствию, можно будет и хлопоты начинать. Терпение и вера…
***
В седьмом часу вечера одиннадцатого сентября (для шведов это было двадцать второе) митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил в праздничном облачении, сопровождаемый многочисленным духовенством, проследовал в придворную церковь Зимнего дворца. В Кавалергардском зале собрались придворные дамы и фрейлины в фижмах – нарумяненные, с тщательно взбитыми и напудренными прическами и с бриллиантовыми украшениями; здесь же были министры, Сенат, генералы, кавалеры с лентами и весь двор, включая камер-юнкеров Чарторыйских. Всем им прислали пригласительные билеты на бал, устраиваемый цесаревичем Павлом Петровичем, и ни для кого не было тайной, по какому случаю дается этот бал: во внутренних покоях императрицы должно состояться обручение Александры Павловны и Густава Шведского. Ровно в семь явилась и невеста в сопровождении родителей, братьев и сестер. Великие княжны с матерью устроились на бархатных табуретах, все прочие стояли. Ждали прибытия короля, к которому императрица послала графа Моркова.
Ожидание становилось томительным; даже тихая музыка, лившаяся с антресолей соседнего, Георгиевского зала, его не облегчала. Оркестром дирижировал маэстро Джузеппе Сарти, придворный капельмейстер, двенадцать лет назад сменивший Джованни Паизиелло. Для сегодняшнего вечера он положил на музыку оду Гавриила Державина; при появлении императрицы и короля хор должен был грянуть:
Орлы и Львы соединились,
Героев храбрых полк возрос,
С громами громы породнились,
Поцеловался с шведом росс.
Но пока и хористы лишь переминались с ноги на ногу. За окнами было уже темно. Воздух в зале густел, насыщаясь запахом крепких духов, разгоряченного тела и свечного воска, становилось душно. Дамы, затянутые в корсеты, обмахивались веерами; кавалеры сходились в кучки и тихо скользили в мягких туфлях от одной к другой; перешептывания сливались в гудение пчелиного улья. Оно тотчас стихало, как только кто-нибудь выбегал из покоев императрицы или, наоборот, протискивался в двери, но эта беготня продолжалась, ожидание всё тянулось, и никто не знал положительно, что происходит.
…Союзный трактат проблем не создал: Россия и Швеция обещали друг другу помощь в случае нападения со стороны третьей державы или дискриминации в торговле (подразумевалось, что этой «третьей державой» может оказаться Франция); повторная демаркация границы между русскими и шведскими владениями в Финляндии будет завершена в двухмесячный срок; новый торговый договор заключат на условиях, благоприятных для каждой стороны, Швеция сможет ежегодно закупать в русских портах зерно на пятьдесят тысяч рублей; преступники из одной страны, укрывшиеся на территории другой, должны быть выданы по первому требованию. Но с брачным договором возникла заминка – вернее, с сепаратным артикулом к нему из четырех статей: став королевой Швеции, Александра Павловна получит полную свободу вероисповедания, и этот вопрос никогда не подвергнется обсуждению; внутри или вне покоев королевы в Стокгольме будет находиться часовня, где ее величество сможет внимать божественной службе; служители этой часовни будут находиться под защитой естественного права в силу закона о веротерпимости, установленного в Швеции; королева будет сопровождать короля при посещении лютеранских церквей и принимать участие в религиозных церемониях, если ее присутствие сочтут необходимым. Артикул переписывали несколько раз, заменив, в частности, «православную апостольскую греческую религию», которую намеревалась исповедовать будущая королева, на «вероисповедание, в котором она была рождена и воспитана». Герцог Сёдерманландский и большинство министров не возражали, однако молодой риксмаршал граф Флеминг оказался настоящим религиозным фанатиком и окончательно сбил с толку короля. Почему бы русской принцессе не переменить веру, приняв религию своего супруга, как это сделали обе великие княгини и, кстати, сама императрица в момент своего замужества, причем вопреки воле своего отца? Екатерине сообщили, что Густав имел беседу с невестой по вопросу о вере, и та якобы сказала, что согласна сделаться лютеранкой. Государыня тотчас вызвала себе Alexandrine с матерью для допроса; Мария Федоровна была бледна как смерть; Сашенька плакала и клялась, что ничего не обещала. Грозная бабушка успокоилась, поверив в ее искренность. Ничего, не всё еще потеряно.
Очередной бал в Таврическом дворце был устроен для избранного круга, редкие пары танцоров терялись в огромной Большой зале. Екатерина усадила Густава в кресло рядом с собой и за разговором, прикрываясь веером, передала ему записку – прием, прекрасно освоенный ею еще в молодости, с Салтыковым и Понятовским. После бала, проходя мимо племянника своего бывшего любовника, она весело сказала:
– Завтра мы покончим с королем наше дельце!
Это было накануне венчания.
Отказ короля подписать секретный артикул всех огорошил. Платон Зубов, оттеснивший в сторону Безбородко и доверивший переговоры Моркову, чтобы после приписать себе в заслугу еще и шведский брак, похолодел, вообразив гнев императрицы, однако быстро овладел собой и решил взять дело в свои руки. Он никогда не знал отказа, не будет его и в этот раз. Захватив с собой документ, светлейший князь отправился на набережную Крюкова канала.
Пробежав глазами пункты, составленные по-французски, Густав обмакнул перо в чернильницу, перечеркнул их крест-накрест и приписал внизу: «Дав уже слово чести Вашему Императорскому Величеству, что Великая Княжна Александра никогда не будет испытывать принуждения в вопросе религии, и полагая, что Ваше Величество были этим удовлетворены, я в полной мере отдаю себе отчет в священных узах, кои налагает на меня сие обязательство, и считаю любое другое письменное заявление с моей стороны совершенно излишним». Под этими словами он поставил свою подпись и число, после чего протянул бумагу Зубову:
– Передайте ее величеству, что это мое последнее слово.
Князь Платон настолько растерялся, что лист, выпущенный из королевских пальцев, упал на пол.
Часы в покоях императрицы прозвонили одиннадцать раз. Ждать дольше было уже невозможно. Двери раскрылись; гул голосов в Кавалергардском зале мгновенно сменился звенящей тишиной. Вошла Екатерина – как всегда, спокойная, величественная, опираясь на трость. Александра, с трудом удерживавшая слезы, устремила на нее умоляющий взгляд. В этот момент распахнулись противоположные двери зала, но на пороге появился не король, а граф Морков в парадном камзоле, с голубой андреевской лентой через плечо. Его некрасивое, рябоватое лицо с коротким носом было непроницаемо; быстрыми мелкими шажками он пересек весь зал, приблизился к императрице и что-то прошептал ей на ухо. Екатерина побагровела, пошатнулась, ловя воздух полураскрытым ртом, у нее словно отнялся язык; расторопный камердинер Захар Зотов сбегал за водой, она отпила большой глоток и пришла в себя.
– J’apprendrai à ce morveux![7]7
Я покажу этому паршивцу! (франц.)
[Закрыть] – воскликнула государыня, погрозив тростью в сторону двери, и удалилась под руку с великим князем Александром.
Гостям объявили, что бал не состоится по причине нездоровья императрицы, и просили разойтись; послали в церковь – извиниться перед священнослужителями за доставленное беспокойство: обряд откладывается.
Екатерина не хотела никого видеть. Ее тошнило, затылок жгло, было трудно дышать. Когда она уже лежала в постели в ночной сорочке, явился лейб-медик Роджерсон и предложил отворить ей кровь.
– Дайте ему две тысячи рублей, – промычала государыня, обращаясь к Зотову.
Это была обычная плата, которую Роджерсон получал за каждую такую операцию. Можно подумать, он это делает ради денег! Врач обиделся и ушел.
На следующий день праздновали рождение великой княгини Анны Федоровны. В придворной церкви служили торжественную литургию в присутствии всех чинов первых четырех классов по Табели о рангах. В Петропавловской крепости палили из пушек, а Константин с супругой принимали поздравления. Явились и Густав с регентом, в сопровождении свиты. Поздравив именинницу, они вслед за князем Барятинским прошли в покои императрицы.
За креслом государыни стояли Платон Зубов и Аркадий Морков, которому вчера пару раз досталось тростью. Екатерина приняла холодно-учтивое выражение, на лице Густава было написано упрямство, а на лице регента – отчаяние. Король положил на стол письмо, полученное третьего дня на балу. Императрица предложила ему обсудить и внести в договор те изменения, какие он сочтет нужным, но Густав твердил слова Пилата: «Quod scripsi, scrips!»[8]8
Что написал, то написал (лат.).
[Закрыть], не желая ничего слушать. Куда только девались его воспитанность и учтивость! Регент то и дело переходил на шведский, пытаясь что-то ему втолковать; король отвечал ему с гневом. Эта перебранка продолжалась около часа, после чего оба удалились; регент рыдал, король даже не смотрел в его сторону. Екатерина велела прервать переговоры: сейчас всё равно ничего не добиться.
Вечером был назначен бал в галерее Зимнего дворца. Мария Федоровна просила у свекрови разрешения остаться дома: Alexandrine, кажется, простудилась, к тому же у нее глаза распухли от слез. Екатерина ответила, что обе обязаны явиться: ничего не случилось, разрыва нет, просто досадное промедление, на которое все мы сердимся. Пусть Alexandrine протрет веки льдом и примет бестужевских капель.
Ничего не случилось! Это не нам отказали, это мы не приняли их условий. Вся великокняжеская семья явилась на бал – нельзя же оставить именинницу одну. Понятовский беседовал о каких-то пустяках с великим князем Константином, который вдруг отошел в сторону и встал за одной из колонн, заложив ногу за ногу. Удивившись этому поступку, князь Станислав, однако, быстро отгадал его причину: в галерею входил шведский король. Густав подошел поприветствовать Константина, но тот едва кивнул головой; король оторопел. Видевший эту сцену князь Юсупов поспешил уведомить императрицу, которая не замедлила явиться – с любезной улыбкой, расточая приветливые взоры. Правда, от Понятовского не укрылось, что у нее слегка тряслась голова. Внуку она приказала немедленно удалиться, имениннице – танцевать с королем. Однако контрданс был забыт – оркестр играл менуэт. Константин Чарторыйский, отменный танцор, шел в паре с великой княгиней Елизаветой; Александр метал в шведов возмущенные взгляды.
– Браво, ваше величество, – с поклоном сказал Понятовский, когда Екатерина проходила мимо.
Императрица улыбнулась:
– Когда не в чем упрекнуть себя, всегда идешь с высоко поднятой головой.
Надо полагать, что Густаву тоже было не в чем себя упрекнуть, хотя регент, казалось, был иного мнения. Шведы держались несколько принужденно, но отнюдь не виновато. Зато на следующее утро императрица с удовольствием прочитала донесение о том, что весь шведский двор, от короля с регентом до последнего слуги, перессорился друг с другом и теперь все отказываются выходить из своих комнат, сказавшись больными.
Прошло четыре дня, и членов Государственного совета вместе с двором вновь созвали в Кавалергардский зал. На сей раз Густав пришел – со всей своей свитой. Стороны подписали брачный договор, который, однако, не имел силы без его утверждения королем после его совершеннолетия, то есть через два месяца. Пустая бумажка pour sauver la face[9]9
Чтобы сохранить лицо (франц.).
[Закрыть]. На следующий вечер король пришел проститься и поблагодарить за прием; Екатерина усадила его с собой на диван в Бриллиантовой комнате и терпеливо выслушала заготовленную речь, которую он произнес довольно сбивчиво, но искренне. Он помнит о своем долге перед своим народом и намерен исполнить его, однако это вовсе не умаляет его власть. Императрица на это отвечала, что тоже действовала сообразно своим убеждениям и обязанностям. Затем Густав наконец задан вопрос, занимавший его более всего: как здоровье Александры Павловны? Екатерина сказана, что все четыре великие княжны подхватили простуду. Что поделаешь – осень! Между ними начался простой человеческий разговор, и лишь в конце его Екатерина мягко пожурила своего юного гостя: ему не следовало заговаривать с Alexandrine о религии и смущать ее. Если бы она оказалась настолько слаба, что согласилась переменить религию из любви к нему, то потеряла бы всякое уважение к себе в России, а следовательно, и в Швеции.
В субботу, 20 сентября, праздновали день рождения цесаревича Павла. Графы Гага и Ваза отбыли в свое отечество, и никто не пришел их проводить. Графа Моркова тоже нигде не было видно: его сразил внезапный недуг. Разумеется, по двору поползли слухи об опале, которые Екатерина сочла нужным опровергнуть, громко заявив при всех, что он в точности исполнял ее приказания. Два дня спустя отмечали годовщину коронации императрицы; на торжественный выход в Мраморном зале, за которым следовал бал, пригласили дипломатический корпус, который был совершенно забыт в продолжение целого месяца, пока в столице находились шведы. Дипломатов это задело, и Екатерине нужно было найти верные слова, чтобы извиниться перед ними, не уронив своего достоинства. Князь Понятовский стоял справа от трона (в последнее время императрица словно не могла без него обойтись), и прежде чем направиться к послам, выстроившимся с противоположной стороны, Екатерина шепнула ему:
– Мне было бы приятнее сделать десять тысяч шагов, чем эти десять.
Во время бала она снова подозвала Понятовского к себе и спросила, обмахиваясь веером, не расположен ли он жениться на великой княжне Александре?
– Я не осмелился бы претендовать на руку великой княжны, не имея возможности предложить ей трон, – ответил князь. – Но я был бы безмерно счастлив, если бы это могло привести к возрождению Польши.
Фрейлины танцевали полонез и менуэт с иностранными послами. Великие княжны всё еще были простужены и остались дома. Не бойся, Alexandrine, ты не пойдешь под венец с сорокадвухлетним стариком. Не восстанавливать же ради этого Польшу.







