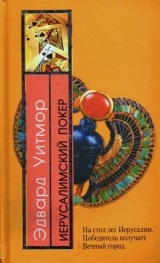
Текст книги "Иерусалимский покер"
Автор книги: Эдвард Уитмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Иерусалим, потому что там она встретила Джо. Смирна, из‑за Сиви и Терезы.
Мунка она встретила в одном городе, но для нее он навсегда стал частью другого.
Итак, Смирна, 1921 год. Мод бежала из маленького иерихонского дома, утопающего в цветах, который нашел для нее обожавший ее Джо, чтобы ей не повредили зимние горные ветры. Их дитя было зачато прошлой весной, в первые дни и ночи их любви в крохотном оазисе на берегу Акабского залива. Месяц совершенного одиночества в том крохотном оазисе, бесконечный месяц в мире пламенеющих пустынных закатов и звездной тьмы, месяц напоенных солнцем часов на окаймляющих Синай сверкающих песках, месяц голубой воды, которая холодила пальцы их любви.
После этого – зима в другом оазисе, в цветущем Иерихоне, в ожидании рождения ребенка. Джо почти все время был далеко, он переправлял оружие в Палестину, потому что был беженцем и не мог иначе заработать на хлеб, он был далеко, потому что ничего иного не оставалось, и все же старые страхи Мод – а вдруг ее бросят? – возвращались из детства, без конца задавая ужасные детские вопросы.
Почему все уходят? Почему они все уходят?
Ушел ее картежник‑отец, ушел с фермы в Пенсильвании, ушел на запад. Ушла ее мать, она в отчаянии проглотила парижскую зелень, и когда это не помогло, пошла в амбар и повесилась, как раз перед обедом. Ушла ее бабка, родом из индейцев‑шайенов, вечно стоявшая за стойкой закопченного салуна, который она держала в шахтерском городке в Пенсильвании. Под конец старуха‑индианка целыми днями молчала, а маленькая Мод училась арифметике, подсчитывая, сколько выпили шахтеры, и слышала от них, что ее дед осужден за убийство и сослан, ушел, чтобы никогда не возвращаться.
И потом мечта ее юности, мечта стать лучшей в мире фигуристкой. И она вполне могла бы ею стать – в шестнадцать лет она сбежала в Европу и оказалась самой младшей в олимпийской команде по фигурному катанию. Но вместо этого, не зная абсолютно ничего о мужчинах, она сделала романтическую ошибку, за которой последовала катастрофа. Она вышла замуж за человека, которого совсем не знала. Он жил в албанском замке семнадцатого века и звался Екатерин Валленштейн.
Екатерина раздирали два безумных проклятия, наложенных на него отцом. Последний из Скандербег‑Валленштейнов возомнил, будто он Господь, а его сын, следовательно, Христос, и назвал сына в честь того синайского монастыря, где обнаружил подлинную Библию. Этот двойной груз был для Екатерина Валленштейна невыносим, и он все глубже запутывался в символах святой Екатерины – меч, корона, колесо и книга. Колесо, чтобы мучить мальчиков в албанских лесах, меч – чтобы медленно их убивать, а сам он в это время истекал кровью в терновом венце и переплетал книгу своей короткой жестокой жизни в жертвенную человеческую кожу, в диком безумии вновь заставляя свои жертвы пережить мученичество исторической Екатерины и ее мистический брак с Христом.
Он был обречен с самого начала, Екатерин Валленштейн. Он был проклят, потому что его отец подделал Синайскую библию, дабы создать порядок из хаоса и дать верующим хоть какую‑то духовную опору.
Мод спаслась от него благодаря загадочной старухе, которая странным образом держала в руках весь замок, Софии Молчунье, – в то время Мод еще не знала, что она мать Екатерина. В 1906 году, когда Мод вот‑вот должна была родить, София помогла ей сбежать из замка. Она родила прежде срока, в крестьянском доме, а Екатерин во главе отряда из сорока всадников тем временем искал ее и нашел, перебив крестьянскую семью, приютившую Мод. Екатерин галопом мчался во главе отряда, он хотел убить Софию и отвезти новорожденного сына в замок. Но София положила конец проклятиям, лежащим на своем сыне, на месте убив его. Взглядом, как потом думала Мод, – и осенив сына крестным знамением.
И так сын Мод Валленштейн, Нубар, оказался потерян для нее в самый день его рождения. И семью годами позже, в Афинах – умершая дочка. Второй муж Мод, греческий патриот Яни, был где‑то далеко, сражался на одной из бесконечных войн, но в 1916 году и он погиб на Македонском фронте.
После четырех долгих лет тоски – мечта в Иерусалиме. Там она встретила своего волшебного ирландца, как раз в тот момент, когда он впервые выходил из Хадж‑Гаруновых загадочных пещер прошлого в тенистой подземной крипте Церкви Гроба Господня Джо – весь вихрь слов и видений. Там Мод удивленно, не проронив ни слова, опустилась на колени и безмолвно дала неофиту впервые причаститься тайн.
А за этим последовала прекрасная весенняя Акаба, летние истертые иерусалимские камни, и цветущий осенний Иерихон, и вечера на холмах, когда незаметно холодает. И Джо часто оставлял ее одну, хотя и против своей воли, и ужасный страх терзал Мод, когда она смотрела на течение Иордана, илистой реки чудес, как раз у их домика завершающей краткий и отвесный путь с сочных склонов Галилеи к пустыне Мертвого моря.
Страх, что Джо покинет ее. Что его любовь тоже уйдет. У ее ног бежала река, а Джо был слишком молод, чтобы понять ужасное безмолвное одиночество, которое охватывало ее той зимой у Иордана, – Мод не могла оторвать глаз от воды, не могла протянуть руку и прикоснуться к любимому.
И вот когда к концу зимы родился Бернини,[59] она сбежала. Она ушла, не дав Джо увидеть сына, не оставив записки, потому что тогда она никак не могла объяснить ему про амбар в Пенсильвании и албанский замок, про дочь, умирающую, пока Яни был на фронте, про смерть Яни. Все эти неумолимые демоны возвращались и сокрушали ее мирные мечты, которые она, казалось, обрела в безмолвии иерусалимской крипты.
Она в отчаянии бежала из домика в цветах в Галилею, где прожила несколько месяцев, пока не смогла путешествовать с Бернини. А в апреле, терзаемая печалью, поехала в единственное убежище, которое она знала в этом мире, – на прекрасную виллу у моря в Смирне, где жил пожилой сводный брат Яни, утонченный и добросердечный Сиви.

Сиви тогда было почти семьдесят. Он был необычайно высок для грека, как и Яни, – оба они унаследовали широкий сильный костяк и темно‑синие глаза от отца, известного вождя войны за независимость Греции. Их отец родился в отдаленном уголке Крита, о котором говорили, что живущие там люди – прямые потомки дорийцев. Неистовый старик был женат дважды, и Сиви родился, когда ему было за пятьдесят, а Яни – когда ему было уже далеко за восемьдесят.
Так что сводных братьев разделяли почти тридцать лет и многое другое тоже. Яни был воинственный патриот, подчинивший свою жизнь девизу критян в войне с турками «Свобода или смерть!». Сиви – изысканный денди, светский ценитель искусства, и на его знаменитых чаепитиях в Смирне рано или поздно объявлялся каждый.
За последние годы Мод писала Сиви всего один раз, вскоре после возвращения с Акабы. В короткой записке говорилось, что в Иерусалиме она безумно влюбилась. Но потом страхи совершенно парализовали ее, и она больше не осмелилась писать. И потому в тот апрельский день Сиви не знал, кто стучится в дверь, когда впускал гостью, а она стояла под дождем, худая и измученная, с младенцем на руках и единственным потрепанным чемоданом у ног.
Мод долго обдумывала, что скажет при встрече, но все слова вылетели у нее из головы, когда она увидела возвышающегося над ней Сиви. Она не смогла вымолвить ни слова и разрыдалась.
Дальнейшее она помнила довольно смутно. Сиви обнял ее и провел внутрь, отдал младенца на попечение домоправительницы и велел Терезе, своей секретарше‑француженке, приготовить ванну и принести одежду. Все это время он радостно болтал без умолку, будто бы только и ждал этого визита уже многие месяцы, а дождь был единственным несчастьем в тот темный апрельский день.
Потом они сидели у камина и пили коньяк. Сиви улыбался каждой морщинкой, качал массивной головой и болтал о Смирне и своих недавних приключениях, ни разу не упомянув о Бернини или о жизни Мод в этот последний год. Он просто принимал ее присутствие в его доме и трудолюбиво, как муравей, выстраивал все более изощренные детали своих историй, чтобы она могла отвлечься.
Константинополь, 1899‑й.
Пока Сиви нежил молодого морячка в гостиничном номере, постоянный любовник морячка, неуклюжий таможенный инспектор, начал выламывать топором дверь, крича, что сейчас убьет Сиви. Единственным путем к отступлению было окно, и дверь подавалась так быстро, что одеться он уже не успевал. Сиви выпрыгнул из окна, раскрыв над головой зонтик вместо парашюта, в длинной красной ночной рубашке на голое тело – в гостинице было достаточно прохладно и без ночной рубашки не обойтись, не важно, чем они там занимались.
Рубашка раздулась парусом, открыв его наготу прохожим на улице. И что еще хуже, он даже не видел, куда падает.
Даже не знать, нараспев произнес Сиви, изящно взмахнув рукой, в какую именно могилу попадешь? Дьявольская насмешка судьбы.
Но он удачно, подняв огромный фонтан брызг, приземлился седалищем в кадку с водой на тут же накренившейся армянской повозке. Лошади в этот момент понесли, потому что на них набросилась брехучая собака. Таможенный инспектор потрясал топором в окне гостиницы, а повозка уже грохотала по улице, и за ней с лаем неслась собака, а Сиви сидел по грудь в воде и все еще высоко держал зонтик. Рубашка пузырилась вокруг него, как гигантская красная кувшинка, он улыбался и любезно кивал ошеломленным зрителям на тротуарах, которые видели, как он прыгал из окна в самый подходящий момент, чтобы спастись бегством.
Или Салоники, 1879‑й.
В юности Сиви находил особую сладость в проказах и не появлялся в своей оперной ложе до конца первого антракта. Он представал перед публикой в огромной красной шляпе, убранной розами, в длинных красных перчатках и ниспадающем свободными складками красном платье с массивным турнюром, а в ложбинке груди у него красовалась брошь невероятных размеров с фальшивым рубином.
По ярусам оперы слышались яростные перешептывания, но Сиви, казалось, был сосредоточен на сцене и не обращал ни на кого внимания и медленно поглаживал указательным пальцем роскошные усы.
Поднялся занавес. Зигфрид строевым шагом прошел на середину сцены и распростер руки, чтобы объявить о том, что свершил подвиг. И в этот самый миг Сиви резко вскочил на ноги и глубоким басом прогрохотал первые ноты соло. Это не только потрясло Зигфрида так, что он замолчал, и ошеломило зрителей – в ту же секунду занавес упал.
Александрия и Родос, и Рим, и Венеция, и Кипр, и Флоренция. Чтобы позабавить Мод, Сиви вспоминал бесконечные истории давних лет до тех пор, пока Мод невольно не рассмеялась. Целуя ее на ночь, Сиви прошептал, что эта весна в Смирне обещает быть особенно прекрасной, намекая, что она может жить на его вилле у моря, сколько захочет.
И поздней ночью, пока дождь стучал в окна дома, она без сна лежала в кровати, тихо всхлипывая в темноте, думая об этом нежном и чутком человеке, который как‑то научился принимать все и всех в жизни, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь.
В ладу с самим собой. Интересно, сможет ли она когда‑нибудь обрести такую безмятежность.

Она впервые встретилась с Мунком в июне и поняла, что Сиви он вроде приемного сына. Это поначалу удивило ее, потому что она давно знала Сиви, а он ни единым словом не обмолвился о Мунке. Но потом она подумала, что в этом весь Сиви. Никогда не скрывая того, что касалось его лично, он тем не менее был крайне щепетилен, говоря о других, поэтому один его друг часто даже не подозревал о существовании другого. Мунк был ничуть не меньше удивлен, узнав, что у Сиви есть невестка.
И она американка с прекрасными зелеными глазами, сказал Мунк, беря Сиви за руку. Почему ты мне никогда о ней не говорил, старый ты грешник?
Сиви покачал головой и хитро улыбнулся.
Сказать тебе? Почему это я должен был тебе сказать? Не хочется усложнять ваши жизни. Симпатичная молоденькая вдовушка из Нового Света? Странствующий холостяк из Будапешта? Нет, я никогда не возьму на себя ответственность за такое предприятие. Кто знает, что из этого выйдет? На самом‑то деле мои шкафы просто набиты родственниками и друзьями, о которых ты никогда не слышал. Это нормальное состояние, тебе еще предстоит это понять, когда доживешь до моих лет и обзаведешься опытом вроде моего. Просто невероятно, как с годами растет количество окружающих тебя людей. Даже когда ты просто идешь прогуляться исключительно по своим делам. Пойдем‑ка выпьем чаю. Юному Мунку просто не терпится сообщить нам что‑то архиважное, готов поклясться.
На самом деле Мунк приехал в Смирну, чтобы рассказать Сиви о том, что недавно стал приверженцем сионизма, и когда весь первый день они просидели вместе в саду, он говорил только об этом. Сиви отечески кивал, внимая восторженным тирадам Мунка о грядущих политических переменах в Палестине, а секретарь Сиви Тереза безучастно слушала. Но к тому времени Мод знала молодую француженку достаточно хорошо, чтобы понять причину ее деланного равнодушия.
И давно кончился их роман? спросила она Сиви позже, когда они остались вдвоем и он начал готовиться к вечернему выходу в свет. Сиви счастливо улыбнулся и уселся поближе, с явным удовольствием задержавшись, как всегда, когда речь заходила о любви.
Но дорогая моя, сказал он, приглаживая короткие седые волосы, их роман до сих пор длится.
Не думаю. Он об этом, может быть, еще и не догадывается, но она‑то знает.
Ты имеешь в виду этот новый интерес к политике – еврейскому государству и так далее?
Да.
Сиви величественно покачал головой.
Чепуха. Одна страсть пробуждает другую. Наш друг Мунк искал свое дело долгие годы, еще до того, как холодные туманы Центральной Европы стали исподволь разрушать его пышную империю. В его жилах течет кровь великого Иоганна Луиджи Шонди, в нем живет неутомимый дух познания, и теперь, когда Мунк нашел свое дело, его пламя будет гореть еще ярче, освещая все уголки его души. Короче, это любовь. У него целая жизнь впереди, чтобы исследовать всевозможные любовные ландшафты. Средиземноморье наконец поймало его.
Сиви, у тебя отлично получается. Ты должен вернуться на сцену.
Что‑то не помню, чтобы я со сцены уходил. Ну что, поспорим на драхму? Я за то, что их страсть только разгорится. А ты говоришь – она уже ушла?
Хорошо, спорим на драхму.
Сиви неожиданно подался вперед. Его лицо посерьезнело. Он взял ее за руку.
Нет, Мод, не надо. Это неправильно, разве ты не видишь? Никогда нельзя так делать, ты так никогда не будешь счастлива. Даже если это всего лишь драхма. Ни одной драхмы. Ты разве не понимаешь, что ставишь против любви?
Понимаю.
Значит, отказываемся от ставки?
Да.
Сиви улыбнулся и сжал ее руку.
Отлично. Самое малое, что мы можем делать на прекрасных берегах Эгейского моря, это почитать наших языческих богов. А они всегда были на стороне любви, как же иначе. Небеса, на какие проделки они только не пускались. Облик лебедя или быка уж точно не мог им помешать. Мы можем им только завидовать, но нам до них далеко.
Это твои боги, Сиви, но не мои.
Нет, моя прелесть, это не так, и все тут. Они принадлежат всем, кто жил в этом солнечном свете, день или вечность, не важно. Видишь ли, нам ничего не изменить. Призывай – не призывай богов, они все равно здесь.
Это ты придумал?
О нет, для меня слишком глубокомысленно. Это сказал достопочтенный советчик древности, а точнее, Дельфийский оракул. С этими словами он обратился к спартанцам, когда они замышляли войну против Афин. Что ж, они начали войну и восторжествовали, но потом над ними восторжествовали фиванцы, и к чему они в конце концов пришли? Ах да, в конце концов. В конце концов, все мы содомиты.
Мод рассмеялась.
Сиви.Это ужасно.
Конечно ужасно. Для этого времени суток – так и вообще гнусная позиция. Но ты понимаешь, что я имею в виду? Ты видишь, как сложно избежать любви? Даже когда мы поворачиваемся к ней задом, мы все равно в опасности.
Сиви,хватит.
Старик умиленно покачал головой и поднялся на ноги.
Ты, конечно, права. В этом городе, где в любом кафе развратники головокружительными способами утоляют свои страсти, столь мягкие замечания как‑то даже неуместны. Но мы‑то здесь, у очага, и дух материнства витает в этой комнате, а наверху невинный младенец ждет, пока его покормят. Кстати, для него ты уже выбрала.
Выбрала что?
Будущее. Ты ведь назвала его Бернини. С таким именем языческие боги просто не могут его не заметить. Хочет он того или нет, но солнце Средиземноморья всегда будет ему родным, и я предвижу, что он получит благословение. Вот так, а материнские заботы зовут тебя наверх. Мунк с Терезой ушли, чтобы в лунном свете вкусить загадок гавани, а я, пожалуй, рискну и заберусь в какой‑нибудь тенистый уголок Смирны и поищу пищи духовной, которую для меня этот утешительный июньский вечер приготовил. Не пожелаешь мне удачи? Я уже не так молод, как раньше.
Мод рассмеялась. Стоя в дверном проеме, Сиви пригладил усы.
Ну так как? Ни одного скромненького пожелания?
Тебе они не нужны, старый ты распутник.
Не нужны? Под конец‑то? Хм. Я, значит, должен философски покориться судьбе. Но стоицизм для меня превыше всего, хотя я, собственно, привык быть сверху. Так что, если утром тебе послышатся шепотки, не беспокойся. Это может оказаться задумчивый молодой мерзавец, пришедший сюда в поисках Зенона из Смирны, которого справедливо почитают за то, что и во тьме, и при свете солнца он жил в гармонии со своей природой. И абсолютно последовательно. Без смущения смешанного общества. Итак, адье. Смирна вновь манит меня, и кто я такой, чтобы противиться нежному шепоту любви? Адье, моя милая Мод.

В то лето Сиви хотел побывать на Крите, в деревне своего отца. Он просил Мод поехать с ним, но она отказалась, потому что там родился Яни и ей вновь пришлось бы вспомнить всю боль утрат, которую она не до сих пор не преодолела.
Сам Яни никогда не рассказывал эту историю. После смерти Яни ее рассказал Сиви, пытаясь объяснить Мод, почему Яни жил так, как жил.
Мать Сиви умерла, производя его на свет. Богатая сестра, жившая в ту пору в Смирне, предложила взять ребенка на воспитание. Отец Сиви, которого сломила смерть жены, согласился. Он решил бросить политику и вернуться в далекую деревеньку на Крите, туда, где он родился.
Он снова стал пастухом, как в юности. Полгода он проводил в горах, наедине со своим стадом, гонял овец от рассвета до заката, чтобы найти им скудную пищу. Он в одиночестве ночевал в сложенных из широких плоских камней хижинах, которые стояли в горах веками, выдерживая яростные ветры этого лунного ландшафта. В холодные ночи горного лета он не снимал сапог и грубого шерстяного плаща. Тьма окружала его до восхода солнца и после заката, и во тьме он поспешно съедал козью простоквашу и принесенный весной из деревни дважды выпеченный хлеб, твердый как камень, пока его не размочишь в воде.
Иногда он замечал движение на далеком склоне и мог передать привет другим кочующим пастухам. Расстояния были слишком велики, чтобы донести слова, и они разговаривали не словами, а скорее напевом, в котором смыслом обладали интонация и ритм. Возможность поговорить с человеком лицом к лицу выпадала редко – лишь когда в конце октября ущелья засыпал снег, – тогда приходило время спускаться в деревню и ждать, пока в апреле снега сойдут.
Только через четверть века отец Сиви, уже восьмидесяти четырехлетний, взял вторую жену, девятнадцатилетнюю девушку из своей деревни. Она вскоре понесла, а к концу беременности появились осложнения. Когда она была на восьмом месяце, они оба пошли через горы к северному побережью, в ближайший город, где можно было найти врача.
Было начало октября, и снежные хлопья уже заметали ущелья. Через два дня они дошли до последней северной гряды и увидели распахнувшееся перед ними Критское море. В ту ночь у нее начались преждевременные роды, и к рассвету стало ясно, что ребенок идет ножками вперед и задыхается.
Они обменялись несколькими словами – старик, проживший долгую жизнь, и женщина, жизнь которой только начиналась. Уйти предстояло не тому, но ничего не поделаешь.
Он обнял ее. Они оба осенили себя крестом. Тогда он вложил ей в руки по камню, а перекрученный корень дикого тимьяна просунул между зубами, разрезал ей живот своим охотничьим ножом и достал ребенка, а она потеряла сознание и умерла.
В то утро он начал спускаться к северному побережью с младенцем Яни на руках и окоченевшим телом жены, привязанным на спине.

Да, я тебя понимаю, сказал Сиви, а она сидела, уронив голову на руки.
Это жестоко, и бесчеловечно, и кажется варварством, но ты и сама должна понимать, что за жизнь у этих людей. В горах все равно что на Луне. Там к скалам лепятся только несколько стебельков дикого тимьяна, и мужчина должен искать эти стебельки целыми днями, с пяти утра до десяти вечера, чтобы козам было что есть. И мужчины ищут, они ходят взад‑вперед по горам. В это почти невозможно поверить, если не увидеть своими глазами. Жизнь там трудна и жестока, и хотя они доживают до глубокой старости, если им не мешать, но мешают им часто, так что они то и дело сталкиваются со смертью.
Не так давно один ребенок играл в одной из таких деревень и в шутку снял колокольчик с козы своего отца и повесил на соседскую. Украли козу? К ночи отец мальчика был уже мертв, и сосед был мертв, и трое других мужчин мертвы, а к следующему утру в деревне не оставалось ни души. Потому что, если бы все семьи не ушли разом, братья и дядья продолжали бы убивать друг друга, пока не погибли бы все мужчины деревни. Они знали это, и им ничего не оставалось, как только покинуть свои дома и уйти прочь.
И эта жизнь такова, что они знают – у каждого есть долг и нельзя страшиться смерти. Конечно, Яни мог бы приехать с фронта, когда должна была родиться дочь, мог бы приехать, когда она заболела, но я не сомневаюсь, что ему это и в голову не пришло. Он был там, где должен быть мужчина, и делал то, что ему надлежало делать. Горцы в этом уголке Крита, единственные из всех греков, никогда не знали власти турок. Двести лет турки жгли их деревни, но они уходили в горы и возвращались с новым поколением сыновей, чтобы сражаться, они спускались с гор, и сражались, и видели, как умирают их сыновья, и возвращались обратно в горы. Двести лет они жили так, и когда они сопротивлялись особенно отчаянно, турки сажали их на кол и ставили перед ними зеркало, чтобы они могли видеть, как медленно умирают на жарком солнце. Самым славным из их вожаков был капитан Яни, который умер именно так, он был на несколько лет младше твоего Яни. Вот откуда твой Яни, и вот кем он был.
Мод вздрогнула. Она поняла, что, наверное, можно жить и так. Но сама она не захотела видеть эти горы.

Когда Мод сказала, что этим летом хочет побыть с Бернини, Сиви предложил ей остаться у него на вилле в Смирне. Она сразу же согласилась, планируя отправиться в Афины и найти работу переводчицы осенью, когда Сиви вернется. А Тереза уже уехала на лето на острова, и ее роман с Мунком резко оборвался еще в июне, как и предвидела Мод.
Мунк дважды заезжал в Смирну тем летом, и когда он приехал во второй раз, Мод провела с ним ночь. Ее толкнули к нему вино и одиночество, его толкнули к ней вино и нехитрые желания. На следующий день они улыбались, вспоминая об этой ночи и зная, что она не повторится. Мунк был погружен в дела сионизма, а Мод, как и раньше, думала, что осенью ей придется начать новую жизнь в Афинах. Но оба они знали, что эта длинная теплая летняя ночь станет началом дружбы.
Поздно ночью они заговорили о Терезе и сразу же поняли, что совсем ничего не знают о ее прошлом. Сиви рассказывал, что три года назад девятнадцатилетняя Тереза сошла на берег в Смирне, одинокая, без друзей и без денег. Один из ее попутчиков, знакомый Сиви, привел Терезу на чаепитие, и, чтобы помочь Терезе, Сиви предложил ей место секретарши. Вскоре он очень привязался к ней и шутливо называл своей приемной дочерью.
Еще один обласканный бесприютный агнец, сказал Мунк, совсем как я перед войной. Сиви очень обрадовался, когда она здесь появилась. Что бы этот старый грешник ни говорил, у него тоже бывают приступы тоски и одиночества, и теперь, когда она рядом, ему гораздо легче. Она – его семья, он очень любит ее, и я думаю, что и она по‑своему к нему привязана. Но в Терезе есть что‑то, чего мне не понять. Какая‑то тайна. Что‑то, что не позволяет ей ни с кем сблизиться по‑настоящему. Я не могу этого объяснить.
Сиви больше ничего о ней не знает?
Это все. Да, еще то, что она получила образование в монастыре во Франции, и, очевидно, очень строгое, хотя сейчас она в церковь не ходит. Но ничего не знает ни о ее семье, ни о том, живы ли ее близкие, ни о том, как она попала в Смирну. Конечно, он никогда никого ни о чем не расспрашивает. Если с ним хотят поделиться, он только рад выслушать, и лучшего слушателя не найти. Но если от него что‑то скрывают, он просто принимает все как есть и ныряет в новое знакомство как в омут головой – он всем предлагает свою дружбу. Это невероятно, кажется, будто он совсем бесхитростный и ни от кого не ждет вероломства. Конечно, иногда он должен хитрить, как же иначе. Но сам я ничего подобного за ним не замечал. Что говорить, Мод, ты же, наверное, все это знаешь.
Она кивнула.
Да. Когда я приехала сюда впервые, еще женой Яни, – какая‑то американка без семьи, неизвестно откуда родом, – он ничего не пытался обо мне узнать. И этой весной, когда он увидел в дверях нас с Бернини, он ведь целый год обо мне ничего не слышал, не знал, что у меня ребенок, и что же? он расплылся в улыбке, обнял меня – и все. Ах вот и ты, как мило.Это все, что он сказал. И это были не просто слова. Клянусь тебе, в его взгляде не читалось ничего, кроме радости.
Мунк поднялся с постели, чтобы налить еще вина. Мод отхлебнула и стала смотреть в окно на огни гавани.
А когда у вас с Терезой начался роман?
Около года назад. Я впервые приехал к Сиви после войны, и, по‑моему, довольно естественно, что мы с Терезой полюбили друг друга. Но я всегда появлялся в Смирне всего на несколько дней и не думал, что для нее это серьезно. И уж Тереза‑то точно вела себя так, будто это для нее ничего не значит.
Та самая дистанция, о которой ты говорил?
Да. Не то чтобы она была со мной холодна, а как будто ей было все равно, что из этого выйдет. Она меня даже ни разу не спросила, когда я вернусь. Когда я появлялся – что ж, хорошо, когда уезжал – тоже ничего. Но когда я приехал в начале июня, она вдруг ни с того ни с сего ужасно расстроилась и сказала, что больше не хочет меня видеть. Правда странно? Когда она мне это сказала, у меня было ощущение, что она говорит как во сне. Словно она сейчас не со мной и говорит о чем‑то другом. Если честно, я думаю, что дело не во мне, я ей безразличен, и уж точно не я вызвал у нее такой всплеск эмоций.
Я знаю, сказала Мод.
Как это? Откуда?
Мы ведь тоже несколько раз разговаривали с ней перед тем, как она уехала отдохнуть. Она была ужасно сдержанна и осторожна, но все равно проговорилась. Это, конечно, довольно странно, но мне показалось, что те места, о которых ты все время рассказываешь, то есть Палестина, Святая земля и особенно Иерусалим, ее чем‑то смутно беспокоят. Я не знаю, почему я так подумала. Может быть, это как‑то связано с тем, что раньше она верила в Бога, а теперь утратила веру. Как ты думаешь, вдруг она почему‑то боится Иерусалима?
Мод тряхнула головой. И внезапно рассмеялась: над собой.
Боится Иерусалима, ты только подумай. Вообще боится чего‑то, мы‑то давным‑давно не боимся ничего на свете. Ты ничего не боишься, Мунк?
Нет. Наше дело требует времени, но все получится.
Мод улыбнулась. Она приложила палец к носу.
Да? Иначе и быть не может? Вера отцов?
Не только, милая моя, гораздо больше. Вспомни, я стал сионистом благодаря бывшему японскому барону. И я смог встретиться с рабби Лотманом только потому, что однажды я разговорился о кавалерийской тактике с его братом‑близнецом, бароном Кикути, героем Русско‑японской войны.
Ну и что?
И вот мне посчастливилось встретиться с бароном Кикути в Константинополе, откуда мы оба держали под наблюдением тайные нити Балканской войны. И вот десять лет спустя он пишет мне и просит проведать его брата‑близнеца, который перешел в иудаизм и, возможно, в данный момент изучает еврейский мистицизм в Сафаде. Но брата там нет, и я прослеживаю его путь до монастыря Святой Екатерины в Синае. Он укрылся там потому, что кого‑то слишком заинтересовала его сионистская деятельность, и притворяется христианином‑паломником, несторианцем из Китая. В монастыре я слушаю вечерние концерты на кото в исполнении этого человека, который теперь зовется рабби Лотман, и в этом необычном месте музыка звучит так странно и пугающе, что я не могу спать по ночам. И вместо того, чтобы спать, мы с бывшим японским бароном все говорим и говорим, и в результате венгерского еврея на Синае обращают в сионизм, причем обращает не кто‑нибудь, а землевладелец‑аристократ с севера Японии, которого буддизм научил умирать, а рождаться – синто.
Мод снова засмеялась.
Ни словом не соврал. И что же дальше?
И вот со всей этой географической и расовой, религиозной и эстетической пестротой сразу становится ясно, что нас поддерживает нечто большее, чем вера отцов. Очевидно, что кто‑то наверху принялся за это дело и дал мне веру для моей миссии.
Мод потянулась и дернула его за нос.
Хорошо иметь таких помощников, сказала она. Единственное, что ты мне еще не объяснил, так это почему этим японским близнецам отведена столь важная роль в промысле Божьем.
Но это же просто, сказал Мунк, в свою очередь дергая ее за нос. Японцы – уникальные люди, они пришли на свои острова более или менее цельной общностью и со своей собственной культурой, как раз во времена Христа. Но никто не знает наверняка, откуда они пришли. В прошлом веке, когда они открыли свою страну для Запада и начали европеизироваться, они сами несколько раз выдвигали предположение, что вполне могут быть потомками десяти исчезнувших колен израилевых. Никто никогда не воспринимал это всерьез, а вообще‑то даже сроки сходятся, если предположить, что они неторопливо шли через Азию, по пути выращивая зерно и скот, как все кочевые народы. Чтобы развивать свою уникальную культуру, чтобы стать определенно азиатским народом, когда они наконец прибудут на свои азиатские острова, – на все это им нужно было время. И наконец, я, кажется, забыл сказать, что и барон Кикути, и его брат оба миниатюрные мужчины с очень короткими ногами. Ноги у них такие короткие, что если не торопиться, пересечение одного из величайших континентов с запада на восток займет несколько веков. И наконец, промысел Божий заключался в том, чтобы за последние два с половиной тысячелетия Его избранный народ утвердился на двух оконечностях Азии и следил, чтобы ничего предосудительного не происходило на внутренних территориях, как известно, породивших самых ужасных тиранов в истории. Таковы вкратце факты. Ну, и что ты думаешь по этому поводу?








