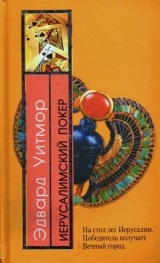
Текст книги "Иерусалимский покер"
Автор книги: Эдвард Уитмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
И так далее. Рассветная мгла, иными словами. Полнейшее отчаяние на восходе солнца. Более скверных мыслей не приходило на ум еще никому в этой грешной земной жизни. Ну и что же мне помогало, когда я лежал в каком‑то жутком логове без всякого проблеска надежды? Что же, как не окно. Даже в самых ужасных спальнях в Смирне есть окна. И вот я подходил к окну, поднимал ставень и высовывал голову, вернее то, что от нее еще осталось, и как ты думаешь, что ждало меня там? Эгейское море и свет Эгейского моря. И в такие минуты я понимал, что любое отчаяние в сей день обречено на сокрушительную неудачу. Снаружи было слишком много всего, на что стоило посмотреть, что стоило почувствовать, услышать, понюхать и попробовать. И со временем я перестал с этим бороться. У меня не было выбора – я мог только принять мою любовь к жизни и любви. Это неизлечимо.
И еще я был ленив: вот настоящая причина, по которой я никогда бы не справился с фундаментальным научным трудом. Мне бы пришлось ради этого отказаться от множества вещей, добавил Сиви, покачивая головой и сладострастно глядя на молочного цвета осадок в стакане узо.
Мунк рассмеялся.
Все, что попадает тебе в руки, становится неприличным.
Нет, сказал Сиви. Просто в моих руках все обретает свой истинный облик, а истинный облик всегда обнаруживает свою особую чувственность.
Боюсь, солнце с его истинным светом уже село, слышишь, старый плут. Поставь стакан – он у тебя вызывает какие‑то непристойные ассоциации.

Прошло почти три года, прежде чем Мунк нашел свою мечту – как и предсказывал Сиви, – но не у моря, а в пустыне. И нашел он ее по странному стечению обстоятельств, благодаря неожиданному посредничеству старого товарища по лихорадочным неделям Первой балканской войны, миниатюрного офицера, бывшего японского военного атташе в Константинополе.
Тогда майор, а ныне полковник, Кикути вернулся в Японию перед Первой мировой войной. В конце зимы 1921 года он прислал Мунку письмо из Токио: он только что узнал, что его старший брат‑близнец, бывший барон Кикути, эстет, коллекционировавший полотна французских импрессионистов, по пути из Европы заехал в Иерусалим и там принял иудаизм. Сейчас он в Сафаде,[27] в Палестине.
Полковник объяснял, что у его брата всегда было хрупкое здоровье, и поэтому условия жизни в Палестине представлялись ему не совсем подходящими для брата. Более того, в последние месяцы письма его брата дышали какой‑то непривычной экзальтацией, обеспокоившей полковника, – тот хорошо помнил, как в дни Османской империи болезни косили иностранцев, и в его памяти была еще свежа угроза, исходившая от турецкого мяса.
Так же ли опасно положение, как и до войны? писал полковник своим изящным четким почерком. Или союзники уже добили врага на Ближнем Востоке? Пока мой брат был буддистом, он, конечно, не ел мяса, но я даже представить себе не могу, что едят иудеи. Пожалуйста, дорогой Мунк, не мог бы ты съездить в этот Сафад, который на картах кажется удручающе маленьким, и посмотреть, как там мой брат?
Мунк немедленно телеграфировал, что выезжает в Сафад. Нежные воспоминания о майоре Кикути в любом случае заставили бы его поехать, но обстоятельства этого дела и без того возбудили его любопытство.
В Сафаде он узнал, что бывший барон Кикути готовился стать раввином и для этого серьезно изучал средневековый еврейский мистицизм. Он теперь был известен под именем рабби Лотмана и в оккультных кругах считался очень уважаемым, но в высшей степени эксцентричным человеком. Оказалось, что он несколькими неделями ранее покинул Сафад, хотя никто не мог вспомнить, когда именно. Никто не мог сказать также, когда он вернется или куда он уехал. Когда Мунк расспрашивал ученых, ему показалось, что они уклоняются от ответа.
Почему? Что такого он мог обнаружить?
Я же еврей, уверял Мунк, и конечно, им это тоже известно, уж слишком приметная у меня фамилия, спасибо «Сарам». И все равно талмудисты ничего ему не сказали. Тогда Мунк пошел к верховному раввину Сафада, чтобы ему объяснили, почему ему был оказан такой прием.
Если речь идет о рабби Лотмане, торжественно объявил старик, недостаточно того, что вы еврей.
Недостаточно?
Да.
Но почему?
Потому что в наше время этого недостаточно. И я ничего больше не скажу.
Мунк был совершенно сбит с толку и поехал в Иерусалим, чтобы встретиться там еще с одним человеком. Он познакомился с ним во время Первой балканской войны, с этим евреем арабского происхождения по имени Стерн. Тот торговал оружием, которое в дальнейшем обращалось против англичан и французов на Ближнем Востоке, и знал все о темных делах в Палестине да и во всем остальном мире.
К счастью, Стерн оказался в Иерусалиме. Как всегда, он попросил у Мунка денег, и Мунк ему не отказал. Потом Мунк объяснил, кого он ищет, и рассказал, как его встретили в Сафаде.
Стерн кивнул. На лице у него медленно появилась улыбка.
Японский раввин? Да, слышал о нем. Подпольный сионист. Неофит, но очень ревностный.
Мунк был потрясен. Стерн заулыбался шире.
Согласен, Мунк. Может быть, и происходили в последнее время более странные вещи, но я не слышал. Тут вроде бы англичане начали за ним следить, и там решили, что он должен на какое‑то время скрыться.
Куда? В Европу? В Турцию?
Стерн покачал головой.
Только не он. Скрыться он еще может. Но убежать – нет. Он все еще здесь, на Синае. В монастыре Святой Екатерины. И советую приближаться к нему с осторожностью. Говорят, он отлично стреляет из лука. Попадает в шиллинг со ста ярдов.
Что?
Стерн рассмеялся.
Дзен и лук, путь японского воина. Кажется, бывший барон Кикути получил старомодное воспитание. Да, Мунк, и возьми с собой пальто, когда отправишься на Синай. Ночи там по‑прежнему очень холодные.

Это был первый приезд Мунка в монастырь Святой Екатерины. Он узнал, что рабби Лотман живет в монастыре под своим японским именем, чтобы информаторы не узнали в нем оккультиста Лотмана из Сафада, подозреваемого в сионизме. Поэтому он представился греческим монахам как христианин‑несторианин[28] из Китая, паломник в святую землю. Свое желание остановиться в монастыре он объяснил тем, что ему очень хочется помолиться у горы Моисеевой.
Монахи этой отдаленной обители никогда не слышали восточных имен, история этого бренного мира была им незнакома, или они просто до нее не снисходили, и поэтому они с готовностью приняли у себя набожного христианина‑китайца по имени барон Кикути, не подозревая, что имя у него вовсе не китайское и что несториане в Китае перевелись несколько веков назад.
Мунку сказали, что в светлое время суток китайский паломник уходит на дальнюю сторону горы, чтобы там в одиночестве молиться у складного алтаря, который сам туда и относит. Молитва у складных алтарей определенно была частью несторианского ритуала.
Возвращаясь на закате, китайский паломник ужинал и допоздна сидел у себя в келье, славя Господа музыкой. Он играл на необычном струнном инструменте, который лежал на полу. Определенно еще один несторианский обычай. Этот странный восточный ритуал ночного поклонения Богу, сказали монахи, продолжался по три‑четыре часа каждый вечер.
Из описания Мунк понял, что барон Кикути играл на кото,[29] японской цитре, как и майор Кикути в Константинополе. Что такое складной двустворчатый алтарь, Мунк понял, только впервые увидев возвращение рабби Лотмана. На плече у него висел деревянный футляр, покрытый красным лаком, а в руке он нес легкий полотняный чехол более шести футов в длину.
Самурайский лук и колчан.
Очевидно, бывший барон Кикути воспользовался пребыванием в монастыре, чтобы поупражняться в стрельбе из лука.
После ужина Мунк присоединился к монахам в темном коридоре у кельи Кикути, где они собирались каждый вечер, садились на пол и внимали экзотической музыке. Отрывки, исполненные в тот вечер, были очень разнообразны – от священной японской придворной музыки до Но.[30] Кикути сидел поджав ноги держась очень прямо, в настоящем японском кимоно, и перед исполнением объявлял название каждого музыкального номера ошеломленной братии.
Заключительный отрывок звучал в ушах Мунка особенно прекрасно – кагура[31] тринадцатого века, предназначенная для самых торжественных японских религиозных обрядов. Блюдя инкогнито, Кикути объявил, что сейчас исполнит странное китайское музыкальное сочинение. В любом случае, греческим монахам оно показалось совершенно непостижимым.
Концерт завершился, монахи перекрестились и удалились. Только тогда Мунк вышел из тени и встал у входа в келью Кикути, освещенную единственной свечой. Он решил говорить по‑немецки, на случай, если заплутавшему в коридорах монаху станет любопытно, о чем они беседуют.
Барон Кикути, это было прекрасно.
Спасибо, сэр.
Полагаю, это была самая странная музыка, какую только можно услышать в монастыре Святой Екатерины.
Полагаю, вы правы.
Особенно последний отрывок. Ваше странноекитайское музыкальное сочинение, как вы его назвали.
Странное, пробормотал Кикути. Именно так, вы правы.
Из‑за полутонов?
Что?
Полутона. Вы весь вечер исполняли хроматическую музыку, построенную на полутонах.
Вот теперь действительно странно. Но вас‑то что навело на эту мысль?
Мне говорили, что в китайских гаммах нет полутонов. А в японских – есть.
Правда? Вы хотите сказать, что, хотя я китайский паломник, я исполняю японскую музыку? Еще более странно… Как вы думаете, что, если от Священной горы исходит какое‑то божественное излучение и разделяет мои тона? Просто разрубает их пополам прямо на месте, так сказать?
Кикути весело рассмеялся.
Да уж, это и впрямь странно. Странно. Вот оно, верное слово. Кстати, откуда вы знаете о тонкостях восточной музыки?
От друга. Он герой Русско‑японской войны, спас свой батальон на голой маньчжурской равнине, соорудив баррикаду из трупов казачьих лошадей. Позже, могу добавить, мы оба служили военными атташе в Константинополе, а турецкое мясо немногим лучше разлагающейся лошади.
Маленький японский аристократ вскочил на ноги.
Значит, вы Мунк? Брат часто рассказывал о вас.
Кикути в восторге затряс руку Мунка. Они проговорили большую часть ночи, а на утро, не прекращая разговора, пошли прогуляться. Кикути иногда останавливался, целился в какой‑нибудь едва заметный вдали островок песка и пускал в него стрелу.
Изящный и хрупкий новоявленный рабби Лотман унаследовал звание главы могущественного клана землевладельцев на севере Японии. Но когда он принял иноземную веру, и титул, и многочисленные имения перешли к младшему брату‑близнецу. Подобное бескорыстие всегда свидетельствует об искренности неофита, но Мунка еще больше потрясло то, что Кикути на этом не остановился и стал ярым сионистом.
Сам Мунк хотя и понимал привлекательность сионизма для угнетенных евреев Восточной Европы, никогда им особенно не интересовался. Это было как‑то неуместно в империи Габсбургов перед войной.
А тут аристократ из далекой страны, богатый эстет, принадлежащий к уникальной древней культуре, посвятивший первые тридцать пять лет своей жизни стрельбе из лука и живописи, теперь топчет подножие горы Синай и с удовольствием цитирует на память «Юденштаат»,[32] чтобы доказать абсолютную необходимость существования еврейского государства.
Мунк был поражен. Пыл маленького человечка был абсолютно искренним, а его аргументы – убедительнее некуда. Сионистская идея все больше и больше захватывала Мунка.
На третий день его пребывания произошло то, что он запомнил на всю жизнь. Ближе к вечеру они вдвоем шли вдоль пологого склона горы, по песку. Поднялся сильный ветер и хлестал их с востока.
К тому времени Мунк слегка отупел от долгой беседы. Ветер отвлекал его, и он понял, что прислушивается к ветру. Кикути заметил это и ненадолго замолчал.
Неожиданно Кикути остановился и концом лука стал чертить на песке иероглифы. Он быстро ходил по склону и взметал песок, позади него оставались длинные колонки замысловатых кривых, сходящихся линий и смягченных углов, без усилий перетекавших из одного знака в другой. Потом он вернулся, скользя по склону, и встал рядом с Мунком, опершись на лук и улыбаясь своему мастерству.
Это скоропись, сказал он. Теперь ею редко пользуются, к сожалению. Даже мы с трудом ее понимаем.
Что здесь написано? мечтательно спросил Мунк.
Кикути рассмеялся.
Несколько вещей. В начале вот оттуда направо – это хайку, написанное бедным поэтом на смерть младшей дочери. У него было двенадцать детей, и все умерли прежде него, но эта малышка была его любимицей. Это переводится Мир росы есть мир росы, и все же. И все же.Под хайку – название знаменитого синтоистского храма на севере Японии, там, где земли наших предков. Вверху – несколько технических терминов, использующихся в эстетике. Под ними – имя седьмого мудреца Дао, а ниже – имя моей матери, она научила меня играть на кото. А следующая колонка – это завтрак.
Завтрак?
Да, завтрак, который нам с братом неизменно подавали в детстве. Рис, маринованные овощи и белая рыба, жареная, ее едят холодной. Барон Кикути и рабби Лотман. Этот склон – я, если говорить коротко. Смотри.
Он положил стрелу на тетиву и прицелился. Она вонзилась глубоко в склон посреди лабиринта иероглифов. Мунк смотрел на стрелу в песке. Через секунду Кикути тронул его за рукав.
Ну?
Извини, я что‑то не улавливаю. Что ты сказал?
Склон, Мунк, Что ты видишь?
Мунк вгляделся в склон. Ветер стирал иероглифы, заполняя линии песком. Они уже почти исчезли. Оставалось всего несколько растворяющихся на глазах штрихов. Кикути громко засмеялся и потянул его за рукав.
Все исчезло так быстро, и ничего не осталось, кроме моей стрелы? Что случилось с моей изящной каллиграфией? Все эти прекрасные иероглифы, о которых можно размышлять бесконечно, тысячи значений и воспоминаний, сокрытых в них для меня? Куда они делись?
Бывший барон Кикути вынул стрелу из песка, и склон снова опустел, разглаженный ветром. Нынешний рабби Лотман фыркнул и рассмеялся. Они повернули назад к монастырю.
Когда ты рассказал мне о своем прадеде, Мунк, об исследователе, ты думал, что какая‑то тайная сила двигала им, иначе он не смог бы совершить столь многое за восемь кратких лет. Но я думаю, что никакой тайны нет. Он просто решил пустить стрелу в склон, вот и все, и сделал это. Твоя семья помнит эту стрелу – это были его письма к жене. Но как бы замечательны они ни были и как бы важны ни стали для твоей семьи, я думаю, для него все было по‑другому. Его стрелой была гордость. Он гордился этими восемью годами.
Кикути снова фыркнул и рассмеялся.
Да. Несмотря на непостижимость Вселенной, есть одна маленькая истина, из которой мы можем черпать силы. Выбор. Никогда не принимать покорно то, что преподносит нам жизнь, или то, что мы унаследуем, а выбирать. Это, может быть, странная аналогия, но смыслы и воспоминания, растворяющиеся в песке, не похожи на те, что в песке не растворяются. Выбор – вот стрела. Потому что тогда мы сможем хотя бы отчасти создавать самих себя.

На следующее утро Мунк сказал, что уезжает на несколько дней – побыть наедине с собой. В ответ Кикути только кивнул. Лицо его ничего не выражало.
Когда Мунк вернулся в монастырь, ночной концерт для кото уже начался. Мунк тихо прошел по коридору к келье Кикути, неся с собой стул и большой чехол, и уселся у двери. Греческие монахи удивленно взглянули на него, но Кикути, казалось, не обратил на него внимания.
Первые звуки виолончели Мунка не сочетались со звуками кото, но через несколько минут они подстроились друг под друга, и диссонанс перерос в гармонию.
Кикути блаженно ему улыбался.
Мудрое решение, Мунк, стрела, вонзившаяся в склон. Нет лучшего дела, чем родина, для людей, у которых ее нет. И сегодня вечером, я думаю, мы определенно слышим самую странную музыку, когда‑либо звучавшую в монастыре Святой Екатерины.

Начав свою сионистскую деятельность в Иерусалиме, Мунк возвратился в монастырь, чтобы повидаться с рабби Лотманом. Он догадался, что японец плохо себя чувствует, и наконец Лотман признался, что страдает какой‑то тяжелой болезнью и что из его организма выделяется слишком много жидкости. Врачи в Палестине оставляли желать лучшего, и за последние несколько недель японец заметно сдал. Мунк уговорил своего учителя вернуться в Японию, где за ним будут должным образом ухаживать. Рабби Лотман скрепя сердце согласился, что это лучший выход.
В последний день мая они стояли на пирсе в Хайфе. На глазах Мунка выступили слезы, но лицо Лотмана было невозмутимо.
Я скоро вернусь, прошептал он.
Конечно.
Не позже чем к началу будущего года.
Хорошо.
Крохотный рабби Лотман потянулся к своей тележке с багажом и достал красный колчан из лакированного дерева и знакомый полотняный чехол.
Я никогда с ними не расставался, сказал Кикути. Я не знаю точно, сколько им лет, но они издавна принадлежат моей семье. Теперь мой настоящий дом здесь, и я хочу, чтобы здесь они и остались. Ты сохранишь их до моего возвращения?
Разумеется.
Лотман улыбнулся и достал из жилетного кармана крохотные золотые часы. Он вложил их в руку Мунка.
Я нашел их несколько лет назад в антикварной лавке в Базеле. Что мне понравилось, так это их потрясающие размеры. Ты представляешь, какие крохотные здесь детали? Но взгляни, они даже меньше, чем кажется. Внутри этих часов спрятано больше, чем можно предположить. Как во Вселенной, правда?
Кикути рассмеялся и открыл крышку. Мунк увидел черный эмалевый циферблат. Лотман снова нажал на кнопку, и пустой циферблат откинулся, открывая другие часы, с обычным циферблатом, но минутная стрелка двигалась на нем со скоростью секундной, а вместо секундной было размытое пятно. Кикути еще раз нажал на кнопку, и открылся третий циферблат, тоже по виду обыкновенный, но со стрелками, которые, казалось, совсем не двигались.
Они движутся, сказал рабби Лотман, но очень медленно. В зависимости от погоды, приливов и твоего настроения секундная стрелка может описывать полный круг за два‑три часа.
Он фыркнул и рассмеялся.
Сохрани и это для меня, Мунк. Мне они всегда нравились, и мне будет приятно знать, что они ждут меня. Ждут моего возвращения.
Пароход загудел. Кикути поднялся на борт и стал у поручня. Когда отдали концы и корабль отплыл, Мунк вскинул самурайский лук в воздух, салютуя другу. Он долго глядел вслед уменьшающемуся кораблю, а крохотные золотые часы почти неслышно тикали у его уха, отсчитывая быстрое, медленное и несуществующее время.
Антикварная лавка в Базеле.
Один из шедевров отца Иоганна Луиджи Шонди?

В то лето Лотман написал, что ему поставили диагноз диабет и он удалился в свой дом в Камакуре. Там он прожил еще четверть века, переводил Талмуд на японский и с удовольствием получал ежемесячные отчеты Мунка об успехах сионистов в Палестине.
Но добрых близнецов Кикути ожидал страшный конец. В 1938 году Мунк узнал, что генерал Кикути нелепо погиб в ночь, когда его армия заняла Нанкин. А в 1945 году вдова генерала написала, что рабби Лотман убит американской зажигательной бомбой в конце войны. Загадочным образом он исчез вместе со всеми своими переводами, поглощенный внезапно взорвавшимся огненным шаром, который, как ни странно, пощадил дом и сад, где он работал.
Мунку смерть Лотмана невольно напомнила об огненной колеснице, на которой любимый пророк рабби, Илия, вознесся на небеса в вихре ветра.

Ветер посвистывал в переулках Старого города в начале марта 1925 года, когда патриарх Сирийской православной церкви в Алеппо[33] встал из‑за карточного стола. Остальные игроки со стороны – богатый работорговец с острова Суматра и двое бельгийцев расхитителей помощи голодающим родом из Фландрии, – выбыли еще до рассвета. Игра началась вчера в полдень, и все успели подустать. Каир и Мунк расслабленно вытянулись на стульях, полуприкрыв глаза.
Очень любопытно, пробормотал патриарх, грузный человек с окладистой седой бородой и водянистыми глазами. Джо в знак уважения тоже встал вместе с патриархом и теперь потягивал из стакана стоя и очень внимательно слушал.
Что именно, батюшка?
Симметрия. Те трое, что выбыли из игры, потеряли огромные деньги, но суммы разнились в несколько тысяч фунтов. А вы трое выиграли почти по столько же, и лишь я ничего не получил, но и не потерял. Как это странно. Если честно, уже давно было видно, что этим все и кончится, но я все равно не могу поверить.
Игра случая, батюшка. Нельзя предугадать, как карты себя поведут.
В моем случае это божественное вмешательство, задумчиво сказал патриарх. Потрясающе.
Может быть, батюшка. Я вот и не подумал бы, что игрой руководят высшие инстанции.
Истинно божественное вмешательство, задумчиво проговорил патриарх. Это перст Божий, Господь в неизреченной мудрости своей указует мне на тщету и развращенность такого образа жизни. Велит мне отринуть сей недуг.
Недуг, батюшка?
Азартные игры. Выбрасываю церковные деньги на карты. Диавольский и погибельный карточный стол манит меня, и я иду, и пожертвования на бедных расточаю на мои собственные греховные удовольствия. Годы грешил я так, но более не стану.
Ой не знаю, батюшка. Насколько я могу судить, карты приходят и уходят, как ветер на улице. Чистый случай в иерусалимских переулках – а больше ничего.
В водянистых глазах патриарха появилось мечтательное выражение.
Может быть, для тебя, сын мой, но не для меня более. В эту ночь, Его неизреченной милостью, навсегда избавился я от своего порока. Это божественное вмешательство. На мне была десница Всемогущего.
Слишком возвышенно для меня, батюшка. Но у нас же на холмах Священного города все равно ветреное мартовское утро. Весна наступила, я так думаю.
Весна души, задумчиво промолвил патриарх. Моей души.
Каир почесался. Когда начался разговор, он беспокойно заерзал. У него на плече, как обычно, свернувшись клубком, лежал маленький пушистый зверек. Судя по всему, он спал – ни головы, ни хвоста не видно. Когда патриарх произнес моей души,Каир ни с того ни с сего громко испортил воздух. Затем поднял глаза и осклабился.
Вы знаете, что я думаю, батюшка? Я думаю, что некоторые люди ничем не лучше обезьян. Вот вы, например. Смешно.
Патриарх был ошеломлен, но, поскольку этого требовало его новое состояние просветления, быстро обрел самообладание. Мягко улыбнувшись в ответ, он осенил Каира крестным знамением.
Нет уж, спасибо, батюшка. Кстати, об обезьянах – у меня есть одна. Она мне постоянно напоминает, что на самом деле имеют в виду люди, когда говорят возвышенные вещи. Бонго, поздоровайся с этим набожным скрюченным уродцем, который называет себя патриархом.
Услышав свое имя, шарик белого меха на плече у Каира взорвался. Маленький альбинос немедленно вскочил на ноги, выставил вперед свои гениталии цвета морской волны и принялся энергично дрочить сначала одним кулачком, а потом вторым, меняя ручки каждые несколько секунд, в яростном ритме не пропуская ни единого движения.
Патриарх в ужасе отпрянул. Мунк рассмеялся. Джо взял патриарха под руку и подтолкнул его к двери.
Да смилуется Господь над этим человеком, пробормотал патриарх.
Не берите в голову, батюшка, сказал Джо, никогда не знаешь, какие извращенцы появятся за карточным столом. Шли бы вы лучше отсюда. Есть такие люди, они сбились с пути, вот и все, это я в том смысле, что случай это безнадежный. Сбрендивший араб с белой обезьяной на плече, только и всего. У него свои проблемы, у них обоих, иначе бы их здесь не было. Забудьте о них, говорю я вам, всех спасти все равно не удастся. Должны же хоть некоторые сбиваться с пути, как вы считаете? Те, о ком и говорить‑то нечего, безнадега. Здесь полно таких безнадежных, здесь – особенно, Иерусалим их к себе приманивает. Они, конечно, ищут исцеления, они же помешались раз и навсегда, им всем от Священного города нужно только одно: быстрое и по возможности чудесное исцеление. Порченые, вот они какие, лучше о них сразу забыть. В Алеппо все будет по‑другому, точно. Уверен.
Джо вывел патриарха в переулок, вернулся и рухнул на стул. Обезьянка вновь свернулась на плече Каира.
Наглая ложь, сказал Мунк, улыбаясь. Рука Господня?Я тут вспоминаю, что всего минуту назад видел в руке Всевышнего стакан с ирландским самогоном.
Господи, да что ж это такое, почему твое сердце сегодня недоступно благодати? И ты с ним заодно, Каир?
Представление затянулось на целых три часа, пробормотал Каир. Его надо было вышвырнуть отсюда еще до рассвета, вместе с тремя другими мерзавцами.
Ну конечно, сказал Джо, я знаю, виноват. Но этот жирный скользкий тип с водянистыми глазками просто не замечал рассвет, и все тут. Все надеялся, что скоро ему привалит удача, пока ваш болотный житель раскидывал по всему столу карты, изо всех сил стараясь его разубедить. Ну что ж, наконец‑то все кончилось, но Господи Иисусе, это чертовски трудно – вот эдак ходить по краю.
Какая там была разница? спросил Мунк, протирая глаза и зевая.
В его деньгах, ты хочешь сказать? Двадцать часов от приезда до отбытия, и у него два шиллинга в запасе. Но он столько же потратил на минеральную воду, так что наш парень вышел вчистую. Ни полпенни больше, ни полпенни меньше.
Великолепно, Джо.
Но стоило ли тратить на него лишние три часа? спросил Каир, позевывая.
Мне, черт возьми, кажется, да. По‑моему, любая чертова церковь в этом воровском логове под названием Алеппо, одновременно сирийская и греческая, нуждается во всевозможной поддержке, и особенно в реформации церковных иерархов, – мы положили хорошее начало. По‑моему, там творятся какие‑то темные делишки, а об их истинном размахе мы даже не подозреваем. Сирийские штучки с греческими штучками вдобавокда еще и с именем Господа нашего на фасаде? Лично меня это пугает. Настоящие извращенцы, и все эти дела просто криком кричат, что на самом верху нужно что‑то менять.
Каир улыбнулся. Мунк рассмеялся. Они сгорбились в креслах – слишком устали, чтобы куда‑то идти. И вдруг откуда‑то издалека донесся зловещий лай и наполнил собой комнату.
Что это? спросил Мунк.
Просто ветер на улице, быстро сказал Джо, выпрямился в кресле и присвистнул. Слышите? Просто ветер на улице, такой интересный акустический эффект – это все из‑за узких извилистых улочек.
Он не снаружи, сказал Мунк. Клянусь, он звучал откуда‑то отсюда.
Из угла, добавил Каир.
Вот и я о том же, сказал Мунк. Из угла, где сейф.
Сейф? спросил Каир.
Голову даю на отсечение.
Из сейфа, Мунк?
Мне так показалось.
Ну‑ну, сказал Джо. Я думаю, мы все очень устали, это просто у нас в головах шумит. Скоро с нами каменный скарабей заговорит. А что, не бывает такого? Давайте навострим уши – что там?
Джо сложил ладонь лодочкой, прикрыл рот, и из угла, откуда огромный скарабей смотрел на них с хитрой улыбкой на морде, зазвучал голос, больше похожий на скрежет.
«Ага, проклятые смертные. Вы и вправду думали, что можете узнать тайну скарабея? Никогда, говорю вам. Она заперта здесь, в моем черном сердце, навечно, тайна – камень в улыбающемся скарабее вечности».
Со скрежетом рассмеявшись напоследок, голос умолк. Мунк и Каир застонали. Джо задумчиво кивнул.
Ну и какой мы из этого делаем вывод? Довольно‑таки очевидно, что нам всем нужен отдых после утомительной ночи у карточного стола. Ах, я вас задерживаю? Давайте‑ка я все тут уберу, а вы оба пойдете по домам, вы заслужили отдых. Нет‑нет, никаких возражений, я свои обязанности знаю. Пошли‑ка, Мунк, мой дорогой. Давай‑ка, Каир, детка. Господи боже, какие ж вы тяжелые, когда двигаться не хотите.
Джо поднял обоих на ноги и вытолкнул в переулок. Он стоял в дверях, улыбался и смотрел, как они уходят, махнув им рукой на прощание, но как только они завернули за угол, он проскользнул внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Он рухнул на стул и взгромоздил ноги на стол, бормоча про себя.
Господи, еще чуть‑чуть – и… Еще минутка – и наш старик показался бы на поверхности, и пришлось бы все это расхлебывать – тайна пещер раскрыта, и ничего уже не вернешь.
Он встрепенулся. Ручка на высоком сейфе начала поворачиваться. Скрипнули пружины. Дверь открылась, и из сейфа вышел Хадж Гарун, держа в руках стопку аккуратно свернутого белья, а под мышкой – рог.
Здравствуй, пресвитер Иоанн. Я‑то думал, ты уже в постели.
Я тоже думал, но меня занесло прошлой ночью, возился с десницей Божией и все такое.
Что‑то случилось? Ты чем‑то расстроен?
Только из‑за себя самого. У нас тут едва не произошла катастрофа.
Что случилось?
Ранним утром пошли слухи, что крестоносцы возвращаются.
Что? Снова? А мы‑то здесь сидим! Быстро, мы должны подать сигнал и занять посты.
Охолони, это просто слухи, оказалось, что никто на нас не нападает. Хорошо, правда?
Хадж Гарун вздохнул, шлем у него опять съехал. На глаза старику пролился дождь ржавчины.
Конечно. Какое облегчение.
Вот и я о том же.
Расскажи‑ка мне.
О чем?
О слухах.
Ах да. Что ж, все предзнаменования были правильными. Крестоносцы экипировались как следует, с ног до головы в доспехах, с чудовищными лошадьми и неуклюжими осадными машинами, мечи звенят, палицы болтаются, шипастые булавы и тяжелые копья, все звенит, грохочет и лязгает, словом, при полных регалиях.
На глазах у Хадж Гаруна выступили слезы.
Не нужно, прошептал он. Я знаю, как они выглядят.
Ой, прости, конечно знаешь. Ну так вот, эти благородные христианские рыцари дошли аж до Константинополя и решили там отдохнуть, а заодно разграбить этот добрый христианский город, как положено добрым христианским рыцарям, и всласть повеселиться, поубивать, пожечь, пограбить, а потом делили добычу, как пристало добрым христианам, – упоительно, такая интересная игра, но вот зверства им прискучили, они сказали: «Хватит!» – и решили: да и бог бы с ним, с Иерусалимом.
Это был Четвертый крестовый поход, сказал Хадж Гарун, вытирая слезы и улыбаясь. Ему явно полегчало.
Конечно. Он самый.
А все походы с пятого по девятый не принесут большого вреда.
Рад слышать. Значит, у нас с тобой есть время расслабиться и отдохнуть. Я вижу, у тебя с собой твой надежа‑рог. Ну и мощный сигнал ты подал несколько минут назад.
Я был в конце туннеля, как раз подходил к лестнице.
Ясно. Так ты просто возвещал о себе или в этом сигнале была необходимость?
Мне показалось, кто‑то промелькнул за скалой.
Ага.
Но это была игра воображения.
И все?
Да, это была тень от моего факела.
Уж это они запросто, я – то знаю. И как там внизу? Что‑нибудь необычное было?
Нет, я просто стирал белье на персидском уровне.
Почему именно на персидском?
Там горная вода, кристально чистая и свежая.
Ясно.
И потом я ждал, пока белье высохнет. Я обычно вывешиваю белье просушиться на ночь.
Да ты что. А почему?
Становится гораздо белее.
Да ну. А почему?
От луны.
Конечно. Я и позабыл.
Белье в лунном свете делается гораздо белее.








