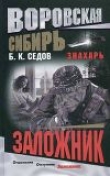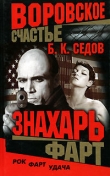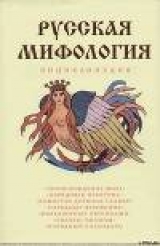
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц)
В восточнославянской мифологии Купала – главный персонаж, находящийся в центре обрядовых действий и представлений праздника летнего солнцеворота, который отмечали в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю. Имя Купалы осталось лишь в названиях народного праздника «Иван Купала» и обрядового атрибута – украшенного деревца или чучела. Указание на то, что Купала – божество, содержится лишь в довольно поздних письменных источниках. Так, в Густынской летописи (XVII в.) с осуждением описываются празднования в честь Купалы:
«Сему Купалу <…> память совершаютъ в навечерие Рождества Иоанна Предтечи <…> сицевымъ образом: съ вечера собираются простая чадь, обоего полу, и соплетаютъ себе венцы из ядомого зелия, или корения, и препоясавшеся былием воз-гнетают огнь, инде же поставляютъ зеленую ветвь, и емшеся за руце около обращаются окрест оного огня, поюще своя песни <…> потом чрезъ оныи огнь прескакуютъ <…> Купало, его же бога плодов земных быти мняху, и ему прелестию бесовскою омраченныи благодарения и жертвы приношаху, в начале жнив, того ж купала бога, или истеннее беса, и доселе память держится по странам Российским, наипаче в навечерии, Рождества Иоанна Предтечи <…> чрезъ огнь прескачюще самых себе тому же бесу Купалу в жертву приносятъ <…> И егда нощь мимо ходитъ, тогда отходятъ к реце с великимъ кричаниемъ <…> умываются водой». Осуждение же самих купальских обрядов содержатся и в более ранних славянских рукописях: например, в «Синодике» болгарского царя Борила (XIII в.), в обличениях игумена Псковского Елеазаровского монастыря Памфила (1505 г.). В частности, игумен Памфил писал:
«Егда бо приидет праздник, во святую ту нощь мало не весь град возмятется, и в селах возбесятся, в бубны и сопели и гудением струнным, плесканием и плясанием; женам же и девкам и главами киванием, и устнами их неприязнен крик, вся скверные песни, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; ту есть мужем и отроком великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение и женам мужатым осквернение, и девам растление».
Исследователи-лингвисты возводят имя Купала к индоевропейскому корню кир– со значением «кипеть, вскипать, страстно желать». Слова с этим корнем известны многим народам, в том числе и соседствующим с восточными славянами. Так, в литовском языке есть глагол кире, означающий «бурлить, пениться», а в латышском кйре – «дымиться, чадить». Имя славянского сезонного персонажа Купалы родственно также имени римского бога любви Купидона, которое образовано от латинского глагола еирЮ, – ere – «желать, жаждать», восходящего к тому же индоевропейскому корню. Значение этого корня, связанное с понятием огня, содержится в полесских словах «купало» (костер) и «куп'ец'» (тлеть, плохо гореть), и симбирских местных словах «купальница» и «купаленка» (костер в поле, огонь на ночевке). Таким образом, изначально имя Купала связано с идеей огня. Это косвенно подтверждается также наличием в восточнославянских языках однокоренных названий разных растений, признаки которых соотносятся с огнем. В некоторых локальных традициях у русских «купальницей», «купавкой» называли полевые цветы: лютик жгучий, то есть обжигающий, подобно огню; гвоздику и иван-да-марью, сближающиеся с огнем по признаку цвета – розовый (красный) и сине-желтый. «Купенью», или «купеной», в Псковской, Курской, Тульской берниях называли ландыш, ягоды которого – оранжево-красные, как огонь, – использовали в качестве румян. «Купальницей» и «купородом» в народе называли папоротник – растение, которое занимает важное место в поверьях, относящихся именно к празднику Ивана Купалы: согласно традиционным представлениям, папоротник цветет лишь один раз в году и особым цветком – золотого цвета с огненно-красным отливом.
В связи с идеей огня применительно к празднику Ивана Ку-палы нельзя не заметить, что он приходился на день летнего солнцестояния, то есть на рубеж двух периодов солнечного годового цикла, лежащего в основе древнего земледельческого календаря. Это было время наивысшей активности солнца, которое затем, как говорили в народе, «поворачивало на зиму» и постепенно начинало «угасать», отчего день становился короче, а ночь длиннее. Именно в связи с этими представлениями древние славяне в этот день чтили солнце, воспринимаемое как животворный небесный огонь, наблюдая за его появлением на заре и возжигая костры.
Наряду с почитанием солнца и природной стихии огня архаичный обрядово-мифологический комплекс купальского праздника включал многочисленные действия, связанные с противоположной стихией воды. Поэтому имя Купалы со временем стало соотноситься с близким ему по звучанию глаголом «купаться». Такому восприятию имени мифологического сезонного персонажа способствовало также наслоение на языческую купальскую обрядность христианского празднования Рождества Иоанна Крестителя, образ которого однозначно связывался с водой. Согласно Евангелию, Иоанн, провозглашая появление Спасителя и приближение Царства Божия, призывал людей покаяться в грехах; покаявшиеся проходили обряд очищения в водах реки Иордан, который называли «крещение водой» или «полное погружение». Значение купальских празднеств в народном сознании со временем было переосмыслено и стало восприниматься как ритуальное купание. Влияние же языческой основы праздника сказалось в том, что в русской традиции Иоанн Креститель известен более как Иван Купала, то есть, по сути, христианский святой получил прозвище языческого божества.
Купальские обряды сохранялись у восточных славян вплоть до начала, а в некоторых местах – до середины XX века. Главным обрядовым действом, происходившим в ночь на Ивана Ку-палу, являлось разжигание костров, которые в некоторых местностях так и называли «купала». У русских этот обычай в XIX–XX веках был распространен в основном в западных берниях – Олонецкой, Санкт-Петербургской, Псковской, Смоленской, – а также встречался в Костромской губернии. Купальские костры раскладывали, как правило, за пределами селения: на холмах вблизи полей, чаще всего – на берегу рек и других водоемов. Для разжигания костра приглашали уважаемых в крестьянской общине стариков. В некоторых местных традициях зажигал костер парень, отличавшийся ловкостью и удалью. Огонь для купальского костра чаще всего добывали древним способом – с помощью трения двух кусков дерева. Такой огонь назывался «живым». Для костра жители приносили из домов отслужившие свое старые вещи: бороны, метлы, колесные ободы и подобное. И сам этот способ, и отмеченность непосредственного разжигателя костра, и материал для него указывают на несомненную причастность обряда к древнему культу огня. Об этом же свидетельствуют ритуальные тексты, сопровождавшие действо, в частности в белорусской традиции:
Сягодня у нас Купала,
Не дзеука огонь раскладвли,
Сам Бог огонь раскладау
По мнению исследователей, некоторые сведения, даже довольно позднего времени, позволяют говорить о сжигании в купальском костре ритуального атрибута – воплощения мифологического персонажа: на Гомельщине, например, еще в начале XX века молодежь на Купалу делала из соломы антропоморфное чучело, называвшееся Марой, с песнями несла его за околицу, раскладывала костер из соломы, хвороста, старого хлама и сжигала Мару, после чего начинали прыгать через огонь и петь песни. О древности этого обряда говорит наличие значительного числа типологически близких ритуалов в разных славянских традициях.
Костер иногда, например, в Псковской губернии представлял собой сложенные столбиком дрова, который обкладывали хворостом. Но, как правило, центром купальского костра служили дерево – сосна или ель, которым нередко обрубали сучья или макушку, – или шест, вкопанный в землю. На них вешали венки, старые веники, цветы, старые лапти, прикрепляли к вершине свечки. В Санкт-Петербургской губернии к ритуальному дереву привязывали оставшиеся после троицких обрядов березки, а его ствол обматывали лыком. В полесской традиции живое или срубленное купальское деревце украшали специально сорванным в поле житом, колосьями, которые сплетали в венки, ими же обкручивали ствол и ветки. Такое дерево здесь называлось «купало».
На Псковщине считали, что купальский огонь нельзя зажигать на земле. Поэтому на вершине дерева или шеста закрепляли колесо или обод от него, пук соломы, смоляную бочку, а нередко наверх поднимали ведра со «смоляками» (пнями), которые и поджигали. Горящее в высоте колесо или другие предметы, имеющие круглую форму, воспринимались в народном сознании как символ солнца. В некоторых местах был известен обычай пускать горящие колеса, ободы и смоляные бочки с холмов и возвышенностей вниз. О нем еще в XVII веке писал в челобитной царю Алексею Михайловичу старец Григорий: «Тако же о рождестве Иоанна Предтечи всю нощь бесятся бочки зажигают и з гор катают, и, веники зажегши скачут». Все эти ритуальные действия были направлены на то, чтобы солнце светило ярче, было теплее, отчего урожай стал бы лучше.
Купальский костер был центром молодежных гуляний в Иванову ночь, куда обязательно сходились парни, девушки и пары, поженившиеся минувшей зимой. Здесь обычно устанавливали качели, устраивали общую трапезу, водили хороводы, пели песни и плясали. Непременным обрядовым действом у костра было перепрыгивание через купальский огонь. Прыгали поодиночке и парами. Согласно народным поверьям, перепрыгнувший обретал крепкое здоровье и удачу на текущий год. Верили также, что если девушка и парень перескакивали через огонь, не разомкнув рук, то вскоре они поженятся, а их брак будет счастливым. Кроме того, широко было распространено представление о том, что чем выше будут прыжки через огонь, тем выше в полях вырастут хлеб и лен.
Считалось, что купальский огонь обладает очистительными свойствами. Поэтому у русских существовал обычай бросать в купальский костер сорочку больного ребенка, чтобы вместе с ней сгорела и болезнь. В некоторых местах матери через огонь переносили маленьких детей, страдающих каким-либо недугом; кое-где через купальский костер прогоняли домашний скот, чтобы защитить его от болезней и мора.
Пепел и головешки от купальских костров молодежь разбрасывала «на все стороны». В Смоленской губернии это делали для того, чтобы защитить посевы от ведьм; разорение костра сопровождалось словами: «Выйди, ведьма, с нашего жита, а не выйдешь – глаза выжгу». Псковичи, рассеивая пепел, говорили: «Родись, хлеб, для наших малых детей». Аграрно-магическое значение этого действия подтверждается также обычаем раскладывать головешки от купальского костра на капустные грядки, что, по поверьям, защищало побеги от гусениц и обеспечивало урожай капусты. В Полесье после прыганья через костер ветки установленного рядом ритуального деревца – украшенной живыми и бумажными цветами березы – молодежь ломала и несла домой, чтобы поскорее выйти замуж.
Тема огня в купальской традиции воплощается не только в ритуалах возжигания купальских костров, но и в широко распространенном поверье, что в день Ивана Купалы солнце «играет». Так, в псковской традиции разжигание костров непосредственно соотносилось с обычаем встречать солнце. Вот как он описывается в рассказах местных жителей: костры «жгли и ждали, когда солнце будет всходить. Солнце играло Подымиться сажень вверх и играет. Вот переливается, вот всяким волнам Всяко-всяко-всяко вот оно ворочается, и туда, и туда, так что трясется-трясется, тады опять сюда на место встанет Оно прямо как-то рассыпается, сильно красиво».
Образ солнца, играющего на восходе, нередко встречается в купальских песнях:
Как на Ивана солнце играло,
рано, рано, солнце играло,
И после Ивана перестало,
рано, рано, перестало.
Иван да Марья на Купальну,
рано, рано, на Купальну
И девки, и мальцы приходили,
рано, рано, приходили.
И девки ноги умывали,
рано, рано, умывали,
А мальцы воду выпивали
рано, рано, выпивали.
Важную часть купальского празднества составляли обряды с водой. Один из них был связан с изготовлением чучела в виде женщины или мужчины, которое в некоторых местах называли Купалой, а в некоторых – Марой. Под исполнение купальских песен, под пляски чучело на высоком шесте несли к реке и там сбрасывали в воду и топили. Этот обряд, соотносимый с ритуальными проводами-похоронами, включающими растерзание или сжигание чучела из растительного материала, имел целью обеспечить плодородие.
Обязательным элементом купальской обрядности было омовение водой, которое представляло собой массовые купания людей в водных источниках, умывание или обмывание водой или росой, мытье в банях, обливание водой или грязью. Эти обряды могли совершаться ночью, на рассвете, в перерыве между церковными службами – утреней и обедней. В купании принимали участие все жители селения. Человека, который отказывался купаться, подозревали в колдовстве. В некоторых местах купание после ночных гуляний устраивали только девушки: они полностью снимали с себя одежду и окунались в реку или озеро. Повсеместно считали, что купальское омовение приносит здоровье. В Калужской губернии крестьяне говорили, что в день Ивана Купалы необходимо хотя бы раз окунуться в воду, чтобы в течение лета чувствовать себя в ней безопасно.
Широко было распространено также ритуальное омовение росой. На рассвете девушки, а иногда и женщины, собирали росу, водя по мокрой траве скатертью, и затем отжимали ее в какой-нибудь сосуд. Купальской росой умывали лицо и руки, что, по поверьям, прогоняло болезни и сохраняло кожу чистой. В Сибири «иванову» росу использовали в случае заболевания глаз.
Купальскую воду и росу использовали и для мытья хозяйственной утвари. При этом им обеим приписывали очистительные и продуцирующие свойства. Так, в Вологодской губернии один раз в год, а именно в день Ивана Купалы или в его канун, хозяйки мыли свои «квашонки» – сосуды для замешивания теста, для чего их несли на реку или к колодцу. В Сибири же под «иванову» росу выставляли пустые крынки, полагая, что от этого «снимок» с молока (сметана) будет толще.
С водой было связано одно из купальских молодежных развлечений – обычай обливать ею в купальскую ночь или в Иванов день встречных. В Полесье обливание парней и девушек между собой называлось «играть в воду». У русских парни заранее запасались водой, которую зачастую набирали вместе с грязью, и обливали девушек, одетых в нарядные праздничные костюмы. Тех, кто прятался, насильно вытаскивали из домов. Девушки, как правило, отвечали парням тем же. Вдоволь побегав друг за другом, парни и девушки объединялись и начинали вместе обливать водой всех встречных жителей, кроме лишь маленьких детей и самых ветхих стариков. В Орловской губернии смысл обливания заключался в обеспечении дождя. После веселого развлечения молодежь отправлялась на реку, где девушки и парни устраивали совместные купания. Особенностью таких купаний в конце XIX – начале XX веков было то, что его участники, не раздеваясь, входили в воду прямо в одежде.
Особой стороной купальской обрядности являлись охранительные ритуальные действия против нечистой силы. Купальская ночь – самая короткая ночь в году и, по народным поверьям, одна из самых страшных: она относилась к тем временным периодам и в рамках суток, и в рамках календарного года, когда, согласно мифологическим представлениям, границы между человеческим и потусторонним мирами стирались и были проницаемы. Поэтому в эту ночь активизировались вредоносные действия демонологических существ, колдунов, ведьм. Деятельность нечистой силы и колдунов была направлена в основном во вред людям, животным и хозяйству в целом.
В купальскую ночь, по поверьям, леший, полевой или колдуны и ведьмы портили посевы, совершая «пережины», «заломы» и «закрутки» – выстригали или сминали дорожку колосьев через все поле, связывали и надламывали пучки колосьев. В результате этого крестьянин лишался своего урожая, который переходил к «пережинщику». Чтобы хлеб с чужой полосы сам «сыпался в сусеки», колдун перед тем, как совершить пережин, просто открывал двери своего амбара. Колдун старался найти в чужом поле «споринки» – стебли с несколькими колосками (спорынья в традиционном сознании осмыслялась как символ плодородия) и бросал их на свое поле или привязывал в амбаре над сусеком в уверенности, что из них непрестанно будет стекать рожь, которая нажинается крестьянами в первый день жатвы. Залом или пережин мог нанести вред и человеку: прикосновение к ним могло привести к болезни и даже смерти. В Псковской губернии считали, что если при жатве заломило руки, значит, здесь есть залом.
Крестьяне, пытаясь защитить свои посевы от ведьм и колдунов, нередко проводили купальскую ночь в поле. В Рязанской губернии мужчины прятались во ржи с косами и при появлении колдуний пытались подсечь их под ноги. На следующий день смотрели: если кто-либо из деревенских женщин захромает, значит, она – колдунья. Защитной мерой от ведьм считались купальские костры в полях. В некоторых местностях молодежь специально ходила по полям с песнями, нося шесты с горящими наверху факелами, – «ведьму гоняли купальскую». На Псковщине пели:
Иван да Марья, на горы Купальня.
Там девки шли, навоз разбивали, землю поджигали.
Гари ведьма, гари, закликуха,
Коров закликала, молоко отбирала.
Кроме посевов, от колдовских действий в купальскую ночь мог пострадать и домашний скот. Колдуны и ведьмы, обернувшись собакой, свиньей или другим животным, проникали в чужой двор и доили коров, чтобы «отнять» у них молоко, которое само стекает в подойник ведьмы. Чтобы ведьма не проникла в хлев, его накануне купальской ночи обходили с воскресной молитвой, а в дверях клали вырванное с корнем молодое осиновое дерево. С этой же целью на воротах чертили дегтем кресты, а перед ними клали борону вверх зубьями. В Сибири об этом средстве защиты говорили: «Подбежит колдовка, прыгнет и застрянет в зубьях». Для отпугивания колдунов на ночь у окон и дверей клали также жгучую крапиву.
На время купальских празднований приходился период наивысшего расцвета природы: солнце находилось в зените, а растительность достигала пика цветения. В сознании крестьян магическая сила природных стихий огня, воды, земли, а также сила растений была в этот период настолько велика, что им приписывали продуцирующие, охранительные, очистительные и целебные свойства. Поэтому повсеместно у русских именно в ночь на Ивана Купалу собирали лекарственные травы и заготавливали с этого дня банные веники. В Вятской и Орловской губерниях считали, что веники, заготовленные до этого срока не полезны и даже вредны: от них может чесаться тело. Широко были распространены рассказы о необычных явлениях, происходящих в купальскую ночь с растениями. Наиболее популярными были истории о чудесном цветке папоротника, появлявшемся единственный раз в году и открывающем человеку спрятанные под землей клады.
Особое внимание крестьяне уделяли своим уже набравшим силу посевам зерновых. В некоторых местностях совершали обряды, направленные на увеличение урожая. Так, на Смоленщине в ночь на Ивана Купалу девушки вместе с парнями ходили по домам; хозяева непременно угощали их специальным обрядовым блюдом «кулагой», в ответ на что девушки пели небольшие песенки, которым в народном сознании приписывалась магическая сила:
Роди, Боже, чистое жито,
Колосисто, ядристо.
В Костромской губернии накануне дня Купалы девушки в складчину готовили кашу из толченого ячменя, а вечером следующего дня ели эту кашу с маслом, после чего в течение всей купальской ночи с песнями ходили по деревне и полям. В некоторых местностях в день Ивана Купалы девушки шли в ржаное поле с обетной кашей, обходили посевы до десяти раз и совершали здесь же обрядовую трапезу. В Новгородской губернии кашу варили прямо в поле. Многие купальские песни, которым придавалось магическое значение, отражают желание крестьянина получить богатый урожай:
Марья Ивана <…>
В жито звала! <…>
В нашем жите
Сам бог ходит <…>
Жито родит:
Ядро с ведро <…>
Колос с бревно!
В Псковской губернии на Купалу пели:
Удайся ж, мой лен,
Тонок, долог! <…>
Бел волокнистый,
Шелк шелковистый.
Праздник Ивана Купалы считался временем молодежи и молодых пар, возраст которых в народном сознании соотносился с периодом расцвета, пышности и буйства в самой природе. Соответственно этому возрастному состоянию для молодежи было свойственно особое, отличавшееся повышенной эмоциональностью поведение, которое выливалось в разные бесчинства. При этом шалости, которые совершались в праздничное время и носили ритуализованный характер, ни в коей мере не осуждались взрослым поколением. В купальскую ночь парни, как правило, объединялись в группы и разгуливали по деревне. Ватаги молодежи шумели, буянили, припирали дровами и сельскохозяйственными орудиями ворота и двери домов, закладывали печные трубы бочками и разным хламом, на проезжую дорогу сваливали в огромную кучу все, что попадалось на глаза во дворах и лежало без присмотра, выводили скотину из хлева и привязывали ее к двери в избу. В Рязанской губернии такие действия проделывали для того, чтобы узнать, где живет колдун. По народным убеждениям, обычный человек относится к молодежным шалостям без обиды и злобы, как принято в традиции; колдун же обязательно выйдет из дома, чтобы разогнать молодежь.
Упоминаемой в купальских песнях и рассказах о древности, но давно ушедшей в область преданий является такая архаичная особенность ночи на Ивана Купала, как снятие запретов на любовные отношения между мужчинами и женщинами. Разгул купальской ночи так осуждался в Слове св. Иоанна Златоуста: «Жена на игрищах есть любовница сатаны и жена дьявола. Ибо пляшуч-цая жена многим мужам жена есть. А что мужи? После пития начинают плясание, а их по плясании начаши блуд творити с чужими женами и сестрами, а девицы теряют свою невинность».
Невольное нарушение установленных традицией брачных норм, опасность которого предполагается в связи с обычаем, допускающим свободу отношений между представителями полов, является одним из мотивов купальских песен о брате и сестре, о свекре и снохе. У восточных славян были широко распространены песни о стремлении брата убить сестру-соблазнительницу и о превращении в траву или цветок Купалы вступивших в брачную связь брата и сестры, не знавших о своем родстве. Эти сюжеты об инцесте, по мнению исследователей, восходят к архаичному мифу о брате и сестре – близнецах, один из которых связан с жизнью и огнем, а другой – со смертью и водой. В некоторых купальских песнях мотив огня – воды связывается с сюжетом о взаимоотношения свекра и снохи:
Как на горушке, на горы,
На высокою, на крутой,
На высокою, на крутой,
На раздольице широкой
, На раздольице широкой,
Жарко дубьё горело,
Жарко дубьё горело,
А в том жару свекор мой,
А в том жару свекор мой,
Пойти дубье тушити,
Пойти дубье тушити,
Решетом воду носити,
Решетом воду носити,
Своего свекра решати.
Купальский праздник издревле был одним из самых ярких и почитаемых у восточных славян. Большая часть его архаичных элементов, имеющих сугубо языческий характер, сохранялась на протяжении веков.