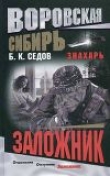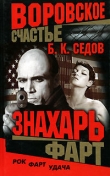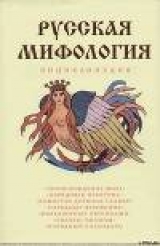
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 50 страниц)
Роль животных в мифологии чрезвычайно велика и определяется тем исключительным значением, которое они имели на ранней стадии развития человечества, когда люди еще не выделяли себя из ряда живых существ и не противопоставляли себя природе. Во многих культурных традициях животные обожествлялись и, как священные, помещались на вершину социальной иерархической лестницы. У многих народов широко были распространены мифологические представления о животных-родоначальниках человеческого коллектива, а также о животных как особой ипостаси человека. Отсюда запреты убивать и употреблять в пищу мясо тех или иных животных и, напротив, ритуальное вкушение его в предписанное время. Долгое время особенности, подмечаемые людьми в мире животных, являлись наглядным образцом для установления модели жизни человеческого общества.
С древних времен до нашего времени дошли представления о возможности человека принимать облик животного. Способность к оборотничеству приписывалась прежде всего людям, которые, согласно мифологическим представлениям, обладали магической силой. В народной среде до сих пор живы представления об умении колдунов оборачиваться разными животными, о чем еще будет речь ниже. Мотив оборотничества широко и разнообразно представлен в фольклоре: сказках, былинах, легендах, преданиях и т. д. Образы самих животных в сказках наделяются необычными характеристиками: они понимают человеческую речь и могут разговаривать. Зачастую они выступают как благодарные помощники и советчики героя, а иногда, например конь или кот, как волшебный дар от умершего предка – отца или деда, – предопределяющий судьбу нового хозяина. В традиционных представлениях животные могут выступать как ипостась антропоморфных мифологических персонажей: так, водяного в народе нередко представляли в образе рыбы, домового – в виде кошки и других животных.
Образы животных часто воспринимались как посредники между миром людей и потусторонним миром. Многим культурным традициям, в том числе и русской, известны представления о душе человека в облике птицы. Функция посредничества животных между мирами очень четко прослеживается в фольклорных произведениях разных жанров и в народных представлениях. В мифопоэтических текстах и традиционном изобразительном искусстве разные животные распределяются в соответствии с архаическими представлениями о трехчленной вертикальной структуре мирового пространства. С его верхней зоной – небесным миром – связываются образы птиц; со средней – земным пространством – копытные животные, пчелы; а с нижней зоной – подземным миром – гады, рыбы, мыши и некоторые другие животные. В традиционной культуре за тем или иным животным закрепился определенный комплекс значений и характеристик. Сложившаяся в народном сознании символика животных находит отражение в самых разнообразных сферах обрядовой и бытовой жизни человека: в ряженье, приметах, толковании сновидений и т. п. Об особом месте животных в мифологических представлениях свидетельствуют также и обряды их жертвоприношений.
В культуре восточных славян волк – одно из наиболее мифологизированных животных. Основным признаком, определяющим его символику в народных представлениях, является принадлежность к «чужому» миру.
Чужеродность волка прослеживается в народных этиологических легендах, то есть в повествованиях о его происхождении. Возникновение волка в мифопоэтическом сознании связывается с землей: согласно белорусским легендам, позавидовав Богу, лепившему человека, черт вылепил из глины или, по некоторым вариантам легенды, выстрогал из дерева волка. Однако, создав форму, он не смог его оживить. Полагая, что творение оживет, если его направить против Бога, черт стал бегать вокруг волка и кричать: «Куси его!». Но жизнь волк получил от Бога: он оставался недвижим до тех пор, пока Бог не крикнул: «Куси его!» Оживший волк накинулся на черта, попытавшегося спастись тем, что взобрался на ольху. Но зверь успел схватить его за пятку. Из раны черта кровь попала на ствол дерева, и с тех пор древесина у ольхи красноватая. А черт стал беспятым; его в народе так и называют Антипкой (Анчуткой) Беспятым или Беспалым. В некоторых вариантах легенды волк выдирает черту бедро, отчего тот также навсегда остается хромым. В качестве спасительного для черта дерева выступает иногда осина, ставшая от его крови горькой.
Хтоническая природа волка, вытекающая из его происхождения, связанного с землей, обусловливает соотнесение этого зверя в народных представлениях с другими нечистыми животными, в частности с гадами и воронами. Общая природа, близость волка с гадами очевидна, например, в легенде о превращении человека в аиста:
Когда черт выстругал из дерева волка, Бог собрал все стружки и щепки, сложил в мешок и завязал крепко-накрепко. Дал он этот мешок одному человеку и велел: «Брось мешок в глубокое море, только смотри, внутрь не заглядывай!» Человека же разобрало любопытство, и решил он заглянуть в мешок. Но только он ослабил веревку, как наружу полезли змеи, жабы, насекомые и прочая нечисть. Бог разгневался, в наказание превратил этого человека в аиста и велел до конца века собирать выползших из мешка тварей. Связь волка с вороном прослеживается в восточнославянских поверьях. Так, по представлениям русских, на волка обязательно наткнется тот, кто поет в лесу и увидит ворона. А у белорусов карканье ворона над стадом предвещает нападение хищного зверя.
В народной культуре образ волка соотносится со смертью и миром мертвых. В Белоруссии при встрече с волком следовало произнести заговор, в котором отразилось представление о хождении этого зверя в иной мир:
На том свете был? Был.
Мертвых видел? Видел.
Мертвые кусаются?
Не.
И ты не кусайся.
В Полесье при встрече с волком мысленно или вслух призывали умерших, называя их по имени; на Украине в такой ситуации называли имена трех покойных родственников или просто вспоминали покойного. Все это, по поверьям, позволяло избежать нападения зверя. Причастность волка к миру мертвых прослеживается в рождественском обычае приглашать его, наряду с домовым и умершими предками, на праздничный ужин. Появление волка во сне может предвещать смерть. Так, на Полтавщи-не был записан мифологический рассказ, о том, как девушка гадала на сон о женихе. Для этого она, как предписано традицией, сделала «мостик» из палочек, положила его под подушку и призвала «суженого-ряженого», чтобы он пришел во сне. Ночью ей приснился волк, переходящий через мостик. Но девушка не вышла замуж, а вскоре она умерла.
На признаке волка как «чужого» основана не только его «потусторонняя» символика, но также и брачная. Для свадебной обрядности восточнославянских народов характерно, что обе стороны – жениха и невесты – воспринимали представителей противоположного рода как «чужаков». Поэтому в приговорах, песнях, причитаниях, сопровождающих свадьбу, образ волка может означать представителя и той, и другой стороны. На Псковщине «волком» называли дружку – главу жениховой дружины, роль которого обычно играл близкий друг или родственник жениха. В севернорусских свадебных причитаниях, исполняемых невестой, «серыми волками» именуются братья жениха. В подольской свадьбе мать невесты выходила встречать приехавшего за невестой жениха, обязательно надев вывернутый шерстью наружу кожух, и тогда ей пели:
Убралась теще в вовченька
Хотела злякати зятенька,
Не хотела дочки выдати
В псковских и белорусских песнях «волчицей» называют невесту. Так, у белорусов при встрече невесты в доме жениха пели:
А привезли, привезли
З темнаго леса волчицу…
В Ярославской губернии невеста, чтобы не бояться новых родственников, входя в дом, сама говорила на пороге: «Тут все овцы, одна я волк!» «Волками» на Псковщине называли всю невестину родню, приезжавшую в дом жениха на второй день свадьбы.
Несмотря на то, что в свадебной обрядности образ волка мог соотноситься с невестой и ее матерью, все же в разных сферах традиционной культуры в большей степени прослеживается мужская символика волка. Согласно поверьям украинцев и белорусов, мужчина, надевший женский головной убор, будет бояться волка, а женщину, надевшую мужскую шапку, будет бояться скотина. В некоторых местах у восточных славян образ волка в определенных ситуациях выступает исключительно как символ жениха. В Полесье видение волка во сне предвещает девушке появление жениха и приход сватов. В белорусских свадебных песнях утверждение о поедании волком козы или изображение этого поедания является вариантом широко распространенного в культуре восточных славян мотива охоты как символа свадьбы; соответственно образ волка означает мужское начало – жениха, а коза – невесту:
Ходила козанька по лугам,
А за ей услядок серый волк:
Хоть ходи, не ходи, козанька, —
Быть тебе, козанька, съеденой.
У русских широко была распространена песня эротического содержания, главными персонажами которой были девушка и парень, который сравнивается с «серым волком»:
Брали девки лен, лен,
Брали, выбирали,
Земли не обивали.
Боялися девки
Да серого волка.
Не таво волка боялись,
Што по лесу ходить,
Што по лесу ходить,
Серых овец ловить.
А тово волка боялись,
Што по полю рыщить,
Красных девок ищить.
Где ни взялся паренек,
Схватил девку поперек,
Схватил девку поперек
За шелковый поясок,
Повел девку во лесок
Исполнение этой песни обычно приурочивалось к периоду совершения обрядов троицкого цикла, основными участницами которых были незамужние девушки и молодые женщины. С одной стороны, в этих обрядах очень ярко проявлялась установка на противопоставление мужского и женского начал, а, с другой – их смысл заключался в обеспечении брачных отношений и рождения детей. Мотив кражи овцы волком, так же имеющий в традиционном сознании эротическую символику, реализовался в популярной святочной игре ряженых «Волки и овцы». Вот как это происходило в Тверской губернии:
Волком рядятся – шубу вывернут из овчины. Сперва приходит пастушка, как бы овец пасет. Тут вбегает «волк». Схватит девку – «овцу». Пастушка говорит: «Ой, овцу волк украл. Хорошая овца, породистая. С тем-то бараном гуляла, покрывши была». Здесь и «суд судили». В восточнославянских поверьях волк выступает как посредник между миром людей и силами других миров. Так, в народных представлениях он знается с нечистой силой, его происхождение, как упоминалось выше, связано с чертом. Волк противостоит человеку как нехристь: его, как и нечистую силу, отгоняют крестом. В некоторых местах считали, что волк боится колокольного звона. Период разгула волков совпадает со временем появления на земле нечистой силы – в Святки, и шире – с осеннего до весеннего Егория. Согласно русским поверьям, волков на скотину насылают колдуны. Сами колдуны, как считали на Русском Севере, могут превращаться в волков, а также оборачивать в них обычных людей. Культуре восточных славян известен также мифологический образ «волколака», или «волкодлака» – человека-оборотня, принимающего в определенное время года и по ночам облик волка. Вероятно, в древние времена обращение в волка воспринималось как наделение человека свойствами одного из наиболее могущественных и почитаемых зверей. Такой способностью наделялись только особые, «знающие», или «ведающие», люди – колдуны; возможно, оборотничество являлось необходимым элементом магических ритуалов. Подобное обращение когда-то могло быть приурочено и к свадьбе как одному из важнейших обрядов в жизни человека, именно тогда, когда он находится в самом расцвете жизненных сил. Как отмечалось выше, образ волка играл заметную роль в свадебной поэзии. Кроме того, среди русских крестьян Х1Х – начала ХХ веков были чрезвычайно популярны рассказы о превращении колдуном всех участников свадьбы в волков. На Вологодчине известен и рассказ о том, как занозивший лапу волк целый год приходил к мужику за помощью в лечении; но на второй год, когда мужик убивает волка, то обнаруживает, что под его шкурой – человек в кумачовой рубахе. Эти рассказы соотносятся с архаичными мифологическими представлениями о родстве представителей животного мира и мира людей, о животном как предке и покровителе человека. С изживанием язычества оборотничество в народно-православной среде стало восприниматься как свойство, присущее нечистой силе. Вместе с тем у белорусов и украинцев распространено поверье о том, что волки поедают чертей, чтобы те меньше плодились; русские казаки считали, что это волки делают по велению Бога.
Восприятие волка в народной традиции как посредника между людьми и силами иного мира проявляется в мотиве действий этого зверя по воле Бога или св. Егория. В известной легенде волк задирает по воле Божьей корову бедной вдовы – последнее, что у нее было для пропитания семьи. Узнав об этом, вдова смиренно сказала: «Бог дал, Бог и взял; его святая воля!» За доброту и смирение ей на том свете уготовано место, «где растут деревья чудесные, поют птицы райские». О разрешении свыше задирать скотину свидетельствует и широко распространенная у русских поговорка: «Что у волка в зубах, то Егорий дал». В народных представлениях св. Егорий считался хозяином и покровителем волков.
Восточнославянские поверья рисуют разные образы покровителей волков. Согласно одним, сохранившимся в Смоленском крае, хозяином всех волков был мифический белый волк. Подобные представления о необычном волке, белом или старом хромом, – князе над волками, – отразились в русской сказке: ежегодно собирает волков и распределяет между ними добычу на весь следующий сезон. По поверьям, распространенным на Русском Севере, волками повелевает леший. Диких зверей здесь называют собаками лешего, и он заботится о них – кормит их хлебом, показывает добычу. Но если нужно, леший может помочь пастуху – показать ему волков и тем самым спасти от них лошадей.
После принятия христианства место языческого покровителя скота Волоса (Велеса) занял св. Георгий, или Егорий, Юрий. Он же стал восприниматься и как покровитель и хозяин диких животных, в том числе и волков. У русских волка иногда так и называли «Юровой собакой». По народным поверьям, св. Его-рий ездит верхом на волке. А накануне своего праздника собирает всех волков и распределяет между ними добычу. У белорусов считали, что в день осеннего Юрия он «отмыкает волкам пасть» и распускает их до весеннего Юрия. А в этот день Юрий «замыкает им пасть» и разрешает есть только определенное количество скота. В связи с этим представлением в Гродненской губернии верили, что жеребенок, родившийся между весенним и осенним Юрием, не будет съеден волком.
В Рождественский пост, когда волки собираются в стаи и начинаются «волчьи свадьбы», о них говорят, что они бегают «артелью», и это в народе считается приметой начала зимы. В народных представлениях мифологизирована тема выведения волчицей потомства. По украинским поверьям, она приносит волчат лишь один раз в жизни, и там, где выводятся волчата, волк не делает вреда людям. На Гомельщине верят, что в год волчат выводится столько, сколько недель пришлось на период от Рождества до Великого поста.
В Святки, воспринимавшиеся в мифопоэтическом сознании как время формирования всего, что должно произойти в новом году, существовал запрет сновать нитки, который у украинцев объяснялся так: «чтобы волки не сновали возле хаты», – а также прясть – иначе «волк будет крутиться, как веретено, вокруг стада». В некоторых местах у восточнославянских народов до начала, а иногда до середины ХХ века сохранялись разнообразные запреты, связанные с исходящей от волков опасностью и приуроченные к календарным и суточным срокам, осмысляемым в народной традиции как временные границы. Так, во многих местах у русских существовал запрет выполнять какую бы то ни было работу в Егорьев день; крестьяне твердо были убеждены, что в случае нарушения запрета скот будет подвергаться нападениям волка и других диких зверей.

Иван-царевич на Сером волке. В. Васнецов (1889).
В Полесье считали, что после захода солнца нельзя передавать ткаческие орудия или приготовленную для тканья основу выносить из дома и переносить через пограничные места – через реку, за пределы села, – иначе на скот нападут волки. Если это было все же необходимо, то, чтобы «замкнуть волчьи пасти», на предметы навешивали и закрывали замок. У русских известен строжайший запрет выгонять скотину босиком, особенно в день первого выгона скота, обрядность которого была направлена на положительное программирование условий выпаса в течение всего сезона.
Многие запреты, обеспечивающие благополучие скота, связывались с внутрисемейной жизнью: так, с целью защиты от волков у украинцев не ели мясо по воскресеньям, а у белорусов этот же запрет относился к новобрачным и приурочивался ко второму дню свадьбы; на Харьковщине в последнюю ночь масленичной недели мужу и жене не дозволялась супружеская связь, иначе волки, по поверьям, могли зарезать в хозяйстве всех поросят.
Повсеместно был распространен запрет упоминать волка: особенно к ночи, а у белорусов – и во время еды. Упоминание волка, как и нечистой силы, по народным представлениям, накликает его появление, о чем свидетельствуют русские поговорки: «Про волка речь, а он навстречь», «Серого помянули, а серый здесь», «Сказал бы словечко, да волк недалечко». Возможно, с этим запретом связаны многочисленные табуированные названия волка, наиболее распространенные из которых – «серый», «кузьма», «зверь».
В качестве оберега от появления волка в Волынской губернии использовали голову загрызенной волками собаки: ее закапывали в дверях хлева. На Витебщине с такой головой совершали обход вокруг селения и затем вешали ее на забор. У всех восточных славян от волка, как от нечисти, втыкали нож в порог или стол. В Могилевской губернии также накрывали камень горшком и говорили: «Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока».
Многие защитные меры предпринимались в первый день сезона пастьбы. В районе Бреста при первом выгоне скота, для защиты его от волка, замыкали хлев на замок, а также хату, все сундуки и на целый день ключи отдавали пастуху. Повсеместно скотину хлестали освященной вербой, а перед стадом бросали яйцо – «чтобы заткнуть пасть волку». В западнорусских губерниях верили, что от волка скот может охранить первое яйцо от черной курицы, обнесенное вокруг пастбища и оставленное там. Магическое значение приписывалось и обрядовым текстам, приуроченным к дню св. Егория – песням и заговорам, обращенным к повелителям волков – лешему, св. Егорию.
При непосредственной встрече человека с волком в защитных целях традицией предписывались различные действия, которые иногда являлись прямо противоположными друг другу. Чаще всего в такой ситуации старались молчать и не двигаться, то есть притвориться мертвым. На Смоленщине же, наоборот, с волком вступали в контакт, стараясь скрыть боязнь громким приветствием: «Здравствуйте, молодцы!» На Гомельщине волку кланялись, вставали перед ним на колени. Во многих местах у восточных славян верили, что если волк первым увидит человека, то нападет на него, а если человек увидит зверя первым, то волк уйдет и не тронет. Как при встрече с нечистой силой, волка отвращали молитвой и крестным знамением.
Приметы, связанные с волком, традиционно могли иметь и положительное, и отрицательное толкование. Так, зверь, перебежавший дорогу путнику или бегущий мимо селения, предвещает удачу, счастье. В представлениях белорусов особенно удачной считалась встреча с «волчьей свадьбой», а также встреча с волком во время свадебного обряда. Так, в белорусском Полесье при отправлении на венчание для счастья пели:
Ой, вовче, вовчейко,
Перебежи дорожечку
Нашому молодому
На счастливую дорогу.
Плохие приметы связывались в основном с вторжением волка в человеческое пространство и резким увеличением количества хищников. Во Владимирской губернии верили, что забежавший в деревню волк является предвестником неурожая. По вологодским поверьям, множество волков сулит войну, они прокладывают свои тропы туда, где будет война. С воем волков около жилья во многих местах связывалось предвестие голода и мороза.
В культурной традиции восточных славян главенствующая роль среди диких зверей принадлежит медведю. Он считался полноправным хозяином леса, что отразилось в пословицах и поговорках русских: «Не прав медведь, что корову съел; не права корова, что в лес зашла», «Хозяин в дому, что медведь в бору: как хочет, так и ворочат». Объяснение подобного выделения медведя из ряда животных содержится в тех же фольклорных жанрах – пословицах и поговорках, отмечающих основной признак медведя – его силу: «Богатый силен, что медведь», «Не дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы!»
В отличие от волка, медведь считался чистым животным. По представлениям русских, нечистая сила не может принимать его облик. Более того, в Олонецкой губернии говорили, что «медведь от Бога». Идея божественности медведя звучит и в украинской легенде о происхождении медведей. В ней повествуется о том, что когда-то давно некий «старый дед» сделал человека богом, а затем – медведем, от которого пошли плодиться все медведи. Так, согласно этой легенде, первый медведь был богом. Вместе с тем здесь, как и в других этиологических легендах, прослеживается происхождение медведя от человека. Легенды Русского Севера, например, связывают появление медведей с детьми первых людей – Адама и Евы:
Ева и Адам детей своих прятали от Бога, боялись. Может, боялись, что придет и увидит, что много их. Кого в лес спрятали, тот медведем стал. От тех, что в землю спрятали, пошли всякие гады земные, а от тех, что в море – морские звери.
В других легендах повествуется о том, что Бог в наказание за грехи обратил людей в медведей. В Архангельской губернии это обращение связывалось с карой за убийство сыном своих родителей. Согласно некоторым легендарным сюжетам, в медведей были превращены жители деревни, не пустившие переночевать странника, то есть нарушившие предписанные традицией нормы поведения. У украинцев и белорусов также бытовали легенды об обращении в медведей злых людей. Вот как об этом рассказывается в херсонской легенде:
Как-то в старину странствовали по земле св. Петр и св. Павел. Случилось им проходить через деревню около моста. Злая жена и муж согласились испугать святых путников, надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте, и только апостолы стали сходить с моста – они выскочили им навстречу и заревели по-медвежьи. Тогда св. Петр и св. Павел сказали: «Щоб же вы ривили отныне и до веку!» С той самой поры и стали они медведями. В Олонецкой губернии была записана сказка, повествующая о превращении старика и старухи в медведей в наказание за честолюбие. Как в сюжете о рыбаке и рыбке, старик попросил у волшебной липы выполнить желания своей жены: сначала много дров, затем много хлеба. Но старухе все казалось мало, и она попросила, чтобы люди боялись ее и старика. Возвратившись домой, старик споткнулся о порог, упал и превратился в медведя. Увидев его, старуха испугалась, тоже упала и стала медведицей. От них и пошли все медведи.
Представления о человеческом происхождении медведя находят отражение в поверьях. Повсеместно у восточных славян верили, что раньше медведь был человеком: ведь он, как люди, ест хлеб и любит водку, у него нет хвоста, как у других зверей; он ходит на задних лапах и может плясать. Считается, что если с медведя снять шкуру, то он совсем такой же, как человек: у него и глаза человечьи, и лапы с пальцами, как ноги и руки у человека; самец выглядит, как мужчина, а медведица, как женщина, имеет грудь. По народным поверьям, медведь любит и нянчит своих детей, он стремится, чтобы у медвежат было человеческое воспитание. В представлениях крестьян он наделяется человеческими качествами: он может радоваться и горевать, как люди, понимает человеческую речь и сам иногда говорит, наделен разумом. В Олонецкой губернии охотники объединяли медведя с человеком по признаку того, что на них обоих собаки лают одинаково и не так, как на других существ.
У восточных славян был распространен запрет есть медвежатину, что объясняется представлениями о человеческом происхождении медведя. На Русском Севере полагали, что и медведю не велено есть человека, и если он нападает на человека, то только по указанию Бога, в наказание за совершенный грех.
У русских широко бытовало представление о том, что медведь уводит к себе женщин, чтобы жить с ними. Это представление нашло отражение не только в поверьях, но и в сказках.
Как представитель природного мира медведь, согласно поверьям, знается с нечистой силой, и ему приписываются близкие родственные связи с лешим. В народе говорили, что «медведь лешему родной брат». Иногда медведя самого называют «лешаком» или «лесным чертом». В некоторых местностях лешего считали хозяином медведей, как и других лесных зверей. Вместе с тем, по поверьям, нечистая сила боится медведя. Так, в новгородском мифологическом рассказе повествуется о том, как «риж-ный» – мифологическое существо, обитающее в риге, – напуганный медведем, уходит, оставляя хозяину клад.
В некоторых местах у русских встречаются представления об оборотнях-медведях – колдунах, принимающих медвежий облик, и о людях, обращенных в это животное колдунами. Так, широко распространены рассказы о том, как колдун обернул медведями целую свадьбу; о медведице, под шкурой которой охотники обнаружили женщину в сарафане; о том, как в убитой медведице родственники узнали пропавшую некогда невесту или сваху.
В традиционном сознании медведю приписывались защитные функции в области скотоводства. У русских для оберега скота от проделок чужого или своего, но злого домового в конюшне вешали медвежью голову. Во Владимирской губернии в хлев приводили живого медведя, если сильно шалил домовой. На Харьковщине сам домовой, по поверьям, мог иметь облик медведя и заботиться о скотине. В случае падежа скота в некоторых местностях при совершении обряда опахивания селения носили с собой медвежью голову.
Вывешивание черепа, когтей и шерсти медведя в хлеву, по народным представлениям, обеспечивало не только оберег, но и плодовитость скота. На достижение хорошего приплода скотины был направлен также обряд, совершаемый в некоторых местах в Иванов день, когда, согласно крестьянскому сознанию, все силы природы достигали своего апогея. Хозяин до восхода солнца отправлялся на скотный двор и ходил там с медвежьей головой между домашними животными, после чего закапывал ее посреди двора. С той же целью – чтобы скот хорошо плодился – следовало слегка поцарапать коровье вымя лапой медведя. У русских известен также обряд вождения медведя вокруг деревни, направленный на очищение полей и, соответственно, на обеспечение хорошего урожая.
Образ медведя в традиционной культуре наделялся продуцирующей силой, что отразилось не только в приемах хозяйственной магии, но и в лечебной практике, а также в обычае ряженья. В Новгородской губернии существовало представление о том, что женщина излечится от бесплодия, если через нее переступит прирученный медведь. С идеей плодородия связан обычай рядиться медведем во время свадьбы и в Святки. На святочных игрищах чаще всего ряженный медведем по просьбе «поводыря» показывал всем присутствующим, как люди выполняют те или иные виды работы, а заключительным «номером» обычно была демонстрация того, «как девушек целуют»: «медведь» начинал бегать по избе, ловить и обнимать всех девиц по очереди.
Совершенно естественно, что при таком значении образа медведя ему в традиционной культуре приписывалась брачная символика. У русских, например, приснившийся девушке медведь сулил ей жениха и замужество. Если во время подблюдных гаданий девушка вытаскивала из блюда свое колечко под песню, в которой упоминается медведь, это означало, что она выйдет в текущем году замуж. Вот две из подблюдных песен, предвещающих свадьбу:
Медведь-пыхтун
По реке плывет;
Кому пыхнет во двор,
Тому зять в терем.
Или калужская песня:
Сидит медведь за ступою,
Кричит медведь: «Пощупаю!»
Они предрекают брачные отношения, или, как объясняют местные жители, «годы медовые». В Витебской губернии существовало поверье, что если приведенный в дом прирученный медведь заревет посреди хаты, то, значит, скоро здесь будут петь свадебные песни и состоится свадьба.
В мифопоэтических текстах образ медведя часто выступает как символ жениха. Так, в свадьбе на Смоленщине и в Белоруссии при подъезде свадебного поезда к дому невесты пели:
Мядведнник идет, мядведя вядет.
А хадитя, дети, мядведя глядеть!
А наш жа мядведь гудеть и ряветь,
Гудеть и ряветь и в избу няйдеть.
Соотнесение образа медведя с женихом очевидно в белорусской пословице: «Чем медведь космаче, тем жених богаче».
В русской свадьбе образ медведя мог связываться с родителями жениха: встречая молодых от венца, мать жениха одевала вывернутую мехом наружу шубу, и этот обычай в некоторых местах назывался «стращать молодую». По признаку принадлежности к чужому роду «медведем» могли называть в свадебных песнях и саму невесту. В Пермской губернии, например, по приезде новобрачных из церкви после венчания пели:
Увозят молоду на чужую сторону <…>
Что свекор говорит: «Нам медведя везут!»
В Рязанской и Нижегородской губерниях на свадебном пиру молодых заставляли целоваться, крича: «Медведь в углу!» Невеста должна была ответить, назвав имя мужа: «Петра Иваныча люблю», – и поцеловать его.
Мужская символика медведя и мотив его главенства нашли отражение в святочных обрядовых песнях – колядках, где звучало величание хозяина дома и сравнение его с хозяином леса:
Хозяин в дому
Что медведь в бору;
Хозяюшка в дому,
Что оладья в меду.
С медведем у восточных славян связывались разнообразные приметы и поверья. Встреча с медведем в дороге считалась хорошим предзнаменованием и сулила удачу. По поверьям русских в Сибири, медведь ложится в берлогу точно на Воздвиженье (14/ 27 ноября), когда, согласно традиционным представлениям, закрывается на зиму земля и многие земные животные устремляются внутрь земли, чтобы не погибнуть. Среди зимы – на Спиридона-солнцеворота (12/25 декабря), а в некоторых местных традициях на Ксению-полузимницу (24 января/06 февраля) – медведь поворачивается в берлоге на другой бок, а встает из своего зимнего укрытия в Благовещенье. Этот день осмыслялся крестьянами как один из основных сроков поворота холодного времени года к теплому, когда «оживала» и «открывалась» земля, выпуская наружу разную живность. У белорусов к выходу медведя из берлоги приурочивался обряд под названием «комоедица»: накануне Благовещенья крестьяне готовили и ели медвежьи лакомства: «комы» – оладьи из гороха, овсяный кисель и сушеную ботву репы, а после трапезы, имитируя просыпание медведя, медленно и долго перекатывались с боку на бок. По народным представлениям, это способствовало облегчению выхода медведей из берлоги.