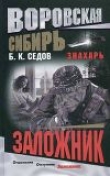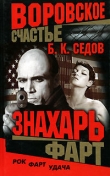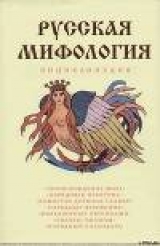
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 50 страниц)
Пчела повсеместно у славян воспринималась как «чистая», Божья тварь и была одним из наиболее почитаемых существ. Распространенные в традиционной культуре определения пчелы – «Божья угодница», «Богова», «святая» – связаны с наделением ее признаком сакральности в рамках как христианских, так и языческих представлений. Чаще всего народное восприятие пчелы как священного существа сводится к объяснению в христианской огласовке: она доставляет воск на свечи, «воск употребляется в богослужении, как вещь особенно чистая и приятная Божеству»; без пчелы, по убеждению народа, «не могла бы совершиться обедня». На Русском Севере и в Белоруссии на Пасху в ульи клали кусочек воска от освященной пасхальной свечи, чтобы пчелы, как и люди, радовались празднику. У украинцев даже было принято христосоваться с пчелами, приветствуя их возгласом: «Xристос воскресе!»
О пчеле в народе никогда не говорят, что она сдохла, а говорят – «умерла», как о человеке. Такое отношение в значительной мере определяется поверьями о душе в облике пчелы, распространенными у русских. С подобными поверьями отчасти соотносится роль пчел как предвестниц смерти в толкованиях снов.
Представление о божественной сущности пчелы нашло отражение в ряде поверий, в которых через отрицательное отношение пчелы к тем или иным качествам человека манифестируются нормы поведения, принятые в традиции. Так, в народе верили, что пчела жалит только грешника. В одной из обнаруженных в конце XIX века в Казанской губернии рукописных книг, которые обычно передавались от одного пчеловода к другому, отмечены следующие категории людей и явления, которые «пчела ненавидит»: «Ненавижу воеводу распаливого, мужа ленивого, жену сонливу, от врага лукавого девицу, язык страмноглаго-лив, душу погубляя». С божественной природой пчел связано также представление о том, что в улей с пчелами не бьет гром.
По народным представлениям, пчелы своим происхождением обязаны Богу. И иногда в поверьях жизнь на земле ставится в зависимость от существования пчел: когда все пчелы изведутся, наступит конец света. В этиологических легендах о пчелах нередко звучит мотив соперничества Бога и дьявола. Так, севернорусская легенда повествует о том, что дьявол, желая сотворить таких же пчел, каких создал Бог, сделал земляных пчел – шмелей, мед которых ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.
Важными для характеристики образа пчелы являются мифо-поэтические представления о ее «иностороннем» происхождении: по одним сказаниям свв. Зосима и Савватий вынесли пчел из горы, по другим – из какой-то идольской страны, по третьим – даже из рая. В легенде, записанной в Черниговской губернии, упоминается, что до рождения святых угодников Зосимы и Савватия «были времена, когда в России пчел не было, а водились они только в чужеземной стороне; жили они в скалах, не выпускали роев и не распространялись по всему свету». В легенде о происхождении пчел, бытовавшей в Казанской губернии в рукописном виде, «сила пчелиная» «в святорусскую землю, в темные леса, в угодные древа и к православным христианам» пригоняется архангелом Гавриилом с помощью Духа Святого из «горы папоримской», находящейся в «земле Римской». У русских была также распространена легенда о происхождении пчел из мертвой лошади: «знахари полагают, что все пчелы первоначально отроились от лошади, заезженной водяным дедушкой и брошенной в болото. Когда рыболовы опустили невода в это болото, то, вместо рыбы, вытащили улей с пчелами. От этого улья развелись пчелы по всему свету».
Очевидно, что в этих легендах в качестве исконного местонахождения пчел выступают по большей части пространственные объекты, относящиеся в мифологической картине мира к «верхнему» или «нижнему» мирам. Кроме того, в названиях этих мест содержатся значимые для традиционного сознания оценочные характеристики, осмысляемые как положительные, светлые (рай) или как отрицательные, чуждые, темные, опасные (идольская страна, чужеземная сторона, папоримская гора и Римская земля, противопоставленные в народном восприятии православному миру).
В других фольклорных жанрах встречается также мотив появления пчел, отражающий мифопоэтические представления о распределении мирового пространства не по вертикали, а по горизонтали. Так, например, в смоленской волочебной песне пространственные объекты указывают прежде всего на удаленность места, откуда прилетают пчелы:
З-за лесу черного,
Засылай, боже, святой Зосим!
З-за бору з-за щирого,
З-за моря з-за синего
Выходила туча темная, —
То не туча, то й не облачина.
Что у той тучи тихо говорила,
Говорила пчелиная мати:
«Ай вы пчелы, пчелы ярые <…>
Куда идете, куда пойдете?..»
Несмотря на разнообразие, все варианты обозначения начальной локальной закрепленности пчел свидетельствуют об однозначном восприятии в народном сознании их появления из «иного» мира, независимо от того, каким он представлялся носителю традиции. Мотив возникновения пчелы из мертвого животного или из «иного» мира отражает универсальную для традиционной культуры идею вечного круговорота жизни. В этом же смысле показательно, что в раннехристианском искусстве пчела символизировала восставшего из смерти Xриста, бессмертие.
Именно «иносторонность» происхождения пчелы обусловливает такой ее признак, как сакральность. Отсюда народные поверья о том, что если у кого ведутся пчелы, то это знак особенной милости Божьей к человеку. По мнению народа, убить пчелу – грех, а воровство пчелиных ульев-колодок равно святотатству.
Причастность пчелы к божественному началу реализуется также в представлениях о ее деятельности как имеющей творческий характер. Так, старообрядцы Нижегородской области до сих пор считают, что пчела «Богова» потому, что она, в отличие от других животных, трудится. В заговорах работа пчелы соотносится с деятельностью Творца через мотив заполненности пространства, где улей уподобляется миру: «Как небесная высота и земная широта совершенна, так бы и мои пчелы, Божьи пташки, ульи исполняли и совершали меды густые и святые со всех цветов и с разных полей и чужих пасек несли и волокли в свои ульи и пасеку, аминь».
Связь пчелы с Богом просматривается и в народных поверьях о том, что ежегодное зарождение пчелиных роев происходит не само собой, а по промыслу Божию. Это представление нашло отражение в многочисленных заговорах, произносимых пчеловодами 9 декабря (по ст. ст.) – в день, когда церковь вспоминает о зачатии св. Анной Богородицы: «от сего дня начали прибывать не собою, но от самого Бога Саваофа, Отца и Сына и Святого Духа и Пречистыя Богородицы и всех святых».
Сакральная природа пчелы обусловливает закономерность соотнесения этого образа в мифопоэтическом сознании с библейскими персонажами – св. Анной и Богородицей. Это, в частности, прослеживается в назывании пчелиной матки в украинских и белорусских заговорах «Марией» или «Марьяской», а также в приуроченности пчеловодческих обрядов к дням зачатия св. Анной Богородицы и Благовещенья. Например, для обеспечения роения пчеловоду следовало на «Аннино зачатие» прийти на пасеку рано утром, потрогать каждый улей и произнести: «Свирдин и Свирдина! Анна зачала панну Пресвятую Богородицу, но не сама от себя, а от Духа Свята, так и вы, мои пчелы, зачинайте дело во имя Божие, частые рои, густые меды Господу Богу на хвалу, а мне рабу Божию (имярек) на пожиток». В заговорах такого типа пчела соотносится со св. Анной и Богородицей с помощью поэтического приема параллелизма.
Важной датой в пчеловодстве считалось и Благовещенье. В этот день для удачной работы пчел владелец пасеки, растирая пасхальную просфору и саму пасху, произносил: «Господи, Твор-че неба и земли и вся твари видимыя и невидимыя, как послал еси святаго Архангела Гавриила к деве Марии благовестити зачатие Сына Божия и сим исполнил небеса радостию и веселием, так пошли, Господи, угодника Твоего преподобнаго Зосима пчелам, и изобилие от росы небесныя, от влаги земныя, от всех дерев и зелий цветущих, дабы они собирали мед и воск с радостию и веселием Тебе, Господи, на хвалу, а мне рабу Твоему (имярек) на по-житок». Для русских территорий Благовещенье – 25 марта (7 апреля) – довольно ранний срок для выставления ульев на улицу. Вместе с тем в Костромской губернии существовала примета: кто его соблюдет, у того весь год будет удача; поэтому многие пчеловоды старались перенести на пасеку в этот день хотя бы один улей.
Связь образов пчелы и Богородицы характерна не только для заговоров. В текстах веснянок пчела и «Мати Пречистая» выполняют одну и ту же функцию – отпирают весну:
Ты пчелочка ярая,
Ты вылети из-за моря,
Ты вынеси ключики,
Ключи золотые,
Отомкни летечко,
Замкни зимушку.
Таким образом, пчелы оказываются вестницами весны.
В традиционной культуре очень ярко выражена женская символика пчелы. В русской жатвенной песне, например, пчела – является символом девушки:
Как летала ярая пчелка
Да по чистому полю <…>
Ой, искала ярая пчелка медовое судёнце <…>
Ой, гуляла красна девка
Да по чистому полю <…>
Ой, искала красная девка
Себе родного батьку.
В мифопоэтических представлениях образ пчелы связывается с женским началом, основным признаком которого является материнство. Вместе с тем пчеле приписываются также признаки невинности и чистоты, связанные с идеей непорочного зачатия и сближающие в этом плане с образами св. Анны и Богородицы. Тема непорочного зачатия пчелы прослеживается в загадке: «Без отца рождена, без матери жить не может». Народное представление о чистоте пчелы охватывает широкий спектр значений: это и физическая, и нравственная чистота. Так, по мнению крестьян, пчела чистоту любит, и ее в чистоте «пуще всего держать надо»; кроме того, пчелы любят вестись у хозяев, которые «за чистотой наблюдают», а грешных людей не любят. Поэтому широко распространено мнение, что пчелы лучше ведутся у стариков: «тем грешить неколи, сидят да Богу молятся, а пчела – Божья, она это любит».
Соединение признаков чистоты и материнства, связь с Богом, а также другие качества пчелы, касающиеся особенностей ее работы, особенно ярко представлены в жанре загадки. Здесь они чаще всего демонстрируются через сравнение пчелы с женскими социовозрастными категориями в крестьянской общине. Особый – исключительный – характер женского начала в образе пчелы подчеркивается отличием ее от какого бы то ни было статуса женщины при полной реализации всех жизненных женских задач и работ: «Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена: детей водит, людей питает, дары Богу приносит». В этом же ключе обычно подчеркивается безгрешность, непорочность пчелы: «Ни солдатка, ни вдова, ни замужняя жена: много деток уродила, Богу угодила». Мотив безбрачия пчелы, ее близость к Богу и созидательное начало отражаются в использовании в загадках образов «чернички» (старой девы по своей воле) и старухи, статус которых также отмечен признаками непорочности и чистоты: «В тесной избушке ткут холсты старушки» и «Сидят чернички в темной темничке, вяжут вязеночки, без иглы, без ниточки».
Работа пчелы в народных представлениях идеализировалась. В загадках эта особенность раскрывается разными способами. Это, например, мотив необычности ее труда: «Сидит девица в темной темнице, вяжет узор, ни петлей, ни узлом»; в ином тексте вязание происходит «без иглы, без ниточки». Другой чертой труда пчелы является его избыточность, что выделяет пчелу из всех: «И на себя, и на людей, и на Бога трудится». Кроме того, определяющей эти особенности оказывается такая характеристика пчелы, как наделенность ее знанием-мудростью: «Одной пчеле Бог сроду науку открыл».
В народном сознании пчела наделялась особым умом. Так, в связи с вопросом о сроках выпускания пчел после зимовки один из костромских пчеловодов отметил: «Когда пчелы запросятся, потому пчела животная умная – сама знает, когда ей на волю пора. Человеку у ней поучиться можно, не тошто – што!» В волынском Полесье пчелу даже называли «Божа мудрость».
Приписываемые образу пчелы в традиционной культуре признаки идеальности и обладания исключительным знанием, несомненно, соотносятся с издавна подмеченной высокой степенью «организованности» пчел, а также особенностями создаваемых ими меда и сот. Так, структура пчелиных сот, по народным представлениям, характеризуется тем, что их ячейки при пересечении образуют подобие креста, в отличие от сот водяного, которые тот опускает в улей пчеловода, принесшего ему жертву. В последних ячейки, расположенные одна за другой, образуют общую трубку. Кроме того, мед от пчел, которых напускает водяной, считается плохим на вкус и не очень сладким.
В традиционной культуре образ пчелы нередко имеет эротическую символику. Так, например, во вьюнишных песнях ярые пчелы являются элементом образа дерева «с тремя угодами»:
Уж как первая угода —
Соловей гнезда вьет
, Соловей гнезда вьет,
Малых детонек взведет.
Как вторая угода —
Белояры пчелы,
Белояры пчелы
Сладкий мед несли,
Сладкий мед несли
Ко вьюнцу-молодцу,
Ко вьюнцу-молодцу
Со обручной со своей. <…>
Ох, уж как третья угода —
Есть тесовая кровать,
Ножки точеные,
Позолоченные.
Ох, на кроватке тесовой
Лежит перина пухова,
Ох, на перине пуховой
Лежит подушка парчева,
Ох, на подушке парчевой
Лежит вьюнец-молодец,
Ох, вьюнец-молодец
Со обручной со своей
Очевидно, что приношение пчелами меда символизирует сближение «вьюнца» с его «обручной». Показательно в этом плане традиционное название первого месяца супружества – «медовый месяц». У белорусов сон молодой женщины о пчелином укусе предвещает ей беременность. С эротической символикой пчел связан полесский свадебный обычай, согласно которому отец жениха в случае «честности» невесты выдирал всех пчел возле своего дома и в первую очередь угощал медом родителей невесты. В этой же связи следует отметить, что постоянный в фольклорных текстах эпитет пчел – «ярые» – является словом с тем же корнем, что и имя славянского божества весеннего плодородия Ярилы.
В мифопоэтических представлениях и текстах пчела выполняет роль посредника, что объясняется представлениями о ее «иностороннем» происхождении. В веснянках, как уже упоминалось выше, пчела приносит из-за моря ключи для отмыкания весны.
Довольно отчетливо посредничество пчелы между мирами проявляется и в толкованиях снов. Так, в Краснодарском крае считали, что если во сне приснятся пчелы, то кто-то должен умереть.
Отмеченные представления о пчеле – непорочность, созида-тельность, мудрость, идеальность и, следовательно, божественность, а также ее посредничество – обусловливают соответствующие характеристики и символическое значение в традиционной культуре продуктов ее труда – воска и меда. Отсюда также широкое применение их в обрядовой сфере.
Воск, например, нередко выполнял функцию посредника в практике гаданий. Во время Святок растопленный воск выливали в воду и по застывшему изображению судили о будущем. После крещения ребенка гадали о его судьбе, для чего закатывали в воск его волосы и бросали в воду, при этом смотрели: если воск утонет, то считали, что жизнь ребенка будет недолгой. Гадание с воском использовалось и в пчеловодческой практике: «Когда на пасеке какое-нибудь несчастье, то можно узнать виновника его. Для этого берут из поврежденных ульев воску и растопленный воск льют в воду. Выльется либо сам виновник, либо какая-нибудь вещь, по которой можно его узнать»; чтобы наказать виновного, «лепят из воску куклу, пишут на ней имя человека и кладут под престол на сорок дней или поминают за упокой сорок обеден. Оригиналу воскового изображения тогда будет так тошно, что он сам придет и покается во всем». Общеизвестно также широкое использование огарков венчальных, четверговых, пасхальных свечей как продуцирующих и лечебных средств в различных обрядах и критических ситуациях.
Большое значение в обрядовой практике принадлежало и меду. Его употребляли в чистом виде, а также в составе ритуальных блюд и напитков. На особую значимость меда указывает то, что блюда из него подавали в начале или в конце обрядового застолья. Ярким примером этого может служить кутья, вкушаемая прежде других блюд в рождественский сочельник и на поминках. В тверской свадебной традиции по приезде молодых от венца им сразу же подавали чистый мед, который они ели из одной ложки. «Разгонным» блюдом в свадебных застольях считались блины с дыркой посередине, куда наливали мед. Последним блюдом поминального стола являлась медовая сыта – разбавленный водой мед. Как акт «кормления» и общения с предками осмыслялся обряд поливания могил медом, приуроченный к дням Пасхальной и Фоминой недель.
В свете рассмотренных представлений о пчеле и меде закономерно закрепление за последними символики богатства и благополучия. Так, «в старину невесте, отправляющейся в церковь, клали в карман денег, кусок хлеба и сот. Чтобы богато и сладко жилось» Что же касается создательницы меда, то можно вспомнить поверье о том, что пчелиный рой, залетевший в чужой двор, сулит хозяину этого дома счастье.
Покровителем пчел считался водяной. Повсеместно известен обычай ставить пасеку у реки. В ночь на Преображение Господне некоторые пчеловоды приносили водяному жертву – бросали в пруд или болото свежий мед и воск, понемногу из каждого улья, топили в мешке первый рой или свой лучший улей. В награду, согласно поверьям, водяной оберегал пчел. Роль водяного как покровителя пчел унаследовали русские святые Зосима и Савватий. Они же считались покровителями пчеловодов. В дни памяти этих святых (17/30 апреля и 27 сентября/10 октября) пасечник вынимал соты из улья и в полночь погружал мед в воду, произнося специальный заговор с обращением к ним, чтобы обеспечить хороший принос меда в следующем сезоне. На Благовещенье, в Вербное воскресенье или на Пасху пчеловоды высекали на пасеке огонь из «громовой стрелки» и зажигали им ладан для окуривания ульев и свечу перед иконой Зосимы и Савватия.
Пчеловодство являлось довольно замкнутой «профессиональной» сферой деятельности крестьян, соотносимой с колдовством или знахарством. По представлениям народа, пчеловоды обладали особым магическим знанием, включающим владение приемами обхождения с пчелами, заговорное мастерство, следование обычаям и соблюдение запретов.
Поскольку пчелы, согласно поверьям, ниспосланы человеку Богом, то лучшим способом их приобретения считался самостоятельный прилет роя к хозяину, случайная его находка или получение в дар, особенно от незнакомого человека. В народе верили, что пчелы не любят скупых и ведутся только у щедрых людей. Для обеспечения благополучия в ведении пчел существовал обычай весь первый воск, а также часть ежегодно получаемого воска безвозмездно отдавать в церковь. Чтобы рои не улетали, пчеловоды старались соблюдать запреты: «ни с кем не вздорить, не пить вина и не спать с женой». Существовал также запрет продавать пчел: крестьяне твердо верили, что пчел можно только дарить. В противном случае, как полагали, пчелы переведутся. Поэтому обычно продавали какой-нибудь пустяковый предмет, а «в придачу» давали пчел. Если продажа пчел расценивалась как неблаговидное, богопротивное дело, то кража их считалась особо тяжким грехом.
По представлениям белорусов, пчелы сближают пасечников, причем это сближение имеет характер духовного родства.
В народной культуре лягушка и жаба считались нечистыми животными и входили в разряд гадов, имеющих, согласно древним представлениям, хтоническую природу, то есть причастность к подземному миру. В некоторых местах у восточных славян лягушке и жабе приписывали родственные отношения со змеей и другими гадами. Так, в Полесье жабу считали матерью ужа, а также верили, что она играет с ужом как жена с мужем и спаривается с ним.
Вместе с тем происхождение лягушки очень часто возводили к человеку. По представлениям псковичей и жителей Вологодской и Архангельской губерний, все лягушки – обращенные некогда люди. В Нижегородской губернии бытовала легенда о том, что первая лягушка была душою младенца, когда-то проклятого матерью. По некоторым легендам, их происхождение связывают с людьми, утонувшими во времена всемирного потопа. Еще одна легенда, явно заимствованная славянской традицией, но закрепившаяся в некоторых местностях, гласит о том, что войско фараона, преследовавшее евреев во время их исхода из Египта и потопленное в водах Чермного моря, превратилось в лягушек, которых поэтому называют «фараонами». И до сих пор будто бы у самок-лягушек длинные волосы и женская грудь, а у самцов – борода. Придет время, когда они вновь станут людьми, а люди, ныне живущие, превратятся в лягушек. Поэтому бить лягушек и жаб – грех.
«Человеческие» признаки лягушки настойчиво подчеркиваются в загадках о ней:
Выпуча глаза сидит
по-французски говорит,
По-блошьи прыгает,
по-человечьи плавает.
Или:
Сидит Матрена на мокрёна,
Не говорит – еще терпима,
А как речь начнет,
Все досада возьмет.
При этом в традиционных представлениях лягушка чаще всего соотносится не с человеком вообще, а конкретно с женщиной. Из-за сходства лягушачьих лап с человеческими руками украинцы считают, что лягушка в прошлом была женщиной. Связь образа лягушки с женщиной обнаруживается в народной речи в сравнении: «Баба, что жаба», – а также в распространенном экспрессивном назывании злой женщины «жабой». Эта связь прослеживается в приметах. Белорусы, например, верили, что если в Новый год, на Рождество в дом первой придет женщина, то весь год в хате будут жабы. В толкованиях снов лягушка символизировала для парня девушку, а для женщины – подругу. На Ви-тебщине, если у рыбака неудачной оказывалась ловля или в сети попадались одни лягушки, подозревали, что через его невод перешагнула женщина в период месячных очищений, и, следовательно, «нечистая».
В образе лягушки, согласно народным представлениям, ярко выражено материнское начало. «Материнство» лягушки закрепилось, в частности, в устойчивых словосочетаниях русских и украинцев типа «лягушка-матка», «жаба-матка». У всех восточных славян отмечены поверья о том, что если убить лягушку, то умрет мать. У украинцев есть легенда о брюхатой жабе, которая встречается на дороге с бабой-пупорезкой, и та оказывает ей помощь, перенося через дорогу, за что жаба одаривает женщину волшебным, никогда не заканчивающимся полотном. В другой легенде жаба дает повитухе за помощь ей в родах полотно, внутри которого сидит живая лягушка и ткет его.
Образ лягушки – один из самых распространенных в восточнославянской вышивке, украшающей предметы убранства жилища – полотенца, подзоры и детали женского костюма – подолы рубах, головные уборы. Причем особенностью этих изображений является выделенность «утробы» лягушки с помощью цвета, сочетания разнофактурной вышивки бисером, бусинами, резаным перламутром. Таким образом, лягушка соотносится конкретно с утробой как местом вынашивания потомства. Человеческая утроба может восприниматься в народном сознании как место рождения лягушек. Так, по украинским представлениям, если выпить настой из сушеной лягушки, то внутри зародятся лягушата. В Вятской губернии существовала легенда о том, что в старые времена одна беременная женщина прокляла своего младенца, находящегося еще в утробе, и родила лягушку. Эта легенда соотносится с известным сказочным мотивом наговора на молодую царицу в том, что она родила не ребенка, а лягушку. Этот мотив был использован А. С. Пушкиным в «Сказке о царе Салтане».
Кроме признака объемности утробу и лягушку объединяет их хтоническая природа. Если хтоническая природа лягушки ясна, то соотнесение утробы с подземным миром восстанавливается согласно представлениям о появлении детей из «иного» мира, – мира, который расположен под землей. Потусторонняя природа женской утробы прослеживается в ее народном названии «золотник»: в традиционном сознании золото выступало как признак «иного» мира. Кроме того, в культурах европейских народов, в том числе и у славян, существовали представления о женской матке как лягушке. Так, соседи восточных славян – литовцы считали, что «матка в животе бабы живая, в виде лягушки». В Баварии верили, что матка в виде жабы вылезает изо рта больной женщины во время сна, чтобы выкупаться, и если к пробуждению она вернется на свое место, то больная выздоровеет. Если же женщина после выхода матки закроет рот, то матка не сможет вернуться, и тогда женщина останется бесплодной. Способность матки передвигаться вне женского тела отражена в белорусских заговорах «на легкие роды»: «Золотник-золотнич-ку, упрошаю цябе: по животу ня ходзи, живота-серця ня тошни; идзи на мора; там табе погуляць и у моей косьци не стояць» У многих славянских народов делали железные и восковые изображения матки в форме жабы и по обету приносили в храм для излечения бесплодия.
Таким образом, лягушка в народных представлениях связывалась с идеей деторождения. Это естественно, так как у многих народов это животное являлось символом многоплодности. Не случайно изображения ляшки вышивались на подзорах свадебных простыней и на головных уборах, которые молодые женщины носили только первые годы замужества, до рождения первого или второго ребенка. Показательно, что на материале русской вышивки лягушка, как сама Земля, выступает как абстрактный символ порождающего начала: в «утробе» лягушки зачастую изображаются образы птиц, цветов, людей. Взаимосвязь этого животного с деторождением обусловила известный у восточных славян обычай есть жаб для излечения от бесплодия. Здесь же следует упомянуть о народной примете, согласно которой приснившаяся жаба предвещает беременность и даже, более конкретно, – рождение девочки, что еще раз свидетельствует о женской символике лягушки.
Своеобразная связь лягушки с деторождением прослеживается в назывании в украинском языке жабы и растения «дето-родник» одним словом – «короста», «коростовка». В Вятской губернии подобная связь, но со знаком минус, обнаруживается в представлениях о свойствах травы «лягушачья лапа»: сколько отростков корня этой травы съест женщина, столько лет у нее не будет детей, если съесть весь корень, то детей не будет совсем.
Способность лягушки раздуваться внешне соотносит ее образ с беременной женщиной. Эта соотнесенность проявляется также в народных приметах: если во время беременности женщина с испугом наступит на лягушку, у ребенка на теле будет пятно, похожее на лягушку. Кроме того, у русских пятна, которые появляются на лице женщины в период беременности, тоже называются «лягушки».
Символика «материнства» лягушки отчасти подтверждается тесной связью этого животного с молоком. Украинцы, например, даже причисляли лягушек к животным, дающим молоко. У русских широко были распространены представления о лягушках-коровницах, высасывающих молоко у коров. У белорусов лягушек кидали в молоко, чтобы оно было холодным и «не осело». Общеизвестны также представления, что во время грозы молоко не скиснет, если в него успеть посадить лягушку. Если в тело человека через рот попадала лягушка, то наиболее действенным способом ее извлечения оттуда считалось выманивание с помощью молока.
В фольклоре и магической практике образ лягушки нередко наделялся и любовно-брачной символикой. Так, в сказке «Царевна-лягушка» героиня-невеста наделяется обликом этого неприглядного животного. В русской легенде «Ночные видения» странник ночью видит в спальне у счастливых супругов лягушку, которая перепрыгивает с одного на другого, что символизирует супружескую любовь и лад в семье. В свадебной обрядности словаков, граничащих с восточными славянами, существовал ритуальный танец «жабска», имитирующий спаривание лягушек. У них же пекли свадебный калач «радостник» с изображением молодоженов и лягушки.
Обычные лягушки повсеместно у русских использовались в любовной магии. В Вятской губернии, чтобы приворожить к себе предмет любви, ловили пару скрестившихся лягушек и сажали в муравейник, позже доставали оттуда оставшиеся косточки в виде петельки и крючка, который зацепляли на одежде возлюбленного. В Ярославской губернии старая дева, чтобы выйти замуж, находила в болоте лягушку и старалась сесть на нее голым телом.
Хтоническая природа лягушки объясняет представления о ее связи с землей и водой. По народным поверьям, убиение лягушки способно вызвать дождь. Причину засухи восточные славяне видели в том, что лягушка закрывает источник влаги. Чтобы пошел дождь, жители Полесья, а также русские во многих местностях убивали лягушек, нанизывали их на нитку и вешали на куст, что, по народным представлениям, должно было обеспечить открывание источника небесных вод. В Оренбуржье вплоть до 1950-х годов дождь вызывали, разрубая лягушку и зарывая ее кверху животом в землю. Повсеместно существовала примета, что весной лягушки начинают квакать перед первым громом и, соответственно, – первым дождем.
У восточных славян до сих пор бытуют рассказы о том, что лягушка может впрыгнуть в рот спящему человеку и войти в живот. Там она, по поверьям, растет особенно быстро и сильно сушит человека, доводя его до «сухоты». В одном из вариантов сказки «Царевна-лягушка» лягушка является хранительницей источника «сильной» воды, которую дает герою для обретения физической силы. Связь лягушки с водой в этой же сказке проявляется в том, что прибытие героини на царский пир сопровождается грозой с громом, молнией и сильнейшим ливнем.
Восточные славяне видели в лягушке домашнего покровителя, а также верили, что домовой может появляться в облике этого животного. На Брянщине лягушку называли «дворовой» и были убеждены, что тот, кто ее прогонит от дома или убьет, умрет сам.
«Нечистота» лягушки как особенность существа хтоничес-кой природы обусловливает приписывание ей в народной традиции демонологических свойств. Очень часто лягушки соотносились с колдуньями, ворующими молоко чужих коров. Повсеместно у русских были распространены поверья об обращении ведьм в особых лягушек – коровниц, дворовых, высасывающих у коров молоко. В Ярославской губернии существовало предание о том, что проклятая родителями или некрещеная девушка превращается в лягушку-коровницу, которая по ночам выходит из воды и забирает молоко у коров.
По народным представлениям, передача колдовского знания происходила с помощью лягушки. На Русском Севере ее, например, глотали при посвящении в колдовство: «Колдун ведет тебя в баню на зори, он попросит, она выскочит, скакуха, эту скакуху нужно проглотить в себя». В одном из мифологических рассказов повествуется о другом способе принятия женщиной силы от заболевшей колдуньи: обретение «знания» происходит посредством залезания в пасть огромной лягушки. После того как женщина трижды пролезла в обнаженном виде сквозь нутро лягушки, ей колдунья задала вопрос: «Все ли ты видела, все ли теперь знаешь?» – «Та сразу же все поняла и стала с тех пор колдовать».