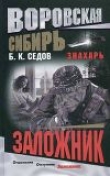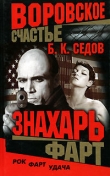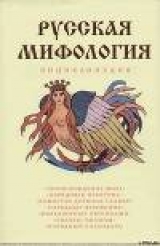
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 50 страниц)
В православной традиции Волос, как и другие языческие боги, воспринимался как бес, нечистый дух, черт. Отсюда, вероятно, существование в русских диалектах названий типа «волос», «во-лосень», «волосатик» и подобных для образов низшей демонологии, воплощающих опасность и злое начало. Это и змееподобный червь «волос», о котором только что шла речь, и упоминавшийся выше дух «волосень», который, по тамбовским поверьям, наказывает прядущих под Новый год. Словами «волосатик», «волосатик-бог», «волосатый», «волосеник» могут обозначаться и водяной, и леший, и нечистый дух, и черт, которые, по народным поверьям, не только опасны, но иногда могут принести человеку удачу, что соотносится с представлениями о Волосе. Возможно, что со снижением образа Волоса после официального запрета язычества соотносятся многочисленные очистительные ритуалы, проводимые в Великий четверг как значимый для христианской культуры день, наряду с отмеченными выше обрядами, в которых явно сохранились отголоски культа «скотьего бога», в том числе и приуроченность их к этому дню.
С утверждением христианства Волос был заменен христианским покровителем скота св. Власием. В Новгороде, Киеве и Ярославле уже в XI веке на местах языческого поклонения Волосу были поставлены церкви св. Власия. На месте капища Волоса на реке Колочке был основан Волосов-Николаевский монастырь. В этом монастыре находилась чудотворная икона Николы, которая, по преданию, многократно являлась на дереве висящей на волосах.
Св. Власий был не единственным заменителем Волоса. Частично функции Волоса восприняли также св. Василий Кесарий-ский – покровитель свиней, или в народе – «свиной бог», свв. Флор и Лавр – покровители коневодства – «конские боги», св. Никола и св. Егорий. Кроме того, культ Волоса нашел продолжение в представлениях о некоторых представителях низшей демонологии: например, в поверьях о лешем, водяном и домовом.
Сведения по восточнославянской мифологии из ранних письменных источников и поздних верований, накопленные к середине XX века, позволили известным ученым В. В. Иванову и В. Н. Топорову выдвинуть гипотезу об «основном» мифе, которая базируется на сравнительно-типологическом методе и методе реконструкции. Эти методы предполагают сравнение имеющегося славянского материала с мифологическими представлениями других индоевропейских народов, прежде всего с данными балто-славянской и индо-иранской мифологий, и – на основе этого – восстановление сюжетов восточнославянских мифов. По мнению исследователей, являющихся сторонниками гипотезы об «основном мифе», у восточных славян существовал ряд мифологических сюжетов, объединяющих некоторых из языческих богов, прежде всего – Перуна и Волоса.
При реконструкции «основного» мифа использовались языковые данные и фольклорные материалы восточных славян и некоторых других славянских традиций, в частности многочисленные загадки, сказочные, былинные, песенные и другие мифо-поэтические тексты, содержащие, по мнению исследователей, трансформированные остатки славянских мифов.
Основу мифа составляет поединок Перуна с противником. В образе всадника на коне или на колеснице, что соотносится с позднейшей иконографией Ильи Пророка, Перун поражает своим оружием змеевидного врага. В изначальном варианте мифа враг – это имеющее змеиную природу мифологическое существо, которому соответствует Волос (Велес). Враг прячется от Перуна в дереве, затем в камне, в человеке, животных, в воде.
В использованных для реконструкции восточнославянских источниках языческие боги заменены сказочными или христианскими персонажами: Перун, как правило, заменен пророком Ильей или персонажами с более поздними именами, а Волос – чертом, Змеем или царем Змиуланом. Так, следы сюжета «основного мифа» прослеживаются в белорусских сказках о борьбе Перуна (Грома, Ильи) со Змеем (чертями, Сатаной), в русской сказке о царе Огне (Громе), царице Маланьице и Змиулане (царь Огонь и царица Маланьица жгут стада царя Змиулана – в этой сказке Маланья выступает как супруга бога Грозы), в ярославском предании о споре Ильи с Волосом и других текстах. Учитывая то, что восприемниками некоторых функций Волоса были св. Никола и св. Егорий, исследователи считают, что отношения Громовержца и его противника, возможно, отразились в пословицах, соединяющих имена Маланьи и Николы или Юрия: «Веселилась Маланья на Николин день», «Судила Маланья на Юрьев день», где имя Маланья очевидно ассоциируется с молнией (в русских говорах – «молонья»), которая, в свою очередь, соотносится с оружием бога грозы.
Согласно восстановленному мифу, после победы Перуна над змеевидным врагом (Волосом) освобождаются воды и проливается дождь. Соответственно материалу индоевропейских параллелей, в некоторых трансформациях мифа поединок завершается освобождением скота или женщины, похищенной противником Перуна. С женским персонажем «основного» мифа ученые связывают образ Мокоши – женского языческого божества, о котором речь будет ниже.
Реконструированный миф можно классифицировать как этиологический – о происхождении грома, грозы, плодородного дождя. По мнению некоторых исследователей, этот миф соотносится с общеславянскими земледельческими ритуалами вызывания дождя, которые включают такой элемент, как обливание женщины водой.
Нельзя не отметить, что далеко не все ученые разделяют гипотезу об «основном» мифе, представленную В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым. Важным аргументом, ставящим под сомнение созданную реконструкцию, оппоненты считают значительное привлечение для воссоздания мифа неславянских мифологических источников.
Мокошь – единственное женское божество, упоминаемое в списке пантеона князя Владимира в «Повести временных лет». Соответственно этому письменному источнику, идол Мокоши стоял в Киеве на вершине холма рядом с кумирами других богов. Кроме «Повести временных лет» Мокошь упоминается в таких древнерусских письменных памятниках, «Слово св. Григория» (XIV в.), «Сказание о Мамаевом побоище» (XVI в.), «Слово Xристолюбца» по рукописям XIV и XV вв., «Слово о покаянии» XVI в. и некоторых других.
Культ Мокоши, очевидно, продолжал тайно сохраняться в течение многих столетий после принятия христианства. Об этом, в частности, свидетельствует одна из рукописей XIV века, где говорится о коллективных женских молениях: «Мокоши не явно молятся, да <…> призывая идоломолиц баб, то же творят не токмо худые люди, но и богатых мужей жены». Даже в XVI веке в некоторых местах священники на исповеди задавали женщинам вопрос: «Не ходила ли к Мокоши?», не творила ли «с бабами богомерзкие блуды <…> не молилась ли вилам и Мокоши?»
Следы почитания Мокоши отчетливо сохранились в севернорусских областях, а на Украине память о ней дожила до середины XIX века. Это позволяет со значительной степенью уверенности говорить о том, что вера в это божество была распространена на территории всей Древней Руси. Более того, об общеславянском характере Мокоши могут свидетельствовать немалочисленные западнославянские топонимы: название чешской деревни Mokosin, польские топонимы Mokos, Mokoszyn, Mokosznica, Mokossko, старо-лужицкие – Mococize, Mockschiez, полабские – Muuks, Mukus, словенский гидроним Mokos, – а также материал словенской сказочной традиции, где встречается имя Mokoska, принадлежащее колдунье.
Внешний облик и функции Мокоши восстанавливаются не столько на основе исторических источников, сколько по языковым и этнографическим данным, с учетом возможных изменений первоначального образа божества, которые были обусловлены вытеснением языческих верований христианством. С одной стороны, образ Мокоши, как и всех языческих божеств, был снижен, «ухудшен». В слове Златоуста, обличающем язычников, Мокошь упоминается в одном ряду, например, с упырями. Неслучайно также в севернорусских говорах (новгородских, олонецких, вологодских) слово «мокоша», «мокуш» означает «нечистый дух», «нечистая сила», а в ярославских говорах слово «мо-коша» означает «привидение». С другой стороны, произошло слияние образов языческой Мокоши и христианской святой Параскевы Пятницы.
Еще в XIX веке исследователи указали на возможную соотнесенность образов языческого божества Мокоши и демонологического персонажа севернорусских преданий Мокуши. Согласно этнографическим материалам, Мокошу представляли в образе женщины с большой головой и длинными руками, которая прядет по ночам оставленную кудель, стрижет овец и прядет шерсть. Согласно народным представлениям, Мокуша объявляется в период Великого поста, ходит по домам и смотрит за пряжей. Когда ночью, во время сна, слышалось «урчание» веретена, обычно говорили: «Мокуша пряла». Иногда Мокоша издает звуки – выходя из избы, щелкает веретеном о брус, на котором крепятся полати. В некоторых местностях верили, что если женщина дремлет, а ее веретено вертится, значит, за пряху прядет Мокоша. В народной традиции с занятием Мокоши связан запрет оставлять на ночь кудель на прялке без благословения, иначе, согласно поверьям, придет «Мокоша и спрядет». Когда овцу долго не стригли, а шерсть на ней вдруг вытрется, считали, что это Мокуша «остригла» овцу. Будучи недовольной, она остригает немного волос и у самих хозяев. В качестве требы (жертвы) Мо-коше после стрижки овец оставляли в ножницах на ночь клочок шерсти. Такой образ Мокоши по функциям и характеристикам соотносится с кикиморой.
Очевидно, что Мокошь являлась покровительницей прядения и других женских занятий. Запреты на некоторые из них в пятницу, например прясть и стирать, сохранявшиеся во многих местностях у русских еще в XX веке, свидетельствуют о том, что из дней недели Мокоши была посвящена, по-видимому, пятница.
Мифологические представления русской и других славянских традиций содержат немало доказательств того, что женское языческое божество связывалось с влагой и со стихией воды в целом. Прежде всего, ученые считают, что само имя Мокошь, вероятнее всего, восходит к корню *mok-, *mokrъ-, а образ Мо-коши соотносится с Матерью-сырой землей. Косвенным доказательством этого является почитание у русских св. Параскевы Пятницы как «водяной и земляной матушки». В качестве сравнения можно привести материал чешской мифологической традиции, где известно имя мужского рода Mokos, относящееся к божеству влаги, дождя и сырости, к которому обращались с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи. На соотнесение Мокоши с водой указывает и отмеченный запрет стирать в пятницу. Показательно также, что в новгородских говорах словом «мукуш» могут называть русалку, то есть мифологическое существо, непосредственно связанное с водой. По мнению исследователей, трансформацией прядущего по ночам духа «мокуши», или «мокоши», является сверхъестественное существо новгородских и вологодских поверий «мокруха», которое оставляет мокрым то место, где посидит. Мокруха, как и мокоша, любит прясть, то есть тоже связана с прядением. Ритуал с одно-коренным названием «мокрида», но посвященный св. Параскеве Пятнице, заместившей Мокошь, в XIX веке сохранялся на Украине: в ходе обряда Пятнице приносили жертву, бросая в колодец пряжу. Как и «мокрида», языческую природу имеет и другой украинский обычай, существовавший еще на рубеже XIX и XX веков, – кормление Пятницы. Обычай заключался в том, что в ночь с четверга на пятницу хозяйки, застлав стол чистой скатертью, оставляли на нем кашу в горшке, покрытом миской, и ложку в надежде, что Пятница придет ночью и поужинает. А накануне дня памяти св. Параскевы на стол ставили праздничное блюдо – разведенный мед.
Как единственное женское божество Мокошь, вероятно, была покровительницей не только прядения, но и других сфер женской деятельности. Исследователи реконструировали для Моко-ши функции божества любви, рождения, плодородия и судьбы. На эти функции указывает соотнесенность Мокоши со стихиями земли и воды, наделяемыми в архаичных культурных традициях продуцирующей силой и имеющими в мифологических представлениях непосредственное отношение к идее плодородия, а также связь языческого божества с прядением и ткачеством, продукты которого – нить или полотно – осмыслялись в народном сознании как символы судьбы-жизни, которой наделяется при рождении каждый человек. В этом плане образ древнерусского языческого божества по функциям и своему значению типологически близок богиням-пряхам других культурных традиций: греческим мойрам, германским норнам, хеттским богиням подземного мира.
Согласно гипотезе об «основном» мифе, Мокошь выступала как женский персонаж в его сюжете и являлась женой Громовержца.
После принятия христианства и особенно после его укрепления в XVI веке восприемницей функций Мокоши стала св. Параскева Пятница. Она унаследовала также многие черты характера и культа языческого божества, о чем речь будет в соответствующей главе.
О Свароге сохранилось мало сведений. Он не вошел в список «владимировых» богов, но упоминается в некоторых древнерусских письменных источниках. Известно, что в славянской мифологии он почитался как бог огня. «Сварогом», или «сваро-жичем», называли персонифицированный пылающий огонь на алтаре или в домашнем очаге.
В одном из древнерусских поучений против язычества – «Слове некоего Xристолюбца» (XIV в.) говорится, что язычники своим идолам «покладывають имъ требы и куры им режуть и огневи ся молють [огню молятся] зовуще его сварожицемъ [зовя его сварожичем]». В славянском переводе «Xроники» Иоанна Малалы (XII в.) Сварог соотносится с древнегреческим богом огня Гефестом. Здесь же указывается, что Сварог является отцом Дажьбога – божества Солнца.
Современные исследователи считают, что глубоко почитаемый восточными славянами, о чем свидетельствуют письменные источники, Сварог (Сварожич) все же во времена Древней Руси представлял собой скорее не оформившееся божество, а олицетворение природной стихии огня. Не случайно он не вошел в пантеон высших богов, созданный князем Владимиром. Вместе с тем культ огня как одной из сил природы продолжает сохраняться в народной традиции до сих пор.
В приведенном выше списке киевских богов, помещенном в «Повести временных лет» под 980 годом, имена «Xорс» и «Дажьбог», в отличие от других, не разделены ни союзом, ни точкой.
Это позволяет предположить, что в пантеоне «владимировых» богов один из кумиров имел двойное имя.
Одно из имен – Дажьбог – очевидно, славянское, состоящее из двух корней. Ученые-лингвисты определили, что слово «бог» в древности обозначало не только божество, но также и богатство, долю: на это указывает, например, противопоставление слов «богатый» и «убогий» с их первоначальными значениями «наделенный долей» и «лишенный доли», хотя в современном языке эти слова приобрели уже несколько иные смысловые оттенки. Поэтому, исходя из смысла корней, составляющих имя Дажьбога, его можно рассматривать как божество, «дающее богатство, долю». Для славянских народов, занимавшихся земледелием, благополучие и достаток зависели от урожая, а урожай, в свою очередь, зависел от живительной силы света и тепла солнца. Поэтому, вероятнее всего, восточные славяне Дажьбогом называли бога солнца.
Действительно, в Ипатьевской летописи под 1114 годом помещена вставка из перевода «Xроники» Иоанна Малалы, где говорится о языческих богах и в числе других названы Феост (Гефест) и его сын Солнце (Гелиос). Славянский переводчик «Xро-ники» Малалы отождествляет древнегреческого Феоста со Сва-рогом, а Солнце – с Дажьбогом:
«По умрьтвии же Феостовъ егож и Сварога наричить и царствова сынъ его именемъ Солнце, егожь наричють Дажьбогъ. Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажь-богъ»
Отсюда следует, что Дажьбог воспринимался как сын Сварога, бога огня и был связан с солнцем.
Соответственно имени и функции восточнославянский Дажь-бог сопоставим с южнославянским божеством солнца Дабогом (или Дайбогом).
Как божество, связанное с основным источником жизни – солнцем, Дажьбог воспринимался как податель и распределитель благ. Эту функцию можно обнаружить в формулах молитв и бла-гопожеланий: «Дай, Боже!» Тема благополучия в связи с Дажьбогом звучит в новгородских поговорках: «Покучись Дажьбогу, управит понемногу», «Полно тосковать, Дажьбог все минет».
Образ Дажьбога сохранялся в украинских ритуальных песнях вплоть до начала XX века. Так, в одной из свадебных песен изображается монолог жениха-«князя» при встрече с Дажьбо-гом по пути на свадьбу. Появление образа Дажьбога в свадебной лирике указывает на его функцию покровительства браку. В обрядовой календарной песне, относящейся к весеннему циклу, Дажьбог посылает соловья замыкать зиму и отмыкать лето; здесь Дажьбог выступает как персонификация Солнца. В обеих песнях образ Дажьбога имеет продуцирующее значение.
В «Слове о полку Игореве» дважды употребляется выражение «Дажьбожий внук». Так здесь назван княжеский род Рюриковичей, русских князей, которые, согласно мифологическим представлениям, считались потомками солнечного бога.
Второе имя божества солнца в созданном князем Владимиром пантеоне – Xорс. Как олицетворение солнца Xорс выступает, например, в «Слове о Полку Игореве». Это имя, очевидно неславянского происхождения, довольно часто упоминается в древнерусских письменных источниках. Однако его явная чужеродность всякий раз приводила книжников к затруднениям в его написании: Xорса называли то «Гурсом», то «Гурком», то «Гусом», то еще как-нибудь. Об этнической и конфессиональной чужеродности Xорса для древнерусской традиции свидетельствует его определение в «Беседе трех святителей» (не позднее XIV в.) как «жидовина»: «два ангела громная есть: елленский старецъ Перунъ и Xорсъ жидовинъ».
Действительно, как установили исследователи, это божество было заимствовано из иранской мифологии. Так, персидское слово {xurроd} означает «сияющее солнце», а культ Солнца в государстве иранцев – Xорезме – был доминирующим. Таким образом, иранский Xорс, по сути, дублировал древнерусского Дажьбога.
В отличие от некоторых богов киевского пантеона, например Перуна и Волоса, с которыми связывались определенные социальные функции (воинская и хозяйственно-производительная) и соответствующие им группы населения (княжеская дружина и народ), Xорс отличался своим сугубо природным значением.
Xорс был не единственным заимствованным божеством в пантеоне князя Владимира. Причинам этого заимствования будет посвящена отдельная глава.
Из древних письменных источников о Стрибоге известно очень мало. В «Повести временных лет» и в проложном житии Владимира Стрибог упоминается в числе богов, изображения которых были установлены в Киеве в 980 году. В «Слове о полку Игореве» Стрибожьими внуками названы ветры: «Се ветри, Стри-божи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы».
Имя этого божества легло в основу довольно большого ряда географических названий: Стрибожь в Новгородской губернии, Стрибоже озеро, река Стрибожская – в Киевской губернии, село Стрибож – на Житомирщине. Известно также польское местечко Stryboga, что позволяет предположить, что Стрибог являлся общеславянским богом.
Вместе с тем роль Стрибога в славянском языческом пантеоне достоверно не установлена. На основании текста «Слова о полку Игореве» можно полагать, что Стрибог был связан с атмосферными функциями. Так, первые издатели этого памятника приписывали Стрибогу власть над ветрами.
В списке «владимировых» богов в «Повести временных лет» Стрибог следует за Дажьбогом. Исследователи давно заметили, что структура имен этих двух богов одинакова. Оба имени включают слово «бог», а первая их часть представляет собой глагол в повелительном наклонении: «даж(д)ь» от глагола «дать» и «стри» («простри») от глагола («простереть»). Однако ученые расходятся во мнении о характере Стрибога. Одни видят в нем благое божество, возводя его имя к понятию «возвышенный бог» (от древнеиранского Stribaya, «сеющий бог» (от праславянского *ster), «устроитель добра» (сближая со *strojiti). Другие исследователи, напротив, усматривают в Стрибоге «злую» сущность: не просто бога ветра, а сурового бога стихии, бури, вихря, противостоящего светлому началу, а также бога истребляющего, бога войны. Эти предположения основываются на материале «Слова о полку Игореве», где ветры – внуки Стрибога – губят полки князя, а также на возведении имени бога к праславянскому глаголу «стрити» (*sъtьri) – «уничтожать».
Соотношение Дажьбога и Стрибога – одинаковая структура имен и упоминание их в древнерусских текстах рядом друг с другом – дает основание противопоставлять или сближать их функции и значение в восточнославянской мифологии.