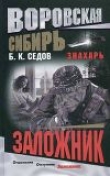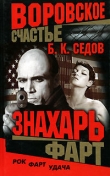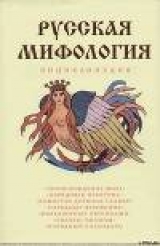
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 50 страниц)
Согласно некоторым легендам, люди не умели строить жилища до всемирного потопа и существовали под открытым небом.
После потопа, когда наступила суровая зима, Ной выстроил для своего семейства небольшой деревянный сарай и провел в нем несколько зим. Когда семья Ноя увеличилась, он построил большой сарай, а со временем, приобретя навык в плотничьем мастерстве, построил уже и небольшую избу.
Первые избы, что строили люди после Ноя, были без окон. Одна женщина, чтобы осветить внутри свою избу, как-то схватила решето и начала бегать по двору, чтобы поймать в решето луч солнца. Вдруг явился ангел в образе простого человека и, посмеявшись над женщиной, сказал: «Глупая ты, баба!» Затем взял топор, прорубил в избе дыру, – и изба осветилась. Увидев это, женщина обрадовалась, но при этом заметила: «Все хорошо, но как я теперь буду защищать свою избу от холода?» Тогда ангел, чтобы помочь ее горю, пошел на берег моря, нашел там большую рыбу, вынул из нее пузырь и этим пузырем закрыл прорубленное отверстие, так что в избе было и светло, и тепло. С тех пор и все остальные люди начали строить себе избы с окнами.
Для большинства легенд на эту тему, как и для мифопоэти-ческих текстов о сотворении мира и первых людей, характерен дуалистический мотив участия в созидательном процессе двух противоположных типов творцов. Нередко создание первой избы в начальные времена существования мира приписывается Сатане, но он, как обычно, не доводит дело до конца:
Построив избу, Сатана не сообразил проделать окна, вследствие чего в ней было темно. Не зная, как быть, Сатана взял мешок и давай носить мешком солнечный свет в избу. Принесет, выпустит его, – а света все нет в избе. В ту пору приходит Бог и спрашивает Сатану, что он делает? Сатана отвечает, что вот он построил избу, да только в ней темно, как ночью: «Сколько ни тружусь, сколько не ношу света, а в хате все темно и темно». – «Подари ее мне, – сказал Господь, – я уж это дело устрою». – «Бери, а то мне надоело носить свет». Тогда Господь сделал три окна, и в хате стало светло. С тех пор люди строят хаты. Изобретение ветряной и водяной мельниц в народе также приписывается черту. Однако привести механизм в действие оказывается под силу только Богу:
Построил черт ветряную мельницу, но при этом он никак не мог нацепить на нее крылья, так как они устраиваются крестом. Не мог он также насадить и жернов из камня, в отверстии которого тоже есть крест. Крылья и камень благословил и насадил уже сам Бог.
Построил черт и водяную мельницу. Все сделал он, как следует, не мог только сделать снасти, что трясет корытце, которое висит над жерновом и из которого в жернов сыплется зерно. Никак не мог он сделать этой снасти. И вот, когда мельница, бывало, начинает работать, черт становится около ковша да и трясет его непрерывно рукой. Наконец, это ему надоело, и он бросил совсем молоть. Тогда Господь послал св. Михаила, который и устроил нужную снасть. А иначе всегда пришлось бы стоять подле ковша особому человеку и трясти его. Сохранились в народе и легенды о происхождении различных орудий труда и средств передвижения для людей. В некоторых случаях их изобретение приписывается Соломону, в других – самому Богу. Легенды об обретении людьми орудий труда отражают традиционные представления о Божьем установлении занятий для мужчин и женщин. Так, один из текстов повествует о том, что, изгоняя первых людей после их грехопадения из рая, Господь дал им все хозяйственные орудия, чтобы они могли жить, трудясь. Адаму он вручил заступ и грабли и сказал: «Иди, Адам, землю загребай». А Еве дал прялку в руки со словами: «Иди, Ева, пряди».
Происхождение косы связывается в легендах с образом мудрого Соломона:
Однажды Соломон увидел, что на кузнице, покрытой землей, выросла большая трава, и люди силятся втащить на крышу вола, чтобы он там поел траву. Тогда Соломон зашел в кузницу, показал кузнецу, как сделать косу, и, набив ее на рукоять, заставил людей скосить траву и сбросить ее с крыши на землю волу.
По народным поверьям, секретам кузнечного ремесла человек случайно научился от черта, причем против воли последнего. Об этом рассказывает харьковская легенда:
Когда человеку понадобилось в первый раз что-то ковать, он не знал, что при этом нужно использовать песок. Приходит к нему во время работы нечистый: «Что ты делаешь?» – «А вот видишь – кую». Черт пошел себе прочь. Вот человек ковал, ковал – ничего у него не выходит. Через некоторое время снова является нечистый: «Ну, что, сделал что-нибудь?» – «А то нет?» – «Э! Да ты, должно быть, песку бросал?» – говорит черт. А тот человек и думает тогда себе: «Эге! Погоди же!» Как только ушел нечистый, он тотчас же снова принялся ковать, подбрасывая при этом песку. И пошло у него дело на лад. Секрет же закаливания железа, согласно легендам, случайно открыл Бог.
Когда Бог и апостолы ходили по земле, то сильно замерзли и, увидев разведенный на берегу костер, подошли погреться. Бог, чтобы взять огня с собой, воткнул в костер свою железную палицу, чтобы она раскалилась. Вдруг выскочил черт и говорит Богу: «Ты что, Боже, крадешь мой огонь?» Бог рассердился и бросил палицу в воду, но затем быстро поднял ее и кинул в черта. Черт увернулся, а палица ударилась о камень и при этом зазвенела, потому что стала очень твердой. С тех пор люди стали при ковке закалять железо в воде. О таком средстве передвижения, как телега, первые люди не знали, а потому и зимой, и летом ездили на санях. Об изобретении телеги существует следующая легенда:
Не было такого мастера, который мог бы сделать воз. Один раз Бог и говорит свв. Петру и Павлу: «Чем вам тут слоняться из угла в угол, ступайте-ка лучше да поищите такого мастера, который бы сделал воз для людей». Одели на себя Петр и Павел сермяги, взяли по куску хлеба в руки и пошли. Идут день, идут другой, идут третий. Нигде на свете не нашли мастера, который мог бы сделать воз. Идут дальше. Под вечер приходят к болоту. Видят, стоит избушка на курьей ножке. Слушают, а в той избушке треск, крик, гам, гвалт, точно в аду. Испугались Петр и Павел и уже хотели было дать тягу. Но вот страх несколько прошел. Собрались с духом и направились прямо к избушке. Вошли. Смотрят, а там стоит хорошо сделанный воз, на колесах, а около него что-то копается еще черт. Воз уже совершенно готов, а черт все суетится: то потянет его сюда, то туда, то в дверь, то в окно. А воз зацепится то колесом, то дышлом, – никак не может бедолага-черт выкатить его из избушки. «А что ты, черт, делаешь тут?» крикнул св. Петр. Черт сначала было страшно испугался, услышав посторонний голос; но потом, когда увидел, что это святые Петр и Павел – люди знакомые, оправился и сказал: «Да вот сделал воз, а теперь никак не могу его выкатить из избушки». – «Эх, дурак ты, дурак! Отдай нам этот воз, так мы его тотчас же выкатим!» – «А что вы мне дадите за него?» – «А что дадим? Дадим овес, ячмень». – «Ладно, будь по-вашему!» Петр и Павел разобрали воз и вынесли его на двор. Черт увидел, что воз уже на дворе, и говорит: «Теперь, когда воз на дворе, я уже не отдам его вам». – «А коли не отдашь, так мы тебя перекрестим, и тогда не будет у тебя ни воза, ни овса». – «Ну, – говорит, – берите уже воз, да только скажите окончательно, что именно вы даете мне за него?» – «Скажем, но только прежде ты сложи его нам так, как он должен быть». Сложил черт воз и снова просит платы за него. «Мы сказали, что даем за твой воз очерет (осот – сорная трава)». Пошел тогда черт в очерет, а свв. Петр и Павел завезли воз людям и отдали им. А черт сидит себе в очерете да пугает лягушек и тех людей, которые Бога не боятся.
Бытующие в традиционной культуре легенды о происхождении разных народов и их отличительных особенностях – поздние. Как правило, они изображают «изготовление» представителей тех народов, которые непосредственно соседствуют с народом рассказчика или хорошо известны ему по тем или иным историческим событиям. Согласно одной из украинских легенд, людей всяких национальностей сварил черт в одном котле, а их отличие друг от друга объясняется разницей во времени варки: Раз черт <…> набросал в котел, в смолу, разного зелья и стал варить. Варил, варил, попробовал <…> – вышел мужик-хохол. «Не доварил!» – сказал сам себе черт и стал снова варить. Варил, варил, попробовал, – вышел лях (литовец). «Еще не доварил!» – сказал черт и стал снова варить. Дальше появились и немцы, и татары, и евреи. Для объяснения различий между народами в легендах нередко используется мотив их изготовления из разного материала. О происхождении русских и украинцев, замешанных, соответственно, из глины и теста, легенда повествует так:
Когда не было на свете хохлов и москалей, Бог послал однажды Петра и Павла на то место, где теперь Москва. Пришли они сюда и стали делать – Петр хохлов, а Павел москалей. Петр делал хохлов из пшеничного теста, а Павел москалей из рудной глины, – потому они и рыжие. Наделали и поставили сушиться на солнце. Петр и говорит: «Пойдем, брат Павел, к реке руки мыть». А Павел отвечает: «Иди, Петр, сам, а я свои руки и так оботру». – «Ну, коли ты не пойдешь, так поглядывай же, чтобы не случилось чего с нашим народом». Павел прекрасно знал, что его людей никто не тронет, а потому пошел себе под тень да и лег соснуть. Где ни взялась собака, и давай нюхать просушивавшихся людей. Понюхала хохлов, тотчас же разобрала, что они из теста, и ну их есть. Приходит от реки Петр, глядь – москали стоят, а хохлов нет! Когда смотрит – собака подняла лапу на грудь москаля, а с груди стала глина стекать: оттого москали пузатые. Тогда Петр как разгонится сразу, как схватит собаку за хвост, а собака как попрет по полям на Украину! Петр как потянет ее палкою по ребрам, а она как прыгнет через ярок, – и у нее из-под хвоста хохлы, стал там хохлацкий хуторок, там целая слобода. С тех пор и стали хохлы жить по хуторам да по слободам. Так и расселились по Украине.
Противопоставление русских и украинцев в текстах подобного рода – одно из наиболее частых. В другой легенде происхождение этих родственных народов возводится к двум пьяным мужикам, при этом указывается на некоторые хозяйственные и бытовые особенности, приписывающиеся обоим народам, с точки зрения рассказчика-украинца:
Шли однажды по полю Христос и св. Петр, а навстречу им едет свадебный поезд. Пьяные поезжане начали насмехаться над ними. Один пьяный стал кривляться и говорит Христу и Петру: «Чего вы, бродяги, шляетесь тут? Вы должны заниматься хлебопашеством, а не шататься по свету без дела!» Св. Петр говорит Христу потихоньку: «Этому человеку быть хохлом – хлеборобом: он век будет обрабатывать землю». – «Делай с ним, что тебе угодно», – отвечал Христос. Другой пьяный кричит в насмешку: «Чего вы бродите тут? Вишь, даже черевиков у вас нет: вам бы только лапти ковырять, а не шататься по чужим свадьбам!» Св. Петр и говорит: «А этому человеку быть москалем, и он будет ковырять лапти и ходить в лаптях». <…> С тех пор от первого пьяного, который кричал на Христа да на св. Петра, пошли хохлы, от второго – москали В легендах об изготовлении того или иного народа по модели лепки человека из теста обычно присутствует дополнительный мотив – порча творения или съедание его нечистым животным, обычно – собакой. Этот мотив подчеркивает иронический взгляд рассказчика на происхождение данного народа, так как «благородный материал» превращается в свою противоположность:
Когда-то давно ходил Господь со св. Петром по земле. Вот св. Петр и спрашивает Господа: «Как это так, Господи, что всяких людей на земле вдосталь, а вот литвинов и нет совсем?» Господь и говорит: «Возьми да и сотвори». Взял Петр пшеничной муки, слепил из нее галушку, а из этой галушки сделал человека да и наткнул его на тын, на кол, для просушки. Где ни взялась собака – и съела того человека! Оглянулся св. Петр, – нет его человека! Как схватит он ту собаку, как начнет ее бить об землю! Что ни ударит, то и выскочит из собаки литвин. Понавыбивал он их столько, что Бог наконец сказал: «Довольно, будет уже!
Где ты станешь девать их?» А Петр и говорит: «И, Господи! Найдется им место и по-над Десною и по-за Десною». Подобная легенда существует о происхождении поляков и распространенных польских фамилий:
Когда Господь творил разные народы, то сделал он из глины москалей, французов, татар, ногайцев. Нужно было сделать еще поляка; хватился, – ан глины-то и нет. Вот он взял и слепил поляка из теста и затем поставил всех рядком сохнуть, а сам ушел. Вдруг бежит собака. Нюх одного – глина, нюх другого – глина, нюхнула поляка – коли хлеб, – она его и съела. Возвращается Господь. Дунул – пошел москаль, дунул – пошел француз так все народы пошли, а поляка – нет! Где поляк? – Собака съела! Пошел Господь да на мосту и догнал ее. Как схватит ее за уши, как ударит об мост, – выскочил пан Мостовицкий; как ударит об землю, – пан Земнацкий; как вчешет татарина по брюху, – выскочил пан Брюховецкий – и пошли все.
В устной традиции восточных славян сохранилось немало разнообразных легенд и сказаний о фантастических существах и даже целых необычных народах, живших на земле когда-то, очень давно, или в обозримом историческом прошлом.
В легендах о великанах, распространенных во многих местах, отразились представления славян о смене мифологического времени, «начальной» эпохи первотворения, временем историческим, с которого вплоть до наших дней живут обычные люди. По народным поверьям, первыми людьми, населявшими землю, были великаны. В многочисленных легендах рассказывается об остатках их культуры в виде высоких валов и курганов. Эти первые люди имели такой большой рост, что лес для них был, как трава для современных людей. Они могли переговариваться на огромнейшем расстоянии, передавать друг другу те или иные вещи через реку или через гору. Согласно некоторым легендам, современные люди появились на земле, когда еще на свете жили великаны:
Однажды великан увидел человека, волами пахавшего землю. Он положил его вместе с упряжкой себе на ладонь и понес показать отцу:
Смотри, отец, каких я нашел червячков!
Отец взглянул и сказал:
– Нет, сынок, это не червячки, это такие люди будут после нас.
В мифологиях многих народов мира мотив гибели великанов соотносится с темой смены поколений богов. Существование гигантов приурочивается к периоду завершения творения, до установления «нынешнего» мира. Если великаны продолжают жить и после окончательного сотворения мира, то их местопребывание часто связано с горами, глухими лесами. Подобные представления о великанах сохранились в русском эпосе: к ним относятся такие былинные персонажи, как Святогор, Идолище, баба Златыгорка и ее сын Сокольник. Нередко само их имя указывает на связь с местопребыванием. В эпосе персонажи такого типа обычно изображаются как враждебные богатырям Святой Руси и, шире, человеческому племени. В былинах они всегда погибают. Таким образом, в эпосе отражается тема смены поколений героев: великаны, наделенные мифологической природой и воспринимающиеся носителями эпической традиции как представители «чужого» племени или народа, уходят, а им на смену приходят богатыри русской земли. Показательно, что совершенно в другом фольклорном жанре – в преданиях, правда, также отражающем мифопоэтические представления, с великанами нередко отождествляются реальные воинственные иноземцы.
Мифические племена и народы нередко являются предметом изображения в преданиях, сюжеты которых описывают прошлое, исчезнувшее население данной местности. На Русском Севере широко были распространены предания о мифических народах, которые называли «чудью» и «панами». Для этих фольклорных текстов характерно переплетение реалистической и мифологической традиций. Народный этноним «чудь», по мнению исследователей, обозначает совокупность неславянских народов, живших на территории Русского Севера в период освоения его славянскими поселенцами.

Волшебник и великан. А. Бенуа. Азбука в картинах (1904).
В образе мифического народа чуди воплощены раннеисторические – в значительной степени мифологические – представления о населении, некогда обитавшем в данной местности. Многие предания сохранили представления о чуди как о великанах:
Чудь? Белоглазые племена? Так пришельцы они с севера! Каждую зиму приходили, вот горе!.. <…> А битвы, видно, большие были, потому что когда строят дома, то находят большие – как и не человеческие – такие большие кости. <…> Где какая битва была – там и церковь поставлена, в честь этих битв с чудью, деревянная церковь. Церковь деревянную сожгли, стали на этом месте жить, колодец копать – нельзя колодцев копать, нельзя жить: везде огромные кости. Поставили на тех местах каменные церкви.
Указывают на кладбище дикого народа, жившего в древности на Двине в Хаврогорском приходе, ниже церкви <…> Там высыпаются из горы человеческие кости необыкновенной против нынешнего народа величины. Чудины не только изображаются как фантастически высокие люди, но и как обладающие сверхъестественной силой:
Село Койдокурья, Архангельского уезда <…> получило свое название от первого поселившегося в тамошней местности чудина по прозванию Койда, или Койка <…> поколение Койды было мужественно, великоросло и чрезвычайно сильно. Члены его поколения могли разговаривать между собою на шестиверстном расстоянии <…> Один из чудинов был столь силен, что однажды, когда он вышел поутру из ворот и затем чихнул, то своим чохом до того испугал барана, что тот бросился в огород и убился до смерти.
На противоположном берегу озера <…> близ болота Ко-нырева <…> жил некто Коныря, а пониже его – два брата За-лазных: Тарай и Залаза. Еще ниже, против самой церкви, – Назаря. Потомки последнего существуют и поныне, под фами-лиею Назаровых. Трое последних имели, будто бы, один топор и по мере надобности перекидывали его один другому.
На городище Дивьей горы жила дева, управляющая чудским народом и отличавшаяся умом и миролюбием. В хорошие дни она выходила на вершину горы и сучила шелк. Когда же веретено опрастывалось, то она бросала его на Бобыльский камень, лежащий на противоположном берегу Колвы, прямо против Дивьей горы.
Сильный князь на Вые был! Стрелой из лука попадал с мызы в банное окошечко на том берегу Выи. У моего отца лук был – длинный, около двух метров. Я сам видел. Помимо большого роста, во внешнем облике чуди как мифологические выступают и другие черты. Обычным сопутствующим эпитетом к именованию этого племени является слово «белоглазая». В преданиях «чудь белоглазая» нередко выступает как собирательный образ. В некоторых текстах присутствует свойственное мифологическому сознанию соотнесение признака необычности глаз со слепотой, отличающей в мифопоэтических представлениях существа иного мира:
В Надпорожском приходе, недалеко от церкви, есть ровное небольшое место, которое и теперь называется Белоглазо-во, потому что здесь жила белоглазая чудь. Когда она хотела напасть и ограбить церковь и жителей, то сама ослепла и перебила друг друга. Иногда чудь называется «черноглазой», а также «черноволосой», «темнокожей», «краснокожей»:
Чудь <…> был народ краснокожий; <…> этот народ по приходе русских скрылся на Новую Землю, где живет и до сих пор, скрываясь поспешно, когда увидит человека крещеного. Все эти особенности внешнего облика характеризуют чудь как «чужое» племя. В рамках мифологического противопоставления «свой» – «чужой» чудь в некоторых сюжетах наделяется также признаками антагониста, наделяемого необычной природой. Так, предания повествуют о том, что разорение деревень и истребление жителей было делом рук чуди, которая, проходя здесь, народ поедала, а имущество грабила. Известно предание о воинственной чудской княжне, образ которой типологически близок образам амазонок в мифологиях разных народов. Как «чужое», необычное племя чудь иногда изображается в преданиях не оседлым, а кочевым народом. Однако чаще о чуди рассказывали, что она имела свои укрепленные городки и земельные владения. Разные природные и культурные объекты – холмы, валы, скопления камней или глинистых пород – в сознании русских переселенцев, а затем и многих поколений их потомков приписывались культуре чуди. Любые остатки древности, происхождение которых было неизвестно, безотносительно ко времени их происхождения и среде бытования, обозначались термином «чудь», то есть мифологизировались, осмыслялись как необычные в соответствии с представлениями о мифическом народе.
Имеющая мифологические корни соотнесенность персонажа с каким-либо ландшафтным объектом – горой, холмом, курганом, островом – нашла отражение и в преданиях о чуди. С именами представителей чудского племени связываются многие топонимы:
Говорят, будто бы одно семейство чудского племени расселилось в окрестностях Холмогор. На Матигорах жила мать, на Курострове – Кур-отец, на Курье – Курья-дочь, в Ухтостро-ве – Ухт-сын, в Чухченеме – Чух – другой сын. Все они будто бы перекликивались, если что нужно было делать сообща, например сойтись в баню. Мифологические черты просматриваются в представлениях об исчезновении чуди. Спецификой преданий на эту тему является мотив самозахоронения, который, соответственно его мифологизации в народном сознании, приобрел трансформированную формулировку в виде присловья «чудь в землю ушла», «чудь живьем закопалась», «чудь под землю пропала». Мотив ухода в землю основывается на архаических представлениях о завершении жизненного пути мифологических существ в форме погружения в землю, гору, источник.
Чудь в землю ушла, под землей пропала. В Валдиевском приходе <…> в десяти верстах от погоста, в Печерине-Пищалево, язычники по какому-то случаю собрались в одно место, выкопали яму, положили в нее свои сокровища и, устроив над ними на столбах хату, сожглись с какими-то заговорами. Один из крестьян, разрывая эту яму, видел обгоревшие столбы и древние угли, заваленные землею, и, наконец, докопался до чего-то необыкновенного, подобного кладу, и хотел с товарищем окопать это место. <…> Мужики закрыли это место кафтаном <…> а когда открыли кафтан, то ничего уже не увидели и отступились от дальнейшей раскопки. Мотив чудского заговоренного клада также отражает народное восприятие чуди как людей, наделенных мифологическими характеристиками, в частности способностью к магическим действиям, владению магическим словом. Подчас в преданиях присутствует представление о чуди как народе, память о котором священна, и оскорбление ее может привести к мести исчезнувшего племени даже с того света:
На Кингострове были уничтожены остатки разбитой чуди, спасшейся на этот остров. Тут и легла вся чудь. Этот остров считается священным: он порос лесом, и рубить этот лес считалось греховным и опасным, так как если сама убитая чудь и не вступится непосредственно за свои права, то она впоследствии так или иначе должна была отомстить оскорбившему ее святыню. Вместе с тем известны и предания, указывающие на скрытное, невидимое пребывание чуди до сих пор. Выше приведен текст о чудском племени, которое по приходе русских скрылось «на Новую Землю, где живет и до сих пор, скрываясь поспешно, когда увидит человека крещеного». Способность к невидимому присутствию – тоже признак мифологических существ.
На Русском Севере широко распространены также предания о «панах». Представления о панах и чуди во многом близки, оба образа выступают в текстах как многозначные. Паны могут изображаться как мифические существа, предки-родоначальники, первопоселенцы, а также как разбойники, помещики, внешние враги. Зачастую на ранний образ панов-первопоселенцев, ведущих оседлый образ жизни, наслаивается позднейший образ панов – польско-литовских захватчиков эпохи Смутного времени – начала XVII века. В первоначальном образе панов отразились архаизированные представления славянских переселенцев о коренных жителях во времена освоения Русского Севера. Так же как и чуди, панам приписывали издавна заброшенные поля в лесу, уже поросшие деревьями, но сохраняющие следы вспашки. В народном сознании они воспринимались как люди, жившие до настоящих поколений и оставившие загадочные предметы материальной культуры: остатки города, могильники и т. п. В описаниях курганов, могил, которые народ называет «панскими», прослеживается представление о панах как предках. В некоторых севернорусских селениях вплоть до XIX века панов воспринимали как умерших предков, а в четверг на Троицкой неделе, который здесь называли «Киселев день», ежегодно совершали обычай поминовения панов-предков всей общиной.
В образе панов можно различить признаки предков-родоначальников, основателей селений:
Паны <…> в Паньском жили, говорят. А паны, паны, как-то панами называли. Паньско-то и прозвано, урочище-то паньским из-за того и зовут Иной раз они изображаются в виде мифических персонажей, образ которых может сливаться с природными объектами и наделяться особой силой даже после смерти:
На месте сосны (у деревни Ананьево) была похоронена панская сестра, и из косы ее выросла эта сосна; пробовали ее рубить, да не смогли. Под этой сосной устраиваются гулянки на Петров день.
Нередко образ панов, на который наслоились поздние исторические представления, сохраняет такие мифологические характеристики, как способность к перевоплощению, колдовству, магическим действиям.
Паны, которых как разбойников преследовали местные жители, стали награбленное добро в землю зарывать в большой кадке и зарывали неспроста, а с приговором, чтоб не досталось никому. Атаман их ударился о землю, обернулся вороном и улетел, а разбойников тут захватили и покоренили. С тех-то пор лежит на Марьине клад. Много народу пытались его добыть, и я бывало хаживал, да нет – не дается: наговор такой! <…> Копали, копали запустят щуп – слышно, как будто в дерево ударяется и близко, покопают еще – все столь же глубоко, потому: клад в землю уходит. Помучились – да так и отступились.
Мотив не дающегося в руки клада – один из наиболее часто встречающихся в преданиях о панах. Клады панов изображаются как необычные, подчас мифические. Как правило, они закладываются с особым заговором в «священном» месте – под камнем, горой, водой и т. п., то есть в типичных местах языческого поклонения. Сокровища показываются ночью в виде огня, могут принимать вид животных или неодушевленных предметов. Попытка овладеть такими кладами таит в себе большую опасность:
Рассказывают, что клад этот являлся в виде досок, собак и мертвецов <…> Один крестьянин, проходя по полю, увидел у дерева покойника и, догадавшись, что это неспроста, зааминил его. Покойник рассыпался кладом, а мужик, собрав часть его, принес домой, но через три года умер. Смерть его, по суеверному поверью не рассказывать никому о подобных находках, приписана тому, что он будто бы рассказал о кладе. <…> Об этом же кладе рассказывают еще так: будто бы соседи замечали иногда на сосне, под которой он скрыт, множество горящих свечей, которые исчезали, если кто осмеливался приблизиться к дереву, и что дерево это пытались срубить, но труд был напрасен, потому что топоры не могли взять его и тотчас ломались.
На Сонде-острове, говорят, спрятана панами в землю бочка с деньгами, которая и теперь иногда показывается ночью в виде пылающего огонька. Говорят, кто мог бы перекинуть топор с наволока до острова (около шестидесяти сажен), тому бы клад и достался. Многие из поверий о мифических существах и народах появились на Руси под влиянием книжных источников. В основном это были проникшие вместе с утверждением христианства рукописные византийские и римские апокрифические сказания. Среди персонажей, отражающих народные представления о «ди-виих людях», есть трехглазые, трехногие и, наоборот, с одним глазом посредине лба, с песьими головами, с лицами, расположенными на груди, с признаками чудовищных зверей, наделенные умением колдовать. Вот, к примеру, записанные на Урале предания о племени одноногих и о народе без бровей:
Легенды такие болтали, что где-то жили люди с одной ногой, одноногое племя <…>, а где жило, не скажу, не знаю; передвигались так, что схватятся за руку двое и пошли. Это даже не дедушка Петр Леонтьевич, а его отец Леонтий знал.
Дедушко рассказывал, что на базаре, будто бы ему люди говорили, народ был без бровей, узды продавал. Нельзя было рядиться. Станешь рядиться, придешь домой, на лошадь узду оденешь, а она лычна или берестяна. А не рядишься – узда как узда.
В восточнославянской традиции легенды о чудных народах нередко связывались с именем Александра Македонского. Эти тексты представляют собой в основном пересказы средневековых рукописных книг о жизни и походах легендарного полководца. Популярны, например, были легенды о мифических народах Гоге и Магоге, которые за нечестивый образ жизни Александр Македонский замуровал в горе:
Жил на свете царь; имя его было Александр Македонский. Это было в старину, давно-давно, так что ни деды, ни прадеды, ни прапрадеды, ни пращуры наши не запомнят. Царь этот был из богатырей богатырь. Никакой силач в свете не мог победить его. Он любил воевать, и войско у него было все начисто богатыри. На кого ни пойдет войною царь Александр Македонский – все победит. И покорил он под свою власть все царства земные. И зашел он на край света и нашел такие народы, что сам, как ни был храбр, ужаснулся их: свирепы пуще лютых зверей и едят живых людей; у иного из них один глаз – и тот во лбу, а у иного три глаза; у иного одна только нога, а у иного три, и бегают они так быстро, как летит из лука стрела. Имя этих народов было: Гоги и Магоги.
Однако ж царь Александр Македонский от этих дивиих народов не струсил; начал он с ними воевать. Долго ли, коротко ли он с ними вел войну – это неведомо; только дивии народы струсили и пустились бежать. Он за ними, гнать-гнать, и загнал их в такие трущобы, пропасти и горы, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Там-то они и скрылись от царя Александра Македонского. Что же сделал с ними царь Александр? Он свел над ними одну гору с другой сводом, и поставил на своде трубы, и ушел назад в свою землю. Подуют ветры в трубы, и подымется страшный вой; они, сидя там, кричат: «О, видно, еще жив Александр Македонский!» Эти Гоги и Ма-гоги до сих пор еще живы и трепещут Александра, а выйдут оттудова перед самою кончиною света. Известны были также и легенды о встретившихся Александру Македонскому во время похода в Индию блаженных островах, где счастливо и беззаботно живут индийские мудрецы брахманы. В устных пересказах эти легенды превратились в сказания о блаженных людях рахманах, живущих под землей или под водой и не знающих исчисления времени. На народные представления о рахманах оказали влияние также древнерусские рукописные сказания XV–XVII веков. Согласно им, «Беловодское» или «Рахманское царство», находящееся в море на блаженных островах, населяют святые люди. Здесь царит вечное лето, и растения цветут и плодоносят одно за другим круглый год. Если попасть туда, можно самому стать святым и взойти на небо. Однако по большей части рассказы повествуют о том, как путешественники видят рахманские земли со своих кораблей, но не могут приблизиться к ним. Близкие мотивы звучат в архангельском предании о неведомом племени, живущем в чудесной стране, расположенной в Студеном море: