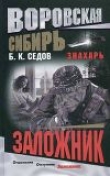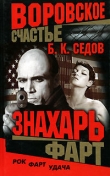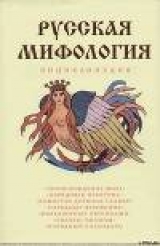
Текст книги "Русская мифология. Энциклопедия"
Автор книги: Е. Мадлевская
Соавторы: В. Павловский,Н. Эриашвили
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 50 страниц)
Связанный со стихией воздуха, ветер в мифологических представлениях персонифицируется или наделяется свойствами демонического существа. В народе его называют «Ветровым», «Ветряным мужем» или человеческими именами. Так, в Архангельской губернии ветер называли Лукой или Мойсием, а на всей территории Русского Севера непосредственно для северного ветра было распространено имя Седориха. Обычай называть ветер человеческим именем существовал у многих славянских народов.
Традиционные представления о том, каков внешний облик ветра, делятся на два типа. Согласно первым, ветер невидим, он существует в природе незримо. Согласно вторым, ветер воплощался в облике человека, причем мужского пола. Его представляли с большой головой и толстыми губами. В Новгородской губернии ветер называли «косоруким». Атрибутом его являлась шапка. Так, поволжцам северо-западный ветер виделся дедом в изорванной шапке. В разных местностях он мог представляться в облике и мальчика, и мужчины, а также всадником и конем. По поверьям, ветер, как человек, может кататься в повозке, а в Вятской губернии верили, что он может входить в дом к людям. Архаичный мифологический образ сохранили украинские поверья, где ветры воплощаются в виде четырех больших человек с огромными губами и усами, стоящих в четырех концах мира.
В народных представлениях власть повелевать ветрами приписывается различным божествам и мифологическим персонажам. Так, в «Слове о полку Игореве» о ветрах говорится, что они – «Стрибожьи внуки» и подвластны Стрибогу. В русских сказках повелительницей ветров выступает Баба-Яга. В древних севернорусских поверьях духи воздушной стихии воплощались в антропоморфных образах повелителей ветров: Сиверике, Щен-нике, Полуденнике, Шелоннике. Согласно мифологическим рассказам, ветер сопровождает лешего, покойника, черта, различную нечистую силу, которые могут вызывать появление ветра или сами становиться им.
О связи ветра с потусторонним миром свидетельствуют не только его причастность к архаичным божествам и существам «иного» мира, но и его местопребывание, о котором можно судить и по традиционным представлениям, и по указаниям в мифопоэ-тических текстах. Так, в Вологодской и Тамбовской губерниях местом обитания ветра считался остров в море или океане – типичные образы «того» света. Вологодской традиции мифологических рассказов известен образ двенадцати ветров, называемых «варганами» и прикованных цепями к скале, которая находится на острове среди океана; когда какому-нибудь ветру удается сорваться с цепи, на земле возникают буря и ураган. По поверьям Томской губернии, ветер появляется из дырки в небе.
В народе существовало деление ветров на добрые и злые. Так, в Поволжье благоприятный ветер называли «святым воздухом». На Русском Севере холодный ветер с севера называли «сиверкой». Когда становилось холодно, так и говорили: «Сиверка подул». Воплощением самого опасного ветра был «вихрь», о котором ниже будет отдельный разговор.
В крестьянской среде причины возникновения ветра осмыслялись по-разному. В некоторых местах его появление связывалось с общеславянскими представлениями о ветре как местопребывании душ и демонических существ. В Вологодской губернии считали, что тихий ветер возникает от дуновения ангелов, а буйный – из-за действия дьявольских сил. Когда поднимался сильный ветер, обычно говорили, что кто-то умер неестественной, то есть не своей, смертью или что умер колдун. В Новгородской губернии верили, что ветры производят ангелы, которых Бог поставил по четырем сторонам света; ангелы дуют по очереди: когда устанет дуть один, начинает другой. В Томской губернии полагали, что ветер появляется из неба, которое случайно «пробили» люди. На Русском Севере существовало представление о том, что зарождению этой природной стихии способствуют действия при мотании ниток, создающие движение воздуха, особенно если эта работа производится летом на закате солнца. Ветром могли, по поверьям, управлять колдуны, которых поэтому называли «облакогонителями».
Ветер воспринимался как стихия, наделенная большим могуществом, – и полезная, и опасная. Ветер может принести спасение в море и благодатный дождь, а может засыпать посевы градом и возмутить смертоносные волны водной стихии. Традиционные представления об особенностях ветра как природного явления в полной мере отразились в русских поговорках. Так, о его могуществе свидетельствует поговорка «Выше ветра голову не носи», а о неуемности и жестокости – поговорка «Ветер взбесится, и с бобыльей избы крышу сорвет». В поговорках «За ветром в поле не угоняешься» и «Спроси у ветра совета, не будет ли ответа?» раскрываются его основные характеристики – быстрота и неуловимость, вольность и непредсказуемость.
Ветер считался опасной стихией также в связи с широко распространенным среди русских крестьян поверьем о том, что с ним приносятся мор, эпидемии, эпизоотии (падеж скота). Отсюда и такие народные названия повальных болезней, как «поветрие», «ветрянка». Источником болезней считались злые ветры, особенно вихрь. Кроме того, до сих пор во многих местностях считают, что именно по ветру колдуны пускают свои чары и насылают порчу. Вот как описывается пускание килы (болезнь, сопровождаемая внутренними нарывами) в одном из пермских рассказов о колдунах: «Что-то прошептал на палку да и дунул на кончик, чтоб кила-то по ветру понеслась и села кому-нибудь». Такие люди назывались «ветряными». Отсюда поговорка «С ветра пришло, на ветер и пошло», которая, скорее всего, восходит к заговорной формуле, направленной против болезни. Некоторые ветры считались опасными не только для людей, но и для животных. Так, на Псковщине восточный и северо-восточный ветры называли «волкоед», «волкодав» или «волкорез».
Вместе с тем ветер был нужен для приведения в движение ветряных мельниц, для совершения разных хозяйственных и промысловых работ. В случае необходимости его вызывали свистом, а иногда пением. Так, при веянии хлеба – очищении зерен от сора – старухи в Рязанской губернии дули в ту сторону, откуда требовался ветер, и махали руками. В Белоруссии во время затишья мельник, чтобы «запрячь» ветер для работы, вызывал его, бросая горсти муки с верхушки мельницы.
Очень важно было направление ветра в сфере мореходства и в рыболовном промысле. В Архангельской губернии женщины выходили вечером на берег моря для обряда моления ветра, чтобы он помог находящимся на промысле рыболовам. Обычно желаемым здесь был восточный ветер, а опасным считался западный. На следующую ночь женщины отправлялись к берегу реки и били поленом по флюгеру, чтобы он «тянул поветрие», при этом вспоминали трижды девять односельчан или знакомых с плешивой головой и отмечали это число углем на лучинах с поперечной перекладинкой, образующей крест. После этого все шли на задворки и громко кричали: «Восток да обедник, пора потянуть, запад да шалоник, пора покидать тридевять плешей, все сосчитанные, пересчитанные, востокова плешь наперед пошла», – и, встав лицом на восток, бросали свои лучины через голову назад со словами: «Востоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а западу шалонику спину оголю, у востока да обедника жена хороша, а у запада шалоника жена померла!» Затем смотрели: в какую сторону лучины лягут крестом, с той стороны и ожидали ветра. Здесь же, когда нужен был благоприятный северный ветер, за ним «посылали» таракана: для этого его сажали на лучину и пускали в воду. Этот обычай указывает на представления о том, что ветер находится далеко, в конце водного пространства, за пределами этого мира, и, соответственно, на его потустороннюю природу. Сами рыболовы, находясь в море, для привлечения попутного ветра молились св. Николаю и бросали на воду хлеб по направлению к этому ветру.
В народной традиции обращение к ветру использовалось не только в связи с хозяйственными и промысловыми нуждами, но и в случае несчастья и болезни. Один из древних примеров такого обращения представлен в «Слове о полку Игореве» в плаче Ярославны:
О ветр, ветрило! Зачем, господине, так сильно веешь! Зачем мчишь вражьи стрелы на своих легких крыльях на воинов моей лады? Или мало тебе высоко под облаками веять, лелея корабли на синем море! Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял?
Обращения подобного рода широко распространены в заговорной практике. В заговорах образ ветра, зачастую персонифицированный, выступает в качестве помощника: «Уж вы, батюшки ветры, батюшки вихоря, сослужите мне службу верную»; или: «Поклонюсе я, раб божий, ветряному мужу златому телу, четырем ветрам, четырем братьям» Особенно часто образ ветра встречается в любовных заговорах. Вот, например, воронежский заговор «от тоски»:
На море, на Океане, на острове Буяне живут три брата, три ветра, один северный, другой восточный, третий западный. «Навейте вы, нанесите вы, ветры, печаль, сухоту рабе Божьей (имярек), чтобы она без раба Божьего (имярек) дня не дневала, часа не часовала». Слово мое крепко. Вера в разрушительную или благотворную силу ветра обусловила формирование обрядов и магических действий, направленных на его умилостивление. Чтобы задобрить стихию, совершали обряд «кормления» ветра. В качестве дара или жертвы ветру у многих славянских народов, в том числе и у русских, использовали хлеб, муку, крупу, остатки праздничных блюд. Так, например, на Смоленщине лечение болезней, принесенных ветром, включало относ (подарок) ветровому духу, при этом говорили:
Xозяин батюшка, прости раба и рабу.
Вот тебе хлеб и соль и
низкий поклон от раба Божия (имярек)!
Ты, и крестовой [то есть находящийся на перекрестке дорог], и пудовой [устрашающий],
ты, дворовой, и северный,
и южный, и западный,
и всходный, и лесовой,
и полевой, и водяной,
и ночной, и полуночный
и денной, и полуденный,
и все вы, меня, грешного простите
Заговор произносили три раза и трижды обводили краюшкой хлеба вокруг головы больного, а затем хлеб клали около его постели по левую руку.
Оберегом от ветра у русских считались густые веники, которые затыкали под крышей дома. А самой лучшей защитой во время сильного ветра с метелью, когда, по поверьям, на полях играют черти и мертвые выходят из могил, почиталась молитва: «Да воскреснет Бог» Чтобы избежать появления ветра, на Русском Севере соблюдали запрет мотать нитки летом на закате солнца, в Полесье – сжигать старый веник, у украинцев – разорять муравейник. До сих пор повсеместно у русских известен запрет свистеть в доме, иначе, согласно народным представлением, денег не будет, так как они будут «пущены на ветер».
В фольклорном жанре загадки, сохранившем древние мифологические представления, встречаются очень яркие, емкие и точные характеристики природной стихии ветра: «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, траву к земле пригибает». В загадке о дороге и ветре последний представляется таким быстрым в движении, что его никому не догнать: «Есть у дедушки конек – всему свету не догнать, есть у бабушки новинка – всему свету не скатать». Ветер зачастую сравнивается с одним из самых быстрых и сильных животных – конем: в народе о ветре говорят, что он – «жеребец, которого всему миру не сдержать».
В народных представлениях вихрь – это крутящийся ветер, отсюда его другое название «крутень». Он считался нечистым и самым опасным ветром для людей. Мчащийся вихрь имеет вид столба с закрученными в нем соломой, листьями, различными предметами. Чаще всего он представляется черного цвета, с огромными руками, сметающим все на своем пути. По поверьям, в вихре можно увидеть нечистый дух в облике молодого человека; для этого нужно повернуться к нему спиной и взглянуть через левую руку или через рукав или же нагнуться и посмотреть назад между ног. На Русском Севере считали, что вихрь можно ранить, бросив в него нож.
В отличие от ветра, вихрь однозначно воспринимался как злое, враждебное начало, связанное с нечистой силой. Его возникновение связывали с действиями демонических существ, которые могут воплощаться в него. Причиной появления вихря, согласно мифологическим представлениям, может стать также нарушение природных законов и ритуальных запретов. Разрушительная сила вихря воспринималась как реакция природы на нарушение человеком норм поведения. Так, например, вихрь может подняться над оскверненной могилой, разбросать сено, которое накошено в праздник, то есть в неположенное время. В народе также верили, что вихрь поднимается в случае неправильной, нечистой смерти – самоубийства. У русских считали, что вихрь гонит душу висельника. Вихрем же сопровождается смерть колдуна или ведьмы. Под влиянием христианства в некоторых местностях в народе утвердилось представление о том, что вихри – это души грешных людей, которые носятся по земле, не находя покоя. До настоящего времени широко бытуют рассказы о том, что вихрем прилетает домой душа умершего мужа, по которому тоскует вдова. В представлениях русских существует специальный мифологический персонаж, образующий вихрь: в разных местностях его называли «вихорным», «вихравым», «вихриком».
По народным поверьям, в вихре танцуют, справляют свадьбу или дерутся разные представители нечистой силы: черти, ведьмы, лешие, полудницы. На Тамбовщине вихрь считали ветряным духом, у которого имелись сестры Буря, Метель и Вьюга. На них, по народным представлениям, катаются злые духи во время своих свадеб. Живет вихрь с сестрами среди скал на острове Буяне, и их по очереди выпускают на волю.
В Новгородской губернии верили, что леший в образе вихря хватает и уносит с собой проклятых людей. Чтобы утащить младенца, которого прокляли, он может даже проникнуть через печную трубу в избу. Если только проклятый снял с себя крест, принял от лешего еду или в течение буйства вихря родные не смогли его найти с помощью знающих людей, то пропавший исчезает безвозвратно, тоже став вихрем.
Главной особенностью вихря является его вредоносная разрушительная деятельность. Он выворачивает с корнем деревья, срывает крыши с домов, разбрасывает собранное на лугах сено, уносит оставленные на улице и даже находящиеся в закрытом дворе предметы. Встреча человека с вихрем может привести, по народным представлениям, к тяжелым болезням, увечьям, параличу, потере разума, смерти. По поверьям, болезни, полученные от вихря, неизлечимы. В народе до сих пор не редки воспоминания о том, как вихрь безвозвратно унес того или иного человека.
В результате вихря на деревьях появляются своеобразные «колтуны» в виде скопления веток. В Сибири их называли «вихоревым гнездом» или «ведьминой метлой». Эти ветки крестьяне использовали в качестве оберега: подвешивали на скотном дворе, а утром в Чистый четверг ими окуривали скотину. Повсеместно у русских, чтобы оберечь себя при появлении вихря, было принято креститься и произносить молитвы. В Пермской губернии говорили: «Вихрь, тебе дорога, мне другая». На Вологодчи-не, пытаясь остановить вихрь, к нему обращались со словами: «Аминь, аминь, аминь, рассыпься!» Здесь же существовал запрет во время вихря бросать нож, что, по поверьям, могло привести к несчастью. Когда случалась буря, крестьяне старались не есть, так как считалось, что нечистая сила, находящаяся в вихре останавливается там, где чувствует еду. На Русском Севере верили, что вихрь может появится, если кто-нибудь свистит; поэтому здесь, особенно у промысловиков, находящихся в море, всегда строго останавливали свистящего.
Вместе с тем к вихрю, как и к другим природным стихиям, нередко обращались в магических обрядах. Так, как и к ветру, к вихрю обращались в заговорах, чтобы «отсушить» нелюбимого человека, то есть уничтожить его любовь. Вот пример сибирского заговора такого типа:
Пойду я в поле на травы зелены, на цветы лазоревы. Навстречу мне бежит дух-вихорь из чистого поля со своею негодною силою, с моря на море, через леса дремучие, через горы высокие, через долы широкие; и как он бьет травы и цветы ломает и бросает, так же бы раб Божий (имярек) бил, ломал раба Божьего (имярек) и бросал, и на очи не принимал, и до себя вплоть не допущал, и казался бы тот человек пуще змея лютого, и жгло, и палило бы его огнем, громом и молнией. Тому слову моему нет края и конца, ни переговору и недоговору. Образ вихря встречается в русских сказках, где он обычно похищает царевну и уносит в тридесятое царство. Известен также сказочный герой Вихорь Вихоревич, который, соответственно традиционным представлениям о природной стихии, наделен волшебной богатырской силой.
В земледельческой культуре русских крестьян мороз воспринимался как важная природная стихия, с которой необходимо было поддерживать добрые отношения, чтобы обеспечить хороший урожай. Ведь несвоевременное появление мороза может испортить или полностью уничтожить посевы. В мифопоэтичес-ких текстах восточных славян стихия мороза персонифицируется в образе старика низенького роста, с длинной седой бородой, который бегает по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Народные поверья о морозе у русских нашли отражение в различных жанрах фольклора. В загадке о морозе «Дедушка мост мостит без топора и клиньев» он представляется как необычный мастер, нерукотворно и без инструмента создающий свои творения. Эта стихия обладает огромной силой, о чем свидетельствует поговорка «Мороз и железо рвет и на лету птицу бьет». Даже небольшой мороз всех лишает спокойствия: «Мороз невелик, да стоять не велит».
В сказках мороз выступает в функции помощника сказочного героя, которому для выполнения трудных задач оказывается необходима помощь мифологических существ, способных управлять природными стихиями. Этот помощник называется Трескуном или Студенцом и изображается в мужском облике. В одной из сказок это старик с завязанной головой. Когда его спрашивают, почему у него завязана голова, он объясняет: «Волосы завязаны; как их опущу, так и сделается мороз». Иногда в сказках у Мороза-Трескуна шляпа надета на одно ухо, и когда сказочный герой ругает его за это, тот отвечает: «Если я надену шляпу прямо, то будет страшный мороз и птицы упадут мертвыми на землю». Мороз здесь предстает как персонаж, воплощающий образ хозяина погоды, который наделен губительной силой, но в то же время, зная о ней, заботится о живых существах, могущих пострадать от этой силы. В некоторых сказках облик Трескуна как будто не соответствует его силе: «идет старик старый, старый, сопливый, сопли, как с крыши висят замерзши, с носа висят», – но только он может помочь герою выполнить задачу царевны, желающей извести товарищей в жарко натопленной бане: помощник «живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул – вся баня остыла, а в углах снег лежит». Всем известен также и сказочный персонаж Мороз-ко – строгий, но справедливый старик, наказывающий невежливых и ленивых героев и одаривающий тех, кто ведет себя правильно. Мороз не случайно изображается и называется стариком: в сказке как жанре, отражающем мифологические представления, эта характеристика указывает на возраст в рамках не человеческой жизни, а существования мифологического персонажа. Мороз в этом плане оказывается не просто старым, а древним, то есть принадлежащим к временам первотворения.
В традиционной культуре русских вплоть до начала XX века сохранялся обряд кликанья мороза – зазывания его на трапезу и угощения ритуальной пищей. Этот обряд приурочивался к некоторым переломным моментам в году, прежде всего к святочному периоду. Во Владимирской и Псковской губерниях мороз кликали в канун Рождества, на Смоленщине – в Васильев вечер, кое-где на Псковщине – в крещенский сочельник. Период Святок, захватывающий конец старого года и начало нового, осмыслялся в народной традиции как значимая временная точка, определяющая будущее, и как сроки безраздельного господства холодов. В русской традиции существовали представления о своевременности холодов, которые так и назывались «рождественские» и «крещенские» морозы. В народных приметах их наличие или отсутствие связывались с будущим урожаем или неурожаем. В Московской, Владимирской, Калужской, Новгородской, Тверской губерниях обряд кликанья мороза совершали в Сороки, Чистый четверг или на Пасху – праздники, отмеченные в крестьянском сознании как рубежи времен года – зимы и весны, – когда наступает пора убывания холодов.
Обряд зазывания мороза представлял собой вынос ритуальной пищи в определенное место и время, при этом произносилась специальная приговорная формула. Исполнителем обряда был, как правило, старший в доме по возрасту и статусу – хозяин или хозяйка. В рамках суток кликанье производилось в полночь – перед сочельническими трапезами в Святки, утром – после пасхального разговления или после приготовления обрядовой пищи в Чистый четверг, или днем – во время праздничного обеда в Пасху.
Пища, которой угощали мороз, являлась обязательным блюдом праздничных трапез. У русских наиболее распространено было кормление мороза овсяным киселем; но в западно-русских местностях – в Смоленской и Псковской губерниях – мороз зазывали, как и у белорусов, на кутью. В качестве угощения могли использовать и блины. В начале XX века в некоторых местах мороз закликали уже не с обрядовой пищей (кутья, кисель, блины), а с тем, что было на праздничном столе: похлебка или щи. Вот как кликали мороз в Псковской губернии:
Дед-Мороз, Дед-Мороз!
Приходи блины есть и кутью!
А летом не ходи, огурцы не съедай,
Росу не убивай и ребятишек не гоняй.
Если обряд совершался до трапезы, то морозу отдавали первую ложку кутьи или киселя; если же по окончании – то выносили остатки обрядового блюда. Так, во Владимирской губернии кисель готовили в Чистый четверг и сохраняли его до Пасхи. В Пасху же разговлялись прежде всего киселем, а после обеда хозяин выносил его остатки на улицу или раскрывал окно и приглашал мороз.
Места, где совершалось кликанье мороза и где оставляли для него еду, имели особое значение для крестьянского сознания. Зазывали в открытое окно или выходили на порог, крыльцо, в огород. В Московской губернии звали мороз в открытую печную трубу. Кисель или кутью оставляли также на окне снаружи, относили в подпол и ставили на подпольное окошко, выплескивали через порог на улицу или выливали в огороде. Все эти пространственные ориентиры в мифологических представлениях имеют значение границы между «своим» и «чужим» мирами (окно, порог, крыльцо), являются «каналами» связи между «мирами» (печная труба) или местами, где могут появляться представители «иного» мира (подпол – нежилая часть дома; огород, улица – «чужое» пространство за пределами «своего» – дома).
Смысл обряда кликанья мороза в значительной мере объясняется в его словесном оформлении:
Мороз, мороз,
Ступай к нам кисель есть;
Не бей рожь и житарь,
А на посконь воля твоя.
Важным в приговорах является приглашение прийти «сейчас», то есть когда совершается обряд, и поесть киселя или кутьи. Далее в приговоре обычно следует просьба не приходить в другое время – летом, ранней весной, – чтобы не морозить овес и рожь, не съедать огурцы, не убивать росу, не морозить «курчат» (цыплят), поросят, ребят. Иногда в ритуальных приговорах звучит пожелание, чтобы мороз оберегал посевы: «Мороз, мороз, поди к нам кисель с молоком хлебать, чтоб тебе наше жито и поле оберегать, градом не бить, червем не точить и всему бы в поле целу быть». По всей видимости, забота мороза состоит в том, чтобы не приходить в неурочное для него время. Поэтому в приго-ворных текстах часто содержится отсылка мороза лежать под гнилой колодой, что в мифопоэтических представлениях означает «находиться за пределами «этого» мира», то есть «не быть». А в некоторых приговорах даже звучит мотив угрозы морозу: «Цепом голову проломлю, метлой очи высеку!»
Таким образом, очевидно, что обряд кликанья мороза является земледельческим ритуалом, имеющим целью воздействовать на мороз как природную стихию. Но поскольку хозяйственная деятельность крестьянина не ограничивалась лишь основным занятием – земледелием, в приговорах появляется и мотив общего благополучия в хозяйстве: чтобы не поморозились не только посевы, но и домашние животные, и дети.
В Рязанской губернии угощение мороза совершалось не в обрядовой, а в игровой форме. Сам мороз изображался колядов-щиками, которые ходили по домам, требовали угощения и угрожали, если в угощении откажут. Так, колядовщики обращались к хозяину дома: «Подай-ка чарочку; а не поднесешь чарочку, – я преподнесу тебе палочку: я – мороз – и помолочу твой овес». Xозяин на это отвечал: «Ой, мороз, мороз, на тебе чарочку – ты не трожь мой овес, гречиху да рожь; а лен, канапи [коноплю], – как хочешь молоти!»
Кормление мороза во многих местностях совершалось не только в Святки, но и в дни, связанные со встречей весны, когда крестьяне начинали непосредственно готовиться к посевным работам. Так, в «Сороки» – 9/22 марта – в Новгородской губернии хозяйки пекли 40 «орехов» – шариков из ржаной и овсяной муки, и, начиная с этого дня, бросали ежедневно по одному ореху на улицу, призывая мороз: «Мороз, Красный нос! Вот тебе хлеб и овес! А теперь убирайся по добру, по здорову» Это сорокадневное кормление мороза связывалось с народной приметой о том, что после 9 марта бывает еще 40 ночных заморозков.
Архаичные представления о взаимодействии природной стихии и человека, которые прослеживаются в обряде кормления мороза, нашли подобное ритуальным действиям отражение и в сказке, где Трескун, выступающий в роли помощника, обращается к герою: «Кобылин сын, покорми мене хлебцем, я тебе худым временем пригожусь».
Среди представлений о морозе следует упомянуть шуточное поверье, связанное с поговоркой «На двенадцатой плеши мороз лопается»: в жестокий мороз крестьяне, шутя, старались насчитать двенадцать плешивых людей, после чего как будто бы должен уменьшиться холод. Если вспомнить близкий по форме обряд поморских женщин, направленный на смену опасного ветра попутным, также включающий пересчитывание двенадцати плешивых односельчан, можно предположить, что некогда поверье об усмирении стихии холода было не шуточным, а операция пересчитывания имела значение магического действия.
Традиционные представления о морозе как природной стихии зимнего периода, которая персонифицируется в образе старика, характеристики сказочных персонажей, связанных с этой стихией, наряду с влиянием западноевропейских рождественских обычаев, легли в основу формирования в конце XIX – начале XX веков в русской городской среде образа Деда Мороза как сезонного (рождественского) мифологического персонажа. Позднее в связи с сужением времени празднования перехода от старого года к новому – от двухнедельного святочного периода до одной ночи с 31 декабря на 1 января – Дед Мороз превратился в символ праздника Нового года, каковым остается и по сию пору.