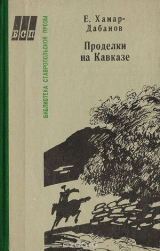
Текст книги "Проделки на Кавказе"
Автор книги: Е. Хамар-Дабанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Пшемаф, ощупав шапку, заметил, что над внутреннею овчиною и над хлопчатою бумагою, под наружным сукном находилась защита из кольчуги. Это ему очень нравилось, но он отдал шапку, не смея ее похвалить, дабы не получить в пешкеш (подарок) и потом не быть обязанным отдать в свою очередь разбойнику все, что ему вздумается похвалить, начиная от лошади Пшемафа до бешмета. Таковы обычаи черкесов! Если кунак его кунака похвалит какую– либо вещь, приличие требует, чтобы он тотчас предложил ее в подарок; не взять – значит оскорбить дарящего.
Мустафа прекратил эти боевые воспоминания, сказав разбойнику:
– Али-Карсис, я желал с тобою видеться, чтобы уговорить на услугу вот кунаку моему. Он молодец! Ты сам его видел в бою, следственно, его достало бы не на такую безделицу, о которой идет теперь речь; но он русский офицер, подвергнет себя ответственности, если сам возьмется за то, о чем я хочу тебя просить.
– Ага! Друзья! Вы все уговариваете нашего брата жить в ладу с русскими, а теперь сами сознаетесь в невозможности делать, что вам нужно; чем же ваше положение лучше нашего? Вы так же бедны, как и мы, или еще беднее, должны водить хлеб-соль с гяурами, со свиноедами. Начальники сажают вас на гауптвахту, отдают в солдаты, ссылают в Сибирь, барантуют, когда захотят, так же, как и нас, принуждают драться с единоверцами; если же убьют кого в деле, вас ждет ад по завещанию пророка; между тем как мы, сражающиеся против гяуров, когда удостаиваемся погибнуть на поле брани, нас ожидают в раю гурии, вечные радости и наслаждения. Притом вы принуждены прибегать к нам в своих делах, требовать от нас помощи и услуг; нет, друзья, я вижу, вы большие простаки, променяли разгульную свободу на бедственную жизнь! Ну, Мустафа, говори, в чем дело?
– Вот в чем, Али-Карсис Пшемаф хочет жениться на подвластной князя Шерет-Лука, на красавице Кулле; но князь не берет за нее калыма и бережет для себя. Украсть ее Пшемафу невозможно, я тебе сказал почему; заплатить калым кому бы то ни было для него все равно, а потому он предлагает тебе украсть Кулле: взять калым и выдать ее за него замуж. Если ты согласен, что возьмешь за такую услугу?
– А кто тебе сказал, что Шерет-Лук бережет Кулле для себя? Небось, продавец Джам-Ботовой крови! Знай же, он все лжет! У Шерет-Лука есть имчёк (молочный брат, родство, чрезвычайно почитаемое черкесами), который имеет канлу* с сильным семейством, объявившим, что вместо платы, положенной шериатом** за пролитую кровь, оно примет Кулле в жены для старшего сына. Плут Шерет-Лук, желая извлечь из этого свои выгоды и вместе с тем помирить своего имчека с семейством убитого, подговорил одного из под властных своих сватать Кулле и давать за нее сто коров, между тем как кровь убитого оценена только в семьдесят; следовательно, он требует с того семейства тридцать коров в придачу. Кулле знает молодца, который сватается за нее, и ненавидит его, она готова скорее покуситься на самоубийство, чем выйти за него замуж. На днях красавица подсылала ко мне родного брата своего умолять, чтобы я увез ее, обещая чтить меня, как отца и благодетеля. Бедняжка! Ведь она круглая сирота, некому и защитить ее, брат слишком молод, а я с покойным ее отцом был искренний кунак.
После этого предисловия Али-Карсис объявил согласие на содействие и, по обыкновению черкесов, заломил ужасную цену, нагло уверяя, что из взятого им у Пшемафа он ничего не оставит себе, но отдаст все в калым Кулле. Сердце Пшемафа возмутилось при мысли, что такое милое создание, какова Кулле, так несчастна и что завтра же, быть может, ее отдадут в замужество за человека, которого она ненавидит. Еще несколько дней —и несчастная будет в объятиях другого! Мысль удушливая не только для пылкого азиатца, но и для европейца, у которого, кроме любви, есть тысяча предметов для развлечения – и тщеславие, и властолюбие; и чинолюбие, и наградолюбие, и рублелюбие.
* Канла – кровавое мщение, которое у обитателей Кавказа преследуется до десятого колена. Странно, что подобный обычай еще в недавнее время существовал у корсиканских горцев и что там и здесь место, где пала жертва канлы, обозначается кучею хвороста: обыкновение требует, ч^обы каждый проезжий срезывал прутик и бросал в кучу; этим она всегда поддерживается и даже увеличивается.
** Когда случится убийство, тогда сзывают шериат—род третейского суда, составляемого из почетных стариков; выбранных с обеих сторон и нескольких беспристрастных духовных лиц. Шериат определяет цену, которую убийца должен заплатить семейству убитого; когда назначенная сумма выплачена, тогда кровомщеНие прекращается; но дотоле каждый родственник убитого, до десятого колена, обязан искать крови убийцы, и где бы его ни встретил, закричав: канла за такого-то, чтобы дать время приготовиться к отражению, нападает на него. Шериат решает общественные и частные дела—это единственное верховное судилище горцев. Законы, руководствующие шериатом, суть алкоран и предание старины. Положенное шериатом свято выполняется.
Все это предметы, которые сосредоточивают его помышления, действия, усилия. Однако и это холодное-существо, если полюбит истинно, горячо, то содрогается при мысли, что другой будет обладать предметом его любви. Можно вообразить себе поэтому, какие чувства терзали грудь влюбленного черкеса, когда в нем родилось опасение, что Кулле достанется в удел другому! Черкес иного развлечения, иных страстей, кроме любви, не знает. Он выше всего ставит силу физическую, искусство владеть скакуном и бранным оружием. Достигнув этого, он никого не считает выше себя и думает, что он непобедим один на один. В обыкновенных случаях жизни он не ощущает личной вражды, кроме той, которая возбуждена ревностью. Даже к ужасной, кровавой мести он побуждается из слепого, фанатического последования обычаям и мнениям народным, к чему еще более подстрекают его старики. Понятно, до какой степени воспламеняется в нем любовь, нередко усиливаемая ревностью, ужасною, палящею страстью, ничем не одолимою, кроме престарелой дряхлости, гнусного честолюбия или непростительной корысти, и то в странах, где лоск образования полирует страсти.
Пшемаф готов был согласиться на чрезмерные требования Али-Карсиса, но, не имея необходимой суммы, думал о том, каким образом склонить разбойника к согласию получить уплату по частям. Мустафа вывел, однако, его из недоумения, начав выговаривать разбойнику за непомерные желания.
– Ну хорошо, Мустафа,—возразил Али-Карсис,– положи сам цену, которую мне просить. Ведь с тобою спорить нельзя, завтра могу быть ранен, и шлю за тобрй, ты скажешь: он не хотел уважить моей просьбы, я не обязан исполнять его требований,– и мне придется умереть хуже собаки. Однако, назначая цену, не забудь, что дело трудное. Если удастся увезти Кулле – будет непременно сильная погоня и еще могут ее отбить. Я знаю, что из товарищей мало найдется охотников помочь мне: добычи никакой не предстоит, а дело-то завяжется горячее. Пожалуй, еще перебьют, да лошадей поранят; а там посмотришь, нужно ехать на добычу —кому не на чем, кому нельзя от ран.
Вот если б негодяя Шерет-Лука отправили на тот свет, тогда бы и дело с концом. Пшемаф взял бы арбу*, просто приехал в деревню, посадил бы в нее Куле и женился.
♦ Арба – повозка на двух колесах, употребляемая туземцами на Кавказе.
Ты знаешь, Мустафа, как опасно не только убить, но даже ранить владетельного князя. Все подвластные его объявят тебе тотчас канлу, везде станут искать и, наконец, когда найдут, не оставят в живых. Если б можно было свести Шерет-Лука с Шан-Гиреем, так один другого уж непременно уходил бы —у них давнишняя вражда. Между тем они равные князья, стало быть, могут резаться сколько угодно.
Мустафа склонил, наконец, разбойника на похищение Кулле за очень умеренную цену. Али-Карсис требовал деньги тотчас, обязуясь в случае неудачи возвратить их назад. Он хотел получить их в тот самый день, потому что видел сон, предвещавший ему хорошее, и не желал обмануться в своих надеждах. Но кабардинец не имел с собою денег и потому предложил карамзаде ехать с ними в станицу. Разбойник недоверчиво посмотрел на него и спросил: не хотят ли они выдать его русским? Мустафа клялся, что никто его не тронет; Пшемаф уверял, что сам полковник очень желает его видеть. Разбойник отвечал:
– Точно хочет! Этот полковник честный и хороший человек! Я могу без опасения к нему ехать; к тому же я видел хороший сон, нынче счастливый для меня день! Согласен, еду! Только возьму с собою одного товарища.—И обращаясь к находившемуся тут черкесу, приказал привести лошадей. Покуда последний побежал за мыс, они спустились втроем к речке, разделись, совершили омовение и стали класть намаз.
Вскоре привели разбойнику статного, серого коня в яблоках, вывезенного, как скаковая лошадь, с большими ушами, сухожилою головою, словом – со всеми статьями, составляющими ценность и достоинство лошади. Али-Карсис отозвал в сторону пришедшего товарища, поговорил с ним вполголоса, осмотрел кремни и полки своего ружья, равно и у пистолетов, обвешанных кругом пояса, шомполом ощупал, не выкатились ли пули, и, наконец, лениво взобрался на коня. Но едва сел он в седло, как вмиг оправился, замахнулся плетью по воздуху, и конь понесся стрелой. Проскакав несколько шагов, всадник остановился, круто повернул лошадь на передних ногах, заставил ее откинуть зад и дал вздохнуть, опять замахнулся плетью и повторил то же. После того шагом поехал он вместе со спутниками. Товарищ его на красивом, также надежном коне проделал то же, но не столь ловко, присоединился к ним, и все вместе поехали по направлению к Кубани.
Разговор между всадниками не был занимателен. Предметом его были воспоминания боевые. Черкесы, как и казаки, когда едут по стране, где каждое место напоминает им какое-нибудь воинское событие, разговаривают между собою о сражениях, указывают на места, где некогда была погоня, где прорыв. Али-Карсис указал место, где убит один из его товарищей, и восхвалял достоинства покойника. Рассказывал, на каком месте погоня настигла его и как отчаянно он защищался. Пшемаф, со своей стороны, говорил о своих похождениях во время преследования хищников. Таким образом, все четверо доехали до Кубани. Кабардинец требовал паром; покуда его затягивали по уберегу, урядник в сопровождении двух казаков с переправного поста вмиг переехал реку на каюке* и, подошел к Пшемафу, спросил:
– Как прикажете, ваше благородие: переправить этих азиатцев?
– Конечно, переправить.
– А как о них дать знать кордонному и полковнику?
– Послать Сказать, что я переехал с тремя кунаками, полковник уже знает.
– Слушаю, ваше благородие!
Каюк понесся обратно. Урядник махнул рукою паромщикам в знак, что они должны ехать за приезжими.
Наши всадники переправились через Кубань и поехали к Пшемафу на квартиру. Вскоре пришел туда ординарец полкового командира просить Пшемафа привести к нему своего гостя.
Николаша сидел у полковника, когда ординарец возвратился с ответом, что Али-Карсис будет сейчас у него.
– Ну, Николай Петрович! Вы все расспрашивали о хищниках, вот теперь увидите первого закубанского разбойника, известного по всей линии и славящегося в горах. Он щадит мой полк, зовет меня хорошим полковником и давно уже обещал побывать у меня... только все не находил случая. Я надеюсь склонить его к миру с нами —черт возьми! Ведь славно было бы, только очень трудно: с одной стороны, по недоверчивости он не вдруг согласится на это, с другой – кордонный начальник зол на него и мстит ему, впрочем, черт побери! Что бог даст, то и будет! А правду сказать, молодец! Какой умный и отчаянный! Как он сумел заставить себя уважать единоземцами! О нем идет молва, будто пуля его не берет, будто он заговаривает их.
* Каюк – выдолбленное дерево, заменяющее лодку и имеющее чрезвычайно быстрый ход на воде; гребцы стоймя гребут то с правой, то с левой стороны, смотря по надобности.
Разве не опасно пускать к себе такого человека, полковник?– спросил несколько смутившийся Николаша.
– Фуй, черт побери! Что за опасно, когда он у меня в гостях! Он скорее подставит за меня голову, чем кого– либо тронет или оцарапает,– так в наших местах водится. Вот если б хотели его здесь арестовать, ну – тогда наделал бы он шпектакль, уж живой не достался бы в руки! Не только подобный ему молодец, но и самый дрянный черкес в таком случае наделал бы нам тревоги; однако я забыл послать за переводчиком.
Полковник подозвал ординарца, приказал ему сходить за урядником-толмачом; потом, обратясь к Николаше, спросил, видел ли он этого казака. Получив отрицательный ответ, он сказал:
– Вот молодец! Любимец вашего брата! Признаться, нельзя его не отличать: красив собою, храбр, как черт, расторопен, славный наездник, отличного поведения,, честен, как нельзя более, к тому же услужлив – это лучший у меня урядник. Он из азиатцев; служил прежде в другом полку, но там его притесняли и, наконец, вынудили бежать в горы. Он пристал к шайке абреков и вскоре сделался известным разбойником, грабил на линии, снимал пикеты, а между тем все просил прощение за побег, ибо семейство его оставалось в нашей власти. Наконец ему позволено было возвратиться на линию: он приехал и определился казаком ко мне в полк. «Черт возьми! – подумал я,—что мне будет делать с таким сатаною?» – и ожидал все спектакля! Ничуть не бывало, вот восемь лет, как он в полку, произведен в урядники и чрезвычайно полезен по службе.
Едва кончил полковник свою речь, как в комнату вошел высокий, стройный, прекрасный собою мужчина с окладистою бородой, в черкеске, с кинжалом за поясом.
– Здравие желаю, ваш высокоблагородие! Требовать изволили.
– Здорово! Подожди-ка здесь; сейчас Али-Карсис будет сюда.
– Как, ваш высокоблагородие! Али-Карсис, карамзада?
– Да, он самый.
– Как он сюда попал? Ведь он был лучший мой кунак.
– Ну, так он тотчас придет ко мне в гости.
В это мгновение дверь отворилась. Вошел Пшемаф, за ним лекарь Мустафа, потом Али-Карсис, а позади всех товарищ разбойника.
Али-Карсис был очень высокого роста, чрезвычайно широк в плечах и тонок в перехвате. Судя по лицу, ему можно было дать лет сорок. Он не был вовсе худ, но мог назваться сухим мужчиною. Черты лица его были правильны; подстриженная, черная борода соединялась с усами, нос продолговатый, румянец здоровья пробивался на смуглых щеках. В его лице не было ничего особенно замечательного, кроме дерзкого взгляда. Черные, блестящие глаза, несколько нахмуренные от повисших густых бровей, придавали его лицу выражение, вселявшее невольные опасения. Взгляд будто говорил, что он не умеет покоряться, а знает только повелевать. Никогда и ни от чего взор его не опускался, он смотрел смело и самонадеянно, но выражение лица его менялось, когда он сводил глаза с одного предмета на другой. В нем обнаруживалось какое-то пренебрежение ко всему. Одежда карамзады состояла в простой длинной черкеске темного цвета, из-под которой на груди блестела на белом бешмете кольчуга. Руки также были защищены кольчатыми наручами, приделанными к налокотникам; из-под наручей виднелась пунцовая материя, которая предохраняла тело от трения о сталь. Восемнадцать патронных хозров, заткнутых обернутыми в тряпки пулями, вложены были по обеим сторонам груди в гаманцы черкески. Длинные рукава, оборванные к концу, служили доказательством, что разбойник, находясь в горячих боях, выпустив все хозры, вынимал запасные заряды и, не имея чем обернуть пули, рвал, как водится, концы своих рукавов. Черкеска его в некоторых местах была прострелена и не зачинена. По черкесскому обычаю, там не кладут заплат, где пролетела пуля. Удары шашки обозначались узкими сафьянными полосами, нашитыми изнанкою вверх на тех местах, где было прорублено. В правом гаманце виделся рожок с порохом; на поясе висел большой кинжал с рукояткою из слоновой кости; рядом с кинжалом заткнут был спереди пистолет, другой виделся на правом бедре, а третий был заложен сзади за пояс шашки. Войдя к полковнику, он придвинул этот пистолет наперёд, придерживая за выгиб правым локтем – азиатская привычка, происшедшая от опасения, чтобы враг не выхватил внезапно оружия! Спереди к правому боку висели серебряная жерница, сафьянный мешочек с запасными пулями и кремнями и большой черный рог с порохом. На левом боку была шашка. Из-под черкески виделись ноговицы из темного сукна с красною нашивкою для прикрытия той части ноги, которою всадник касается до коня. На ногах были желтые вычетки*, а сверху красные чевеки** с серебряною тесьмою на швах, на голове черкесская шапка с белым околышем из длинношерстной овчины, ружье осталось на квартире Пшемафа. Товарищ Али-Карсиса носил почти тоже одеяние, с тою только разницею, что шапка его была опушена черною овчиною; он казался человеком лет тридцати, был довольно строен и очень смугл; в беглых маленьких глазах его выражались хитрость и лукавство; каждый из них держал в руке плеть, а на большом пальце правой руки имел стальное кольцо, необходимое, чтобы взводить курок и при стрельбе наскоро выдергивать ружейный шомпол из ложи. Когда Али-Карсис вошел, полковник встал с места и, подошел к нему, сказал:
– Здравствуй, Али-Карсис! Давно уже мне хотелось видеться с тобою; кажется, нам друг на друга не за что сердиться.
– Али-Карсис благодарит ваше высокоблагородие,– молвил переводчик,—и говорит, что сам давно желал свести с вами знакомство, но все не было случая. Ваше имя в уважении у. черкесов; они вас любят и хвалят; лишь только карамзада узнал, что вам желательно его видеть, он без опасения тотчас приехал.
– И прекрасно сделал!—отвечал полковник.– Он здесь так же безопасен, как у себя в доме. Очень желал бы, чтобы ему слюбилось с русскими и чтобы он, наконец, покинул свою трудную, опасную жизнь.
– Али-Карсис находит,—говорил толмач,—что в его настоящей жизни нет более опасностей, чем в другой: человек не вечен, и смерть, когда час настанет, найдет везде свою жертву равно на постели, как и в. бою; а покуда судьба над человеком не свершится, для него так же безопасно быть в сражении, как и дома. Он сам находит избранную им жизнь несносною; но делать нечего! Али-Карсис был прежде мирный, богат и слыл лихим молодцем. Его увлекли злые люди к воровству лошадей и грабежам разного рода по линии; потом с него же без пощады тащили разные пожитки, будто желая задарить начальство и потушить какое-либо подозрительное дело, за которое грозит ему ссылка в Сибирь. Видя, что таким образом его состояние приметно истощалось, он начал отказываться ездить на хищничество.
* Черкесская обувь из сафьяна, заменяющая носки.
•• Черкесская обувь, надеваемая сверх вычеток,
Тогда ему сделалось еще хуже прежнего: сильные сообщники не переставали его притеснять; наконец, еще и возобновили два затёртые дела, где все подозрения падали весьма справедливо на карамзаду, который по наущению тех же сообщников увел казачьи табуны; хотя сами они, выбрав из них лучших лошадей себе, отправили в полумирные дальние аулы. Однажды проведал кунак разбойника, что Али-Карсис на следующий день должен быть представлен и отправлен к суду в город, и оттуда в Сибирь. Узнав об этом, Али-Карсис бежал в горы. Имение его разграблено было сообщниками. Ему ничего не оставалось более делать, как пуститься на разбой, чтобы содержать себя грабежом. Теперь, если б он и захотел покинуть трудное свое поприще, не может, потому что, во– первых– не имеет, чем жить, во-вторых – прежние друзья, видя в нем человека опасного, который может открыть начальству все их поступки, подкупят убийц и лишат его жизни.
– О! Не думай так, Али-Карсис!– возразил полковник.—Нет ничего, кроме бога, милостивее нашего правительства и милосерднее отца нашего, великого царя. Ты сам должен это знать из множества примеров над твоими единоземцами.
– Да разве нашему брату затевать тяжбы?—спросил Али-Карсис с язвительною улыбкою.– За Кубанью боятся писать бумаги против сильного врага: как раз подошлет убийц и истребит тех, которые думают приносить жалобы.
– Что об этом говорить!– молвил полковник.– Скажи– ка лучше, давно ли ты делал прорыв на линию?
– Давно! Теперь не время, лошади не в силе.
– Так везде спокойно?
– Везде; только на днях где-то выше удалось семи воришкам переправиться за Кубань, захватить в плен одного казака с двумя лошадьми да женщину с прехорошенькой девочкой; они возвратились восвояси, не будучи никем замечены. Уверяют, будто девочка родом тавлинка. Откуда возьмется здесь тавлинка?
– Где же эти пленные?
– Близ моей деревни.
– Нельзя ли их выкупить?
– Казака и женщину можно, а девочку не думаю: ее купил набожный старик, который ни за что не согласится отдать правоверную русским – ведь наши старики боятся, чтобы дети не забыли своей веры. Чего доброго, она, пожалуй, погубит свою душу!
– Девочки мне не нужно, а о казаке и женщине я узнаю, те ли это, о которых я думаю. Пожалуйста, Али-Карсис, сторгуй их и дай мне знать, чем ты кончишь.
– Хорошо.
–Кто же, полагаете вы, полковник, могут быть эти пленные?—спросил Пшемаф.
– Разумеется, люди, провожавшие маленькую тавлин– ку Александра Петровича!
– Неужели они?
– Непременно!
Пшемаф задумался; потом предложил Николаше выкупить любимицу своего брата, но этот очень сухо отвечал, что в такие дела не входит; девочка ему не нужна, а денег у него столько нет, чтобы сорить на подобный вздор. Кабардинец говорил об удовольствии, которое принесет Александру выкуп Айшаты, но все убеждения его были напрасны – Николаша не хотел их слышать. Если брат выздоровеет, то сам сможет распорядиться, как хочет. Видя, что от него ничего не добьется, Пшемаф обратился к полковнику с тою же просьбою, но старик думал лишь о своей обязанности – выкупить казака и женщину. Исполнив ее, он обещал не упустить случая сделать приятное и Александру Петровичу.
Это успокоило молодого кабардинца, который рассчитывал, как бы воспользоваться присутствием Али-Карсиса и выкупить посредством его Айшату. Александру Петровичу говорить о том было невозможно, он лежал в горячке; одна надежда Пшемафа была на отца Иова. Но священник снабдил малютку деньгами при отправлении, быть может, последними. Пшемаф решился на одно средство* которое оставалось: отказаться от Кулле и употребить деньги на выкуп Айшаты. Он пошел от священника опять в дом полкового командира и, найдя в комнате одного Мустафу, сообщил свое намерение, одобренное лекарем.
Разбойник и переводчик скоро возвратились назад. Полковник, желая угодить Али-Карсису, предложил ему яства, но последний отказался под предлогом уразы*, простился со стариком и вышел.
Пшемаф просил карамзаду отложить на время похищение Кулле и отдал ему деньги на выкуп тавлинки. Разбойник взял их, но предупредил кабардинца, что, быть может, возвращение девочки замедлится несогласием ее хозяина; а чтобы украсть Айшату, надобно прежде с нею ознакомиться.
• У раза – весенний магометанский пост, так называемый от имени праздника, его оканчивающего.
Он хотел на днях побывать опять по одному делу у полковника и тогда дать ответ Пшемафу. После этого Али-Карсис отправился с товарищем обратно за Кубань.
Александр Петрович поправлялся от горячки, но рана его была еще в худом положении: все предвещало, что он должен лишиться руки. Николаша день ото дня скучал более и более: досада, что ему не шлют денег из дому, опасение остаться по этой причине слишком долгое время в этой скучной станице —все раздражало его. В самом деле, что могло его тут развлечь? К занятиям он не привык, не любил деятельности, был слишком ленив и холоден душою, слишком равнодушен, чтобы извлечь приятное из этой военно-сельской жизни, в которую попал почти поневоле. Еще прежде не радовали его даже шумные удовольствия большого света; в нравственном отношении он был подобен людям, доведенным болезнями и сильными лекарствами до того, что на них не производят действия ни испанские мухи, ни алкоголи. Дружбы к брату, как и ни к кому на свете, он не питал, а старался угождать отцу и матери лишь потому, что ему нужны были деньги. Мечтал он, будто любит Елизавету Григорьевну, но в этом только обманывал себя: все чувства к ней заключались в самолюбии, удовлетворенном том, что она отличала его одного из всей среды поклонников. Тоска томила его, он сделался тягостным не только для себя, но и для других. Александр всеми силами старался развлечь брата или по крайней мере заставить его неприметно убить время; устраивал для него охоты разного рода; предлагал ему своих лошадей. Это делал он из сожаления, или только чтобы в собственных глазах скрыть омерзительную картину того низкого малодушия, того душевного разврата и падения, которые не холодны к одному мелочному расчету и взвешивают выгоду каждого шага, движения, слова. Николаша не постигал однако ж наслаждения предаваться воле скакуна и мчаться свободному, как воздух, куда глаза глядят, безотчетно рыскать по полям, ровным, как ладонь, или укрощать дикого коня. Такое наслаждение не было доступно ему; он не способен был ощущать того самодовольства, которое происходит от сознания в себе силы и могучей воли, обуздывающих неукротимое животное. Новизна нравов, среди которых он находился, не возбуждала его внимания. Он дивился, почему брат его сожалеет, что не видел Али-Карсиса, человека совершенно дикого, вовсе не занимательного в комнате и опасного в поле, но более всего изумляла Николашу привязанность Александра к двум пленным детям, не приносившим ему никакой существенной пользы. Он почитал это верхом малодушия, удивлялся, как человек, преодолевший столько бедствий, может до того быть слаб и постоянно нежен к двум ничтожным существам, что впал в горячку по глупости одного из них, которому^вздумалось наскочить на пулю! Все вместе, столь противоположное с его образом мыслей, заставило нашего героя потерять уважение к брату. «Нет, Александр пустой человек! Довольно глуп и очень малодушен!»—так рассуждал он про себя.
Оба брата желали расстаться, но судьба, будто наперекор связывала их. Александр решился не заботиться о развлечениях брата и возвратиться к прежней жизни, к своим занятиям и привычкам. Узнав, что Али-Карсис должен быть опять в станице, он поспешил взять слово от лекаря Мустафы привести разбойника к нему.
Полковник, услышав, что Александр выздоравливает, пришел его навестить.
– Не вовремя, Александр Петрович, занемогли,—сказал он,—а у меня был Али-Карсис, впрочем, он опять скоро сюда приедет.– Подойдя, ближе, он прибавил вполголоса:—Он отказался быть лазутчиком, но обещал давать знать о главных происшествиях у соседственных мирных черкесов. Это ему легко: все привыкли к тайным отлучкам разбойника, никому и не вспадет подозрение, что он у нас бывает; у меня же всегда много его земляков, я хочу просить вас принимать его к себе: вам оно кстати – он кунак вашего лекаря.
– Сделайте одолжение, полковник!—отвечал Александрия всегда буду рад Али-Карсису; я не боюсь такого рода людей; несмотря на то, что он разбойник и враг в поле, дома он благонравен, верен своему слову, помнит хлеб-соль, уважает дружбу: это не европейский разбойник, которому нет ничего святого. Я еще не встречал между черкесов примера личного коварства или постыдного душегубства. Мне самому желательно покуначиться с этим замечательным вором, я даже надеюсь извлечь из этого пользу своей сотне, возьму с разбойника слово не делать прорывов на пространстве, занимаемом моими казаками, и не только не пускать никого из его шайки ко мне, но даже охранять мою сотню от нападения других земляков его.
– Я имею то же намерение для всего полка и надеюсь успеть; мне кажется, Али-Карсис желает быть в ладу с нами. Он меня почитает, а потому и не делал ни одного прорыва к нам. Однажды, на земле здешнего полка, он целые сутки пролежал скрыто в балке*, подстерегая своего прежнего сообщника, который, однако ж, не проехал. Али-Карсис возвратился за Кубань и велел сказать мне через одного черкеса, что он ничего не тронул в нашем полку, из уважения ко мне.
– Вот видите, полковник! Не правда ли моя? Воля ваша, я люблю их дикую честность! Возьмите черкеса, разберите его, как человека —что это за семьянин! Как набожен! Он не знает отступничества, несмотря на тяжкие обряды своей веры. Как он трезв, целомудрен, скромен в своих потребностях и желаниях, как верен в дружбе, как почтителен к духовенству, к старикам и родителям! О храбрости нечего и говорить —она слишком известна. Как слепо он повинуется обрядам старины, заменяющим у них законы! Когда же дело общественное призовет его к ополчению, с какою готовностью покидает он все, забывает вражду, личности, даже месть и кровомщение! Черкесов укоряют в невежестве; но взгляните на их садоводство, ремесла, особенно в тех местах, где наша образованность не накладывала просвещенной руки своей, и вы согласитесь со мною, что они не такие звери, какими привыкли мы их почитать.
– Все так, Александр Петрович! Но зачем же не внемлют они призыву нашего милостивого правительства?
– Я вам, полковник, сейчас определю все —что, как и для чего делается: оставляя черкесов спокойно владеть собственностью, управляться своими обычаями, поклоняться богу по своей вере – словом, уважая быт и права горских народов, мы берем их под свое покровительство и защиту: такова благодетельная цель правительства; но она встречает многие препятствия в исполнении. Первое из этих препятствий – различие веры, нравов и понятий; мы не понимаем этих людей, и они нас не понимают в самых лучших намерениях наших. Второе —при всех добрых намерениях, мы здесь должны нередко доверять ближайшее влияние на них таким людям, которые Думают только о своем обогащении, грабят их, ссорят, подкупают руку сына против отца, жены против мужа.,.
Право, беда с вами, Александр Петрович!– возразил старик, вставая.—Правда ваша, да как решаетесь быть их защитником? Не снести вам головы своей! Того и смотри, какой-нибудь хищник из-за куста отправит вас в Елисейские поля стяжать возмездие за ваше праводушие.
* Овраг.
– Туда и дорога! Двух смертей не будет, одной не миновать!– примолвил Александр, прощаясь с полковником.
В этот самый день, перед вечером, Али-Карсис приехал в станицу. Вырученных им пленных отправили, как водится, в карантин, для выдержания четырнадцатидневного очистительного срока. Разбойник не мог возвратить Айшаты, потому что ее хозяин решительно отказался выдать правоверную гяурам; несмотря, на то, карамзада обещал со временем украсть ее. Александру об этом ничего не сказали. Между тем Пустогородова познакомили наконец с за– кубанским карамзадою: с первой встречи они сошлись.








