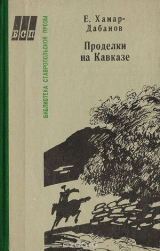
Текст книги "Проделки на Кавказе"
Автор книги: Е. Хамар-Дабанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
В муже не думай найти совершенства. В домашнем быту он будет совсем иное, чем казался. Муж смотрит на жену, как на собственность, которую имеет право, по произволу, ласкать, отталкивать и всегда обманывать.,. Вне своего порога он добродетелен, радушен, добронравен; перед женою он разоблачается, оставляет мнимые совершенства и, становясь сам собою, предается своим грубым наклонностям, своеволию, порокам. Чем разительнее в муже эти переходы, тем он ревнивее, из опасения чтобы жена, в коротких сношениях с чужими, не проболталась об его тайнах и не открыла глаза другим на счет его.
Да послужит тебе это письмо, любезная Китхен, предохранительным талисманом в твой будущности. Ты в нем узнаешь голос опытного друга. Прощай, скоро настанет час – и ты, может быть, присоединясь к прочим, станешь метать в меня брань и порицание. Я же останусь для тебя всегда одинакова.
Елизавета***».
– Что вы теперь скажете об Елизавете Григорьевне?– спросила Китхен после некоторого молчания.
– Она совершенно ошиблась на мой счет: я предался ей со всею доверенностью неопытной, пылкой души, не подозревая измены, не воображая, чтобы любовь эта могла когда-нибудь потухнуть. Это – урок для меня. Теперь я чувствую, что могу опять привязаться сильно, пламенно, с полным самозабвением; но уже не так глупо, как прежде: я опытен и не прежде дам волю своим чувствам, как убедись во взаимности).
Николаша говорил так просто, притворялся так искусно, что это ободрило доверенность неопытной молодой женщины; она с простотою души спросила у него:
– А насчет ее рассуждения о мужьях, что скажете вы?
– Я вижу в нем вражду, которую искони веков один пол питает к другому, но, в частности, эта вражда нередко на время прекращается, чтобы после сильнее возобновляться.
А я думаю, что Елизавета Григорьевна во многом справедлива!.. Она видит вещи прямо, как они есть.
– Катерина Антоновна! Вы так молоды, так прекрасны... ужели вы знаете уже многое?
– По крайней мере понимаю,—отвечала Китхен, несколько смутясь.
– Простите мой вопрос, который, право, делаю не из любопытства, а от живого участия в вашей судьбе: скажите, счастливы ли вы в супружестве?
– Я так недавно замужем, что не могу ничего вам на это отвечать.
Но любите ли вы своего мужа?
– Я привыкла с младенчества слышать самые лучшие отзывы о нем и очень уважаю его. Он – давнишний друг моего отца.
Блондинка задумалась.
– Понимаю, Катерина Антоновна! Вас отдали замуж в награду за долговременную службу, быть может, за какие-нибудь услуги вашего супруга.
– Да, отец мой желал этой свадьбы; а мне не из чего было выбирать.
Николаша схватил маленькую, беленькую ручку, небрежно лежавшую на окне, и, крепко пожав ее, сказал:
– Я вижу, вы несчастливы!.. Вы не любите и не можете любить своего мужа!.. Он слишком стар, слишком холоден для этого, особенно для такой прелестной, молоденькой жены; но если дружба может все утешить, примите ее от меня: она будет искренна, молчалива, преданна.
Китхен, погруженная в размышления, будто забыла отнять руку.
Николашу это ободрило.
– Китхен!—с жаром сказал он,– поверьте, один час наслаждений по чувствам стоит века слез и огорчений. Неужели вы, созданная для счастия, обрекаетесь добровольно на всегдашнее злополучие и не хотите узнать блаженства? Не должно отвергать его, когда оно под рукою. Поверьте, если вы не воспользуетесь настоящим часом, придет время, когда вы будете жаждать наслаждений, но поздно. Затруднения, невозможность будут препятствиями для вас... не теряйте золотого времени, оно невозвратно!
Слишком хорошо зная женское сердце, он был убежден, что ни одно слово его не потеряно семнадцатилетнею, хорошенькой женой пятидесятилетнего старика, и хотел продолжать, несмотря что Китхен, погруженная в глубокую задумчивость, сидела, будто не слушая его, как гздруг на улице послышались слова:
– Молодец Пустогородов! Не теряет времени.
Не скорее вылетает пушечный снаряд, чем оба кресла, стоявшие у окна, были опорожнены. Николаша очутился в одном углу комнаты, Китхен в своей спальне. Пустогородов тотчас опомнился и подошел к окну: тут, разумеется, никого уже не было; потом к двери, куда упорхнула госпожа фон Альтер: ничего не слышно. Он решился заглянуть в комнату: Китхен, озаренная луною, стояла как остолбеневшая у своей кровати.
– Катерина Антоновна! Что вы так перепугались? – сказал Николаша вполголоса.
Нет ответа. Он решается войти в комнату, подходит к ней, берет ее за руку. Китхен начинает приходить в себя, дрожать, слезы ринулись рекою из глаз: ей стало легче, она может свободнее дышать; наконец сквозь рыдания она говорит:
– Что... вы наделали!.. моя слава... мой муж... все узнают... пойдут толки...
– Успокойся, Китхен. Ничего не могут говорить! Если б и было что, многие ли не проходят через это? Положись на меня, я заставлю всех молчать; но глупо будет с нашей стороны, если об нас пойдет слава, а мы откажемся от наслаждений.
Но я забыл мудрое правило – все видеть, все слышать и ничего не рассказывать. Следственно, отойду от зла и сотворю благо. Думайте, что хотите о Китхен и Николаше: я буду скромен, ничего не скажу о них; желаю, чтобы и пятигорский бульвар последовал моему примеру. Кажется, однако, не так случилось: иначе на другой день на гулянье не выхваляли бы красоты и миловидности госпожи фон Альтер, не называли бы Пустогородова молодцом и не говорили бы: «Как, он уже успел?» Разумеется, их связь не тайна, всем известна.
* * *
Петр Петрович видимо поправлялся, благодаря чудесному свойству вод, а еще более строгой диете, на которую его посадили. Николаша помышлял о своем путешествии, Александр об отставке, вопреки всем увещеваниям Прасковьи Петровны. Он ей часто говаривал:
– Прикажите мне, матушка, продолжать служить, тогда не пойду в отставку.
– Спасибо тебе, Саша!—отвечала Прасковья Петровна,– но если тебя убьют, твоя смерть останется у меня на душе; я буду думать: вот если б он вышел в Отставку, как хотел, так был бы еще жив!
– Помилуйте, матушка! Разве люди не умирают в отставке? Я верю пословице: своей судьбы и конем не объедешь.
Петр Петрович этих случаях не объявлял никакого мнения: но, по всему было заметно, он соглашался с сыном, тем более, что Александр становился ему день ото дня необходимее. Его внимательность, почтительность к отцу привлекали старика. Китхен проводила почти все время у Пустогородовых: она также любила общество Александра, который, догадываясь об ее отношениях к брату, был очень осторожен и даже отдалялся от блондинки, несмотря что она ему очень нравилась. Наконец и сама Прасковья Петровна более и более смягчалась к своему, старшему сыну, начинала отдавать справедливость его достоинствам и даже, быть может, в сердце не различала с своим любимцем: но недоверчивый Александр, предупрежденный прошедшим, был осторожен во всех сношениях с матерью и не мог скрыть своей безотчетной боязни. Николаша, баловень судьбы и матушки, едва показывался дома. И что ему было там делать? В родителях он был уверен, в Китхен —тоже: поэтому предпочитал он Круг холостых, где метал банк, и часто по несносному жару ездил за семь верст в немецкую колонку на дурные обеды, в место вовсе незначительное, тогда как мог, не подвергаясь нестерпимому зною, прекрасно обедать дома. Николаша, разумеется, выбрил себе голову и надел жидовскую феску! это необходимо для пятигорского fashionable; в таком наряде он походил как две капли воды на умалишенного, воображавшего себя испанским инфантом, которого уверили, что ему должно выбрить голову, и которого, когда он это исполнил, повезли в сумасшедший дом, уверяя, что везут в Эскурьял, а он при входе в заведение тут же заметил: «Это приличный для меня дворец! По выбритым головам я вижу, что здесь все доны и гранды —я буду в своей сфере!»
Настал июль. Пятигорск начал пустеть. В эту пору лишь одни немощные остаются на горячих водах, остальные посетители едут либо в Железноводск, либо в Кисловодск. В этот курс преимущественно предпочитали Кисловодск, где помещения гораздо удобнее, чем на железных водах, называемых Железноводском: тут так мало жилья, что иное лето посетители вынуждены бывают помещаться в балаганах. Но не то привлекало теперь посетителей к живописному нарзану*: в этот год приехал туда вельможа, отдохнуть от трудов своего огромного управления и от летнего зноя. Его присутствие в прохладном, прелестном, гористом Кисловодске притянуло туда ранее обыкновенного музыку, я с нею и пятигорскую публику.
Все провозглашали балы, иллюминаций, прогулки, кавалькады, пикники Кисловодска; все кричали, что чудо как веселятся там. Эти слухи дошли до Пустогородовых, оставшихся на горячих, где Петру Петровичу нужно было еще доканчивать лечение. Николаша скучал в безлюдном, знойном городе: ему хотелось на кислые, Китхен —также, Прасковья Петровна была очень хорошо знакома с вельможею: она помышляла посредством его устроить Александра и тем отвлечь сына от мысли об отставке; для этого ей нужно было ехать туда, куда желания манили ее любимца.
• Нарзан – холодный кисло-шипучий ключ,—почему и названо это место Кисловодском.
В семействе стали поговаривать о поездке в Кисловодск, хоть на несколько дней. Петр Петрович и Александр одни не обращали на то внимания; к тому ж последний, не любя увеселений, был менее чем когда-либо расположен искать удовольствий. Получив извещение, что сын отца Иова, будучи определен в морскую службу, погиб на море, он ломал себе голову, какое сделать употребление из порученных денег, чтобы оно вполне соответствовало цели завещав теля, но, наконец, отложил помышление о том, до благоприятнейшего времени, когда выйдет в отставку и будет в России.
Возвращение полковника фон Альтера решило поездку в Кисловодск. Положили отправиться туда в первую пятницу, в субботу все рассмотреть, в воскресенье побывать на бале, а потом приехать обратно в Пятигорск. Что вздумано, то и сделано.
Прасковья Петровна села с госпожою фон Альтер; мужчины разместились между собою. Семейство Пустогородовых и Китхен остановились во флигеле дома. Мерлиной; полковник фон Альтер нанял будку на дворе Реброва: она соблазнила его дешевизною и близостью к крепительным ваннам, которые он намеревался брать, по крайней мере, недели две.
Дом Реброва был занят вельможею, флигеля —его свитою. На следующий день после приезда Александр отправился туда. Сначала он зашел во флигель, занятый генералом Мешикзебу. В зале с кипою бумаг стоял высокий, черноволосый офицер в сюртуке, весьма привлекательной наружности; возле него —молодой офицер одного из линейных казачьих полков, расположенных по Кубани, в парадной форме,, с несколькими крестами на груди; в руках он держал письмо, шашку и два пистолета; далее дожидались немецкие колонисты в своих серых куртках; у самой двери, ведущей во внутренние покои, сидел безмолвный донской офицер, держа книгу в руках вверх ногами и притворяясь, будто читает.
Александр подошел к офицеру, державшему бумаги, и сказал:
– Позвольте у вас спросить, можно ли видеть генерала?
Генерал здесь принимает,—отвечал офицер.
– Скоро выйдет его превосходительство—спросил Пустогородов.
– Думаю, скоро. Вот уже час, как я ожидаю его выхода,– отвечал офицер, посматривая на часы,– беда! Право, сколько дела не сделаешь, сколько времени потеряешь в этих ожиданиях.
Линейный казачий офицер, корча какой-то бон-тон, подошел к Александру, шаркая, и сказал:
– Мое почтение, капитан!
– А, здравствуйте. Откуда вы?..– отвечал Пустогородов.
– С Кубани, прислан кордонным начальником к генералу.
– На Кубани все ли спокойно?
– Как нельзя более! Нигде нет прорывов, ни хищничества, ни даже воровства. Этот край окончательно усмирен: нынешнее лето спокойствие не прерывалось не только по Кубани, но даже и за Кубанью; наши казачки ездят туда за ягодами.
Александр улыбнулся.
– А табун,– возразил он,– отбитый на днях неприятелем, вы не ставите в счет хищничества!
Офицер смутился, но потом отвечал:
– Какой табун? Я впервые это слышу, хотя нынешнюю только ночь приехал с Кубани.
– Понимаю все эти хитрости!—сказал Пустогородов, отходя прочь.
– Александр Петрович! Наш начальник не хочет, чтобы здесь знали о прорывах нынешнего лета,– примолвил вполголоса подошедший к нему линейный казачий офицер,—дабы не подвергнуться суждениям посетителей и всех здесь находящихся.
– Мне какое до этого дело!
В комнату вошел белокурый человек маленького роста. Он был в военном сюртуке, без эполет, расстегнут 'и курил из длинного чубука с прекрасным янтарем. Черты его не имели никакого выражения: какая-то сладкая улыбка придавала ему вид притворной кротости; глаза, словно синий фарфор, были обращены на кончик носа, на темени виднелось безволосое пятно, с отверстие стакана: это был генерал Мешикзебу. Все присутствующие офицеры при входе его вытянулись, руки по швам; одни колонисты стояли так же вольно, как и до него. Его превосходительство, не обращая ни на кого внимания, подошел к немцам, приветствовал их ласково и пустился с ними в длинный разговор, содержание которого невозможно передать, потому что никто из присутствующих офицеров не знал немецкого языка. Прения, вероятно, были весьма горячие, судя по декламациям одного рыжего колониста, одетого в синий сюртук из толстого сукна, побелевшего на швах, и по негодованию, выражавшемуся на лице другого, топавшего с досады отставленною ногой: он стоял подбоченясь и был одет в куртку из крестьянского сукна; из-под ненатянутых панталон его, того же изделия, выглядывала толстая рубашка. Не станем, однако, распространяться в описании этих белокурых грубых и наглых пришлецов: кто их не знает! Кто не имел с ними когда-либо дела? Если б встретился такой человек, мы предложим ему удовлетворить свое любопытство где-либо в соседстве: колонистов можно найти по всем углам святой Руси; они все на один лад. Заметим тут с гордостью, что иностранцы не могут сказать того же о нас: мы не нуждаемся в чужом покровительстве, не ищем службы, ни средств к жизни на чужбине, и не проливаем крови своей за чужое отечество. Русское имя слишком дорого нам, чтобы променивать его на другое.
Проговорив более часа с колонистами, его превосходительство раскланялся с ними и подошел к Александру, которого спросил, затянувшись дымом из чубука и выпустив ему в лицо:
– Что вам угодно?
– Прибыв к Кисловодским целебным водам, к вашему превосходительству имею честь явиться.
– Вы ранены?
– Точно так.
– Когда?
– Нынешнего года в марте месяце, при отбитии нашего плена у закубанцев.
– Ваша фамилия?
– Пустогородов.
– А, знаю!– Потом, обратись к линейному казачьему офицеру, спросил:
– Что тебе надобно?
– К вашему превосходительству имею честь явиться,– отвечал офицер, подавая письмо.
– От кого это?– спросил генерал, рассматривая адреса.
– От кордонного начальника, с Кубани, ваше превосходительство!
– А!.. Здоров ли кордонный начальник?—спросил генерал, распечатывая письмо,—Да, что это у тебя за оружие?
– Слава богу, здоров, ваше превосходительство! Это оружие разбойника Али-Карсиса, которое кордонный начальник поручил мне доставить вашему превосходительству,
– Покажи!—сказал генерал Мешикзебу, протягивая руку. После продолжительного рассматривания клинка он отдал шашку Александру и сказал:
– Посмотри, любезный Пустогородов... ты должен быть знаток... какова шашка?
– Прекрасная!..—отвечал Александр, рассматривая клинок.– Она действительно принадлежала Али-Карсису; мне это очень известно, потому что она отбита моею сотнею и отнята кордонным начальником. Я представил о ней по начальству и просил или возвратить, или выдать сотне ее ценность.
– Точно, ваше превосходительство, есть подобное донесение,– подхватил офицер, стоявший с кипою бумаг.
– Каким же образом привезли ее ко мне?—спросил генерал у линейного казачьего офицера.
– Капитан Пустогородов ошибается, или я обманут казаками,—отвечал офицер,– кордонный начальник при мне отдал своеручно деньги принесшему это оружие.
– Чего же оно стоит?—спросил генерал, начиная читать письмо.
– Теперь запамятовал, ваше превосходительство, но узнаю,—отвечал офицер.
– Узнайте же, пожалуйста, потому что, если оно не очень дорого, я его куплю.– Прочитав письмо, он обратился к офицеру с бумагами:—Напиши-ка от меня рапорт к начальнику линии.—И, водя по письму указательным пальцем, прибавил:—По воле... вы пропишете имя моего начальника... имею честь всепочтеннейше.., слышите, всепочтеннейше…
– Слушаю, ваше превосходительство!
– Имею честь всепочтеннейше довести вашему превосходительству о нижеследующем... Дошло до сведения его сиятельства, что кордонный начальник заплатил своеручно за оружие, отбитое у Али-Карсиса, почему его сиятельство приказать всепокорнейше просить ваше превосходительство изволил – поставить это на вид всем инстанциям, по которым неосновательная жалоба о том, будто бы за оружие Али-Карсиса не заплачено, дошла до вас. Между тем его сиятельство изволил также заметить, что вашему превосходительству следовало бы удостовериться в справедливости этой жалобы, прежде чем утруждать ею начальство.– Тут он обратился к линейному казачьему офицеру со словами: – Ваш кордонный начальник отлично отзывается о вашей службе и ходатайствует вам награду, опасаясь, однако, отказа, ибо вы недавно получили Владимирский крест; но будьте спокойны, это нисколько не помешает вам получить золотую саблю. Через полчаса будьте у графа, я приду туда и вас представлю. Вам, капитан Пустогородов,—примолвил он, пуская в лицо Александра целое табачное облако,– вам делает особенное... непростительное...– и затянулся дымом,– бесчестие, что начальник вами недоволен. Вот что он о вас пишет.– И генерал показал ему письмо.– Могу вам только заметить одно: тем для вас же хуже; вы видите этого офицера: он не был, как вы, ранен, не проливал крови, а награжден за то же самое дело, за которое вы ничего не получили.
Глаза Александра засверкали от ярости, но дух дисциплины, привычка удерживать свои порывы превозмогли чувства, он с кротостью отвечал:
– Позвольте доложить вашему превосходительству, во– первых, что я ни в чем не подчинен кордонному начальнику и льщу себя надеждою, что отзывы моих настоящих начальников, полкового командира и наказного атамана, будут всегда в мою пользу; во-вторых, что хотя меня почти никогда не награждали и всегда мое отличие оставалось без возмездия, не менее того я не завидую наградам других, в особенности когда они совершенно незаслуженны. Так, например, господин казачий офицер получил крест за военное дело, в котором не участвовал, потому что в то самое время, когда мы дрались, он был за двести верст.
– Напрасно оправдываетесь, капитан! Никто вам не поверит! Между тем начальству известно, что вы непозволительно стали отклоняться от службы.– С этими словами генерал Мешикзебу ушел во внутренние комнаты с офицером, державшим бумаги. Остальные вышли из дома.
Александр встретил на дворе Николашу и на вопрос, куда идет, узнал, что Прасковья Петровна, желая видеться с графом, послала его узнать, когда и где может она иметь свидание. Они вошли вместе в дом, занимаемый сановником,
В первой комнате стоял ряд офицеров. Пустогородо– вых впустили в другую —более обширную. Она была хорошо меблирована и обита красивыми бумажными обоями, перенятыми с французских. В одном углу сидел одинехонько офицер-ординарец. Тут же, около затворенной двери во внутренние покои, находились два адъютанта. Один из них, в изношенном мундире и в шарфе, сидел словно турок, посаженный на кол: он не был ни толст, ни худ; на груди его красовалось несколько орденов; лицо походило на восковую фигуру в вербное воскресенье, однако ж отличалось усами, чего обыкновенно не бывает. Другой, в сюртуке, сидел развалившись на стуле: этот был толст; грубые черты его лица выражали самодовольство: белизна и румянец казались подозрительными. Одною рукою он играл висячим часовым ключиком, другою по временам, поглаживал тщательно завитую прическу. Адъютанты разговаривали между собою. Александр подошел к ним и со всею вежливостью благовоспитанного человека спросил:
– Есть ли прием сегодня у его сиятельства?
– Подождите, так увидите,– отвечал, картавя, адъютант в сюртуке, не обращая взора на просителя.– Так я вам говорил,– продолжал он своему товарищу,—за прошлую экспедицию я буду переведен в гвардию тем же чином, а за будущую буду произведен в полковники и назначен полковым командиром нижегородского драгунского полка: что, батюшка?.. Двести тысяч годового дохода!
– Если бы вышли скорее награды за прошлый год!– возразил другой,– и мне хорошо было бы: я, представлен в майоры и должен получить во Владикавказе линейный батальон, при котором транспорт... тут также тысяч сорок годового дохода, а я не буду этим пренебрегать, как нынешний батальонный командир. Но я слышал, что представления не скоро еще выйдут; их возвратили сюда для уменьшения наград... Ну, как наши-то с вами также уменьшат, вот будет обидно!
– Как это можно! Уменьшат награды лишь фрунтовых офицеров. И в самом деле, на что им так много получать? Для них все хорошо. Впрочем, если до осени они не выйдут или я буду недоволен своею, так не пойду в экспедицию.
Покуда шел этот разговор между адъютантами в одном конце комнаты, в другом Николаша бесился и говорил брату:
– Дело другое! Ты пришел являться по службе, так и дожидайся, покуда адъютант удостоит объявить тебе, будет ли принимать его генерал или нет. Но я частный человек: какое мне дело до адъютантов? Как не найти даже официанта, чтобы доложить! Да вот, кстати, идет один.
И в самом деле, в комнату вошел низенький человек, весьма неприметной наружности, в чрезвычайно коротком сюртуке, причесанный a la moujik он держался так прямо, что затылок его опрокидывался, а борода торчала вверх; руки, вдетые в узкие белые перчатки, висели неподвижно: он всячески старался их выказывать. Николаша сделал несколько шагов к нему и сказал:
– Послушай, человек! Доложи графу, что Прасковья Петровна Пустогородова прислала сына своего: так не угодно ли его сиятельству назначить время, в которое мне можно будет видеться с ним?
Маленькие глаза человека засверкали. Он открыл ужасный рот и показал черные, закоптелые зубы свои. Это был смех, но смех иронический:
– Извините-с, я не человек, а чиновник Нохой, состоящий по особым поручениям при его сиятельстве.
– Простите мне мою ошибку, господин Нохой, и позвольте вас просить научить меня, как и где могу я видеться с графом?
– Я нисколько не обижаюсь вашею ошибкою: это часто случается. Если хотите видеть графа, адресуйтесь к дежурному адъютанту... он обязан доложить его сиятельству.
– Да что ж делать, когда он не хочет?
– Дождаться, покуда ему заблагорассудится. Кто нынче дежурным-то? А! Это Тихобис.
– А другой, в сюртуке?
– Другой... Чеплавкин. Но предупреждаю вас, что ни от одного, ни от другого ничего не добьетесь.
В комнате вельможи послышался звон колокольчика, адъютанты встрепенулись.
– Что засуетились?—спросил у них чиновник Нохой.
– Кажется, дежурного адъютанта звонит генерал,– сказал Тихобис.
– Где у вас уши?– возразил Нохой,– разве не слышите, что звонили один только раз: следовательно, зовут камердинера; для вас звонится два раза. Вот дельный-то народ—и того не разберут!—И чиновник пожал плечами. Потом прибавил:– Вас тут двое, и ничего не делаете, чтобы доложить графу, господин Пустогородов желает его видеть! Генерал так деликатен и вежлив со своей стороны, а вы заставляете этого господина ждать!
– Ступай доложи сам,—отвечал адъютант в сюртуке.
Нохой махнул с презрением рукою и, обращаясь к Николаше, спросил:
– Не намерены ли вы вступить к нам в службу?
– Как же!.. Для этого пришел к генералу: моя мать желает видеться с графом на мой счет.
– В какую же службу вы желаете?
– Разумеется, в гражданскую.
Нохой осмотрел с ног до головы Николашу и сказал:
– Имеете ли вы хорошие аттестаты от места прежнего служения? Надобно вас предупредить, что у нас очень разборчивы в выборе чиновников.
– У меня аттестатов никаких нет; но матушка давно знакома с графом.
– Да у нас граф ничего не значит!– возразил Нохой, улыбаясь.– Директора канцелярии, вот кого нужно просить!.. Я вам поставлю в пример себя: супруга графа во время его отсутствия отказала мне от дому своего; я думал, как бы ей отмстить! Прибегнул к директору канцелярии, польстил ему: не прошло полгода и я назначен состоять по особым поручениям при графе; а она, хочет или не хочет, должна меня принимать, да еще очень ласково.
– Как же вы решились бывать опять в доме, от которого вам раз отказано?
– Помилуйте! В нашем городе почти нет мужчины, которому не было бы отказано от какого-нибудь дома; а есть такие, которым отказано от многих домов.
– Что же делает, по-вашему, тот, кого отчуждают от общественного круга?
– Ничего не делает!.. Разве начнет посещать чаще те дома, где его еще принимают.
– Поздравляю вас с необыкновенно прекрасными обычаями.
– Покорно благодарю,– отвечал Нохой, раздирая рот насмешливою улыбкою и кланяясь с притворною благодарностью, потом прибавил:—А мы живем себе да поживаем, право не хуже никого!.. Награды хватаем еще лучше других!
Генерал Мешикзебу вошел, за ним линейный казачий офицер, которого мы уже видели. Не обращая внимания на присутствующих, генерал пошел прямо к двери, где прежде сидели адъютанты: тут, однако ж, они стали как вкопанные, руки по швам. Взявшись за ручку замка, но не отворяя двери, генерал сказал:
– Вы, господа, просились у графа участвовать в осенней экспедиции; но никто из вас не поедет; отрядные начальники жалуются, что вы приезжаете за наградами, между тем как пользы от вас никакой нет.
Эти слова как варом обдали Тихобиса. Чеплавкин не смутился; он стоял с подобострастием перед генералом Мешикзебу в умилительном положении и самым тихим голосом молвил, картавя:
– Ваше превосходительство! Позвольте просить вашего покровительства!.. Я доселе так несчастливо служил. Позвольте мне ехать в экспедицию.
– Увидим!—отвечал генерал, смягчив голос.– Я доложу об этом графу.
Несколько спустя в комнате вельможи послышался звон колокольчика два раза. Тихобис опрометью бросился туда. Вскоре он вышел и, кланяясь присутствующим, как актер на сцене, благодарящий за рукоплескания, сказал мерным казенным голосом:
– Господа! Граф нынче не принимает, а вам,– прибавил он, обращаясь к казачьему офицеру,– генерал Мешикзебу приказал дожидаться здесь.
Пустогородовы пошли домой, Николаша взбешенный, Александр огорченный встречею с Мешикзебу.
После обеда на Кисловодском гулянье кипела публика; все лица процветали здоровьем от сил крепкотворного нарзана. Сад, где обыкновенно собираются посетители, раскинут в теснине гор, из ущельев всегда веет прохлада, упитанная благовонием цветущей липы и других душистых дерев и растений; густая тень делает это гулянье, приятным даже в самый сильный зной. Горный ручей, быстро и ропотно стремящийся во все протяжение сада, извивается по каменистому руслу. У самого входа бьет из-под земли шипучий, богатырский ключ нарзана*: вода вечно будто кипит, над ключом всегда стоит облако острого газа. В этом саду вы дышите горным, ароматным воздухом, наслаждаетесь прохладою, укрываетесь тенью, утоляете жажду водой целительной. Братья Пустогородовы недолго прогуливались посреди толпы; они желали видеть весь сад, и пошли по аллее, тянущейся столь же извилисто, как и ручей. Наконец они дошли до конца ее в густой тенистой группе берез, здесь ручей ниспадает с камня вышиною около сажени. Это место посетители Кисловодска почтили названием каскада.
У водопада в тени дерев стоит длинная скамья. Оба брата сели на ней и от нечего делать стали разбирать надписи, вырезанные на коре берез. Сознаюсь, и я люблю читать эти надписи: они обыкновенно так же глупы, лицемерны и надменны, как эпитафии на наших кладбищах. Зато они несравненно разнообразнее: здесь увидите порывы отчаяния и восторга, заметки сладких воспоминаний, чувства любви или ненависти, гордости или покорства року.
* Черкесы называют нарзан богатырскою водою: вероятно, от неимоверных физических сил, получаемых от ее употребления,
На кладбищах, напротив того, вечные форменные восклицания печали; все выранжированно, приторно и притворно.
Слуга пришел звать братьев Пустогородовых к Прасковье Петровне. Все сидели в своей семье за русским самоваром. Николаша говорил, что пора ему отправиться в Тифлис, где, вероятно, будет еще задержан приготовлениями к поездке в Персию. Петр Петрович отпускал его с богом. Прасковья Петровна со вздохом отвечала:
– Если ехать тебе, так конечно отправляйся; но не лучше ли подождать брата, которому также надобно побывать в Тифлисе? Быть может, ему там понравится и он захочет остаться служить в Грузии.
– Нет, матушка!—возразил Александр,—если мне оставаться на службе, так конечно на Кавказе; мне в Грузии делать нечего: какая там служба? Но как вы желаете, чтобы я съездил в Тифлис, то я поеду не прежде вашего выезда отсюда:
– Спасибо тебе!– примолвил старик Пустогородов.
Китхен пригорюнилась и стала говорить о своей поездке
туда же недели через две. Прасковья Петровна отговаривала ее, прибавляя: «Я к вам так привыкла, что ваше отсутствие было бы ощутительнее для меня даже сыновнего».
Не думаю, чтобы Прасковья Петровна подозревала чувства госпожи фон Альтер к ее любимому сыну: но мы, естественно, любим того, кто нравится любимому нам предмету. Тут, разумеется, должно исключить ревнивых мужей, которые очень неблагосклонны к тем, кто нравится их женам. Притом же Китхен была так мила, так проста в обхождении, так хорошо предугадывала желания Николашиной матери, что нельзя было Прасковье Петровне не любить ее всем сердцем.
Но пора нам обратиться к кисловодской ресторации, кругом которой горели уже плошки. Окна здания блестят от многочисленных свеч, зажженных в зале. Пора, пора на бал! Покуда весь beau monde одевается, причесывается, охорашивается перед зеркалами, рассмотрите освещенную ресторацию.
Здание невелико; колоннада не тяжела, то и другое в совершенной соразмерности с возвышенностью, на которой оно стоит. Лестница перед фронтоном, которая спускается к главной аллее, очень удачна. Когда ночью ресторация иллюминована, она делает бесподобный вид, укрываясь в гуще окружающих деревьев. Яркий свет огневой сквозит между свежих листьев кисловодского сада, где зелень, поддерживаемая влажностью воздуха, остается во всей красоте до глубокой осени. Влево главная аллея теряется вдруг во мраке самой густой тени дерев; это заветное место кажется еще темнее от блеска огней, бросающих свет на близкие клумбы перед ресторациею. Ревнивцы! Вы не любите этой части кисловодской аллеи; здесь —обычай, освященный даже модою, чтобы красавицы, привлекающие взоры во время однообразного контрданса, приходили в эту аллею подышать вечернею прохладой, благоуханием воздуха и отдохнуть от усталости и ослепительного блеска огней. О, вы правы: сколько давно желанных поцелуев срывалось в этой безмолвной и тихой темноте! Сколько нескромных речей, требований произносилось тут шепотом!.. Они незвучны, но страшны для мужниных ушей! Когда жена упорхнет в эту опасную тень, ревнивый муж крадется туда же... Но в глуши не рога растут у него; нет... от напряжения слуха вырастают уши. Так зачем же привозить своих жен дышать животворным воздухом Кисловодска « давать им испить богатырской струи? Вы скажете: «Почему же этот воздух и эта струя не так действуют на нас? Почему же на жен наших они действительнее? Разве в их жилах течет не такая же кровь, как и у нас?» Помните, однако ж, что вы – мужчины, а они – женщины: для вас с самого младенчества были открыты все пути к наслаждениям, для них – совершенно напротив. Вы истощили себя в разврате, они сберегли себя в борьбе с желаниями и страстями. Решите же, кто прав? Но не стану вас обвинять; вы – чада своего века: всякий из вас вольнодумец, либерал для себя и вместе властитель над слабым, строгий судья к ближнему. Скажите, господин фон Альтер, что вам вздумалось, вкусив все наслаждения, испытав губительные следствия распутства, жениться в пятьдесят лет. на восемнадцатилетней хорошенькой девочке? Или необходима была жертва к итогу всех тех, которых вы на своем веку соблазнили и обманули? Знайте же, что справедливая судьба, внушив вам истинную страсть к этому милому созданию, избрала ее орудием кары за ваши пороки и пресыщение. Пусть так! Но зачем же этой жертвою, этим бичом должна служить непорочная, чистая Китхен? Всё вы виноваты, господин фон Альтер: зачем было вам на ней жениться? С другим мужем она могла бы быть счастлива и остаться чистою; а теперь... Вы, господин фон Альтер, слывете в свете честным человеком: честен ли поступок ваш? Бог вам судья!








