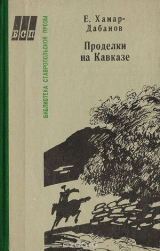
Текст книги "Проделки на Кавказе"
Автор книги: Е. Хамар-Дабанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Но возвратимся в станицу. Едва выехали все команды, как с хуторов, лежащих верстах в пятнадцати от полковой штаб-квартиры, прискакал казак к полковнику, который
ходил по площади. Услышав конский топот, он громко спросил:
– Кто там едет?
– Казак, ваше высокоблагородие!
– Откуда?
– С хуторов.
– Что там у вас?
– Все хутора забрали, зажгли строения.
– Велика ли партия?
– Более тысячи черкесов.
– Что ты врешь, дурак!
– Ей-богу, ваше высокоблагородие! Нас было шесть конных казаков на хуторском посту; пятерых изрубили, мой добрый конь один ускакал– долго за мною гнались.
– Вот что значит добрая лошадь! А вас – черт возьми– еще не уверишь, что тот казак и молодец, у которого добрый конь. Станичный начальник! Велите запрячь орудие, хоть оба пускай будут готовы! Да резерву прикажите иметь лошадей в руках и не расходиться.—Полковник продолжал ходить.
Все женщины окружили приезжего казака и расспрашивали в один голос о Яковлеве, Петрове, Федорове, Николаеве, Сидорове и пр. и пр.
Прошло несколько времени, прискакал другой казак. Полковник спросил:
– Кто там и откуда?
– Казак, ваше высокоблагородие! Корнет Пшемаф приказал просить орудие. Он переправился через Кубань у поста *** (казак произнес какое-то варварское на-
звание), открыл черкесов и начал перестрелку, только их больно много.
– А сколько примерно?
– Не могим знать, ваше высокоблагородие,– темно, земля гудет от конского топота.
Старик закричал:
– Резерв на конь! Оба орудия садись! – Потом, обратясь к станичному начальнику, сказал:—Вы ступайте скорее с этим резервом к Пшемафу и вступите к нему в команду. Поезжайте на брод***,– и назвал пост варварского имени.
– Слушаю!—И старик хорунжий вскочил на лошадь, скомандовал:
– Пошел за мною!
Полковой командир провожал их словами:
– Ну, с богом, хлопцы! Смотри, молодцами!
Все в один голос отвечали ему: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» Вслед за тем послышался конский топот, шлепанье казачьих плетей и гул катящейся артиллерии.
Солнце взошло, когда прискакал еще казак с известием, что недалеко за Кубанью слышна сильная пальба из орудий. Часа полтора спустя приехал черкес из мирного аула к полковнику с вестью, что весь плен у хищников отбит, что сами они прогнаны, и понесли большую потерю, между тем как несколько казаков ранено, что владетель мирной деревни выезжал со своими подвластными на тревогу, дрался с, хищниками, и что, наконец, капитан Пустогородов с казаками и отбитыми пленными отдыхает в их ауле. При вопросе, в каком числе был хищнический отряд, черкес отвечал: более двухсот человек!
Часов в одиннадцать утра прибыл урядник, присланный от Александра Петровича объявить полковнику, что хищники прогнаны, а он идет назад с ранеными. При рас– просе о последних узнали, что их порядочное количество и что из офицеров ранен один он только.
Добрый полковник пошел тотчас на квартиру Александра Петровича предупредить Николашу, что брат его ранен, и предложить ему, вместе с тем, отправиться в коляске навстречу капитану, которому спокойнее будет доехать в экипаже. Николаша, несмотря на то, что не кончил еще туалета, с радостью принял предложение. Верстах в двенадцати он встретил Александра Петровича, бледного, окровавленного, однако едущего верхом. Александр не хотел согласиться пересесть в коляску, ссылаясь на неважную рану, и предложил брату заводную лошадь. Они ехали рядом. Казаки, следуя, пели песни; двое из них наигрывали на камышовой дудке арию волынки; между тем несколько человек, спешась, выплясывали по дороге русского трепака, а иногда что-то вроде лезгинки. Один из телохранителей капитана, подъехав к нему, сказал:
– Ваше благородие! Не угодно ли будет видеть Алима?
– Согласен.
Два казака подъехали; один, корча горца, мастерски передразнивал звуки черкесского языка; другой, искусно коверкая русский язык, представлял переводчика.
– Здорово, Алим! Откуда явился? – спросил Александр, улыбаясь. Казак поклонился по черкесскому обычаю, пробормотав какие-то черкесоподобные звуки.
Мнимый толмач перевел их так:
– Алим сказал —из немецкого окопа.
– Откуда?
– Моя не знает. Алим сказал—из немецкого окопа.– Тут он начал корчить, будто бы говорит с товарищем по-черкески; потом, обратись к капитану, молвил: – Ваше благородие! Немецкий окоп то, что ваше изволит называть Прочный Окоп.
Александр, смеясь, заметил брату вполголоса:
– Какие шельмы! Ко всему приложат; в Прочном Окопе все немцы, как и по всему нашему флангу.—Потом обратился опять к переводчику; – Ну, а генерал-то здоров?
Доволен ли нашим сегодняшним делом?
Толмач передал слова капитана Алиму; последний пробормотал что-то. Переводчик сообщил это следующим образом:
– Алим говорит, генерал сказал —казак хорош дрался; черкес подлец! А на капитан очень сердит; покажет ему своя дружба!
– За что же? – спросил Александр.
После обыкновенного повторения он получил в ответ;
– Алим говорит, генерал сказал – о капитан! Все свой казак любит! Все черкесская шашка, отбитая им, отдал, а был славный шашка и ружье! Что бы мне прислать! Моя все-таки один целков иль пол цел ков дал бы, да казак в придач крест навесил —тот казак молодец, который отбил оружие! А капитан им плеть даст, говорит: «Подлец, а не казак, сзади мертвых грабил!» Генерал сказал, этот капитан ничего не понимает.
Тут мнимый Алим что-то стал бормотать, переводчик делал несколько вопросов, наконец, перевел:
– Алим говорит, генерал очень сердис на капитан, сказал —фу, черт! До сорок тел убитых черкес и башка не привозил; что бы велел казак голова руби и притрочить к
седло; да еще черкес пятнадцать ранен; взял в плен, на кой черт их? Голова долой* и мне прислал!
– К чему же генералу мертвые головы?
По переводе этого вопроса и по переговору с притворным черкесом переводчик отвечал:
* За Кубанью ввелся обычай между казаков отрезывать головы у убитых черкесов. Родные выкупают головы, потому что по туземным обычаям нельзя хоронить тела без головы; поэтому-то занижающимся таковым торгом гораздо выгоднее иметь голову, чем пленного.
– Алим говорит, генерал славно сотовку* делал черкеска голова: богатый голова плоти генерал два коров, бедно плоти один, два баран, голова возьми назад.
– А для чего генералу коровы и бараны?
После продолжительного разговора между мнимым черкесом и переводчиком Александр получил в ответ:
– Алим говорит, баран и коров все-таки худоба; у генерал вить в дальних крепость большой атара, много скот.
– Ты мошенник с Алимом, все врешь! – возразил Александр Петрович и, обратись к брату, примолвил: —Однако я пересяду в экипаж; у меня делается жар.
– Сев в коляску, Александр приказал старшему уряднику вести команду и, подходя к станице, позволить казакам стрелять. Это линейский обычай: казаки, возвращаясь в свои станицы с похода или погони, когда имели бой с неприятелем, перед входом открывают ружейную пальбу. Казачки выходят к воротам и встречают своих, нередко убитых или раненых. Странное зрелище этой толпы, в которой иные изъявляют шумные признаки истинной или притворной радости, другие под слезами и рыданиями оказывают искреннюю либо ложную печаль.
– Проводы казаков в поход ознаменовываются обыкновенно всеобщими слезами. Их провожают за станицу, подносят им водку и чихирь; отъезжающие и провожающие напиваются допьяна, плачут, обнимаются, рыдают и расходятся. То же самое можно видеть и в России, хотя в малом виде, при проводах рекрут из родного селения.
Оба брата приехали домой и нашли там черкесского лекаря, за которым посылал Александр Петрович в мирный аул. Он успел приготовить все нужное для перевязки. Дыду не поморщился, но слезы катились из глаз его. Айшат, увидев Александра бледного и в крови, закрыла лицо ручонками и зарыдала, она царапала себе лоб и щеки ногтями, рвала волосы из-под чалмы —это обыкновенное изъявление печали и отчаяния всех горских женщин при смерти или несчастий кого-нибудь из ближних. Александр успокаивал ее ласками и поцелуями. Его раздели, черкесский врач велел зарезать овцу, снять с нее кожу и обернул рану больного. Оказалось, что левая рука была прострелена навылет выше кости, однако черкес нашел рану вовсе неважною, велел больному выпить рюмку водки и положил его в постель. Хотя Александра клонил сон, но он хотел непременно видеться с Кутьей. Оскорбленный лекарь, бывший в это время у полковника, только по настойчивому убеждению старика согласился идти к раненому.
* Обмен
Войдя в комнату, он сказал:
– Только что узнал я о вашей ране, тотчас явился к вам со всеми нужными припасами; но мне объявили, что черкес будет вас лечить, и я ушел. На что же нужен я вам теперь? Учиться я не намерен.
– Полно, любезный, сердиться,– отвечал Александр.– Чем же обижаться, что я по-черкесски хочу лечить рану? Положим —это моя странность! Но помогите, у меня спина ужасно болит; я ночью упал, казаки на меня наехали и стоптали.
Лекарь посмотрел поясницу; ушибленное место распухло, и было совсем черно. Он послал тотчас за пиявками. Между тем вошёл полковник и, сделав несколько вопросов о здоровье Александра Петровича, просил его рассказать, если он в силах, как было все дело, потому что ему нужно писать немедленно донесение.
Александр, собрав все свои силы, начал таким образом:
– Я проскакал более тридцати верст, когда стало рассветать, и находился неподалеку от мирного аула, против большого кургана. Завидев вдали неприятеля, я оглянулся – со мною было лишь пять человек, прочие казаки тянулись сзади и едва были видны. Я послал одного из своих пяти гнать отсталых, а сам с четырьмя остальными поскакал вперед. Хищники нескоро в нас разглядели неприятеля; я нагнал их, они были в числе пятидесяти человек: тридцать везли пленных, другие служили прикрытием; лошади их сильно пристали. Я начал перестрелку. Не прошло десяти минут, как я был уже окружен казаками в числе сорока – истинные молодцы! Все в один голос умоляли меня идти врукопашную; я согласился и закричал: «В шашки! Ура!» Черкесы встретили нас ружейным залпом, но тут же поскакали, покидая свой плен; однако мы, настигнув их, изрубили несколько человек. Владетель мирной деревни выехал на тревогу со своими подвластными и крикнул на хищников, которые начали оставлять и последних пленных; между тем он сам бросился на них и возвратил наш косяк, который угоняли черкесы. Далее я не мог преследовать неприятеля, скрывшегося в лесу, а приказал собирать отбитых пленных; в этой стычке у меня убит один казак и четыре лошади, ранено два казака и семь лошадей, в том числе и мой добрый конь. Хищники оставили несколько раненых и убитых лошадей, четыре тела и семь тяжелораненых черкесов, По расспросам отбитых пленных мы узнали, что только небольшая партия везла их, главное скопище осталось далеко сзади отбиваться от наших казаков, их преследовавших. Одна старуха, будучи привязана к седлу хищника, во время перестрелки была ранена и скоро умерла. По показанию возвращенных от неприятеля, которое утверждено было ранеными черкесами, оставшимися у нас, недоставало еще трех молодых казачек. Вероятно, пятнадцать хищников отстали с ними нарочно и берегли их для насилия. Я отвел тотчас отбитый плен, раненых черкесов и отвез наших убитых л раненых в мирный аул; двух казаков послал навстречу сотне, ожидаемой с верхней станицы, с приказанием присоединиться ко мне; а десять человек отрядил на поиск трех казачек. Едва прибыл я в аул, как один казак из числа десяти прискакал с известием, что к Кубани слышна пальба. Оставя тут человек семь казаков с присталыми лошадьми, для прикрытия привезенных пленных и раненых хищников, я понесся на пушечную пальбу, послав сказать, чтобы ожидаемая сотня спешила за мною. Пересекая лес, я встретил черкесов с тремя пленницами, отбил казачек и продолжал скакать, наткнулся на другую партию хищников, везших раненых товарищей, и перескочил через нее. Выехав из леса, я увидел команду Пшемафа, окруженную неприятелем. Горячая перестрелка кипела между ними. Приняв нас за неприятеля, наши пустили в пас ядро. Я закричал «ура!», и мы понеслись. Ожидаемая сотня, услыша пушечную пальбу и взяв напрямик, также скакала из-за леса. Пшемаф со своими спешился и молодцом дрался. Завидев меня и другую сотню, он закричал: «На конь!» и кинулся в шашки. При нем была уже и сотня из нижней станицы. Неприятель, объятый паническим страхом, пустился бежать прямо к речке, поблизости текущей; мы опрокинули его с кручи. Во время преследования я наскочил с шашкою на одного хищника, который прострелил мне из пистолета левую руку.
Таким образом, составился отряд из пятисот казаков и двух орудий. Я велел устроить носилки для раненых, числом более тридцати человек; лошадей мы потеряли до сорока. Неприятель оставил до двадцати трупов, погибших большею частью от ядер и картечи; сверх того, моя сотня изрубила в лесу человек до десяти. Четыре черкеса, раненные, оставшиеся у нас в плену, показывают, что партия их состояла из восьмисот абазехов* и берзеков**, отделившихся от большого скопища.
*Самое сильное закубанское племя
*Тоже закубанское племя
Проводником их был беглый линейный казак; должно быть, Барышников.
Врач-черкес прислонил руку к щеке и, закрыв, глаза, сказал: «Твоя юклай», т. е. спи.
– Сейчас,—отвечал полковник,—но куда же дели вы отбитый плен?
– Забрав вновь раненых и всех казаков с присталыми лошадьми, я пошел со своею командою сюда, а Пшемафа со всем отрядом отправил за оставшимися в ауле пленными. Я опасался, чтобы неприятель не напал опять на него в лесу. Он мне отдал свою лошадь, потому что для раненого мой конь слишком горяч.
– Хорошо, очень хорошо! Славное дело! Теперь отдохните, Александр Петрович. Я буду вас навещать, покамест прощайте.
– Ослабевший Пустогородов тотчас заснул. Айшат сидела возле него по-турецки, т. е. сложив ноги под себя. Между тем крупные слезы выкатывались порою из ее глаз.
Вскоре Дыду тихо отворил дверь, подошел к Айшат, помог ей слезть с кровати, и оба вышли. После омовения по заповеди пророка они разостлали по коврику, и каждый на своем стал усердно молиться богу. Это была третья дневная молитва, которою правоверные должны призывать аллаха и единого истинного его пророка и которая означала четвертый час. Первый, называемый ирты-намаз, совершается на рассвете, второй —в полдень, третий —как сказано выше, четвертый – при захождении солнца, и, наконец, пятый когда вечерние сумерки обратятся в совершенную тьму. Омовение всегда предшествует молитве. Накануне дети молились в комнате Александра, который ежедневно напоминал им религиозную обязанность и наблюдал, чтобы они свято ее исполняли. В этот день они сами, без напоминания, усердно просили аллаха об облегчении страданий отца, дарованного им провидением. Чистые, юные души их нуждались в теплой молитве. Они клали намаз с полною верою, что молитва их будет услышана аллахом. Николаша, человек вовсе не набожный, был поражен благоговением, выражавшимся на лицах детей.
Когда они кончили и Дыду, обувшись, складывал, ковры, он спросил, у него:
– О чем вы молили бога?
– Мы не молимся богу,—отвечал ему Дыду,—мы призывали аллаха на Искандера (перевод Александра), чтобы он обратил на него свое внимание. Аллаха нечего молить. Он лучше нас знает, что нужно людям; но должно помнить аллаха, поклоняться ему и этим заслуживать его постоянное внимание. Да будет над нами его святая воля!
Айшат пробормотала: «Ла ил алла! Алла! Алла!», что значит: бог, един бог! Боже! Боже!—обыкновенное восклицание и песнь мюридов, одной из самых фанатических сект магометанства! Религиозное это общество водворилось недавно на Кавказ.
Николаша, отобедав один, сел писать свой дневник. Этот день был богат происшествиями и прервал однообразие памятной книжки светского модника. Само собой разумеется, он отметил, что во все время безотлучно находился при брате, поддержал его, когда он падал от раны, и давал ему полезные советы во время дела и пр. Таково сердце человеческое! Если нам некого обманывать, мы стараемся обмануть самих себя и радуемся своей хвастливости.
Александр еще не просыпался, когда Пшемаф возвратился. Долго разговаривал он на крыльце с черкесским врачом и, войдя в комнату, сказал Николаше:
– Слава богу! Александр Петрович выздоровеет и останется с рукою.
– Не знаю.
– Это верно. Черкесский врач мне сказал,
– Да полно, знает ли черкес что-нибудь?
– Как же! Он славно лечит, в тысячу раз лучше ваших лекарей.– Потом, обратись к Дыду, спросил:– Как бы мне сделать чаю?
Мальчик побежал.
Пшемаф предложил Николаше послать за полковым лекарем, чтобы втроем сесть играть в преферанс, но Пустогородов отказался.
– Ну, Николай Петрович!—воскликнул Пшемаф немного спустя,– какую славную черкешенку я видел сегодня; во что бы ни стало —она будет моею!
– Кто такая?
– Узденька владетеля аула, в котором оставались наши пленные.
– Как вы ее достанете?
Заплачу калым* владетелю или пошлю ее украсть. Как бы то ни было, да достану ее: она будет моею!
* Плата, которую горцы вносят за невест, составляющая и* приданое. В случае развода, если виновата жена, калым возвращается мужу; в противном случае калым остается у жены.
– А в станице есть хорошенькие казачки?
– Нет. В новых станицах еще кое-когда встречаются. Впрочем, из числа увезенных с хуторов ночью есть три девочки очень недурные собою, от тринадцати до пятнадцати лет: но они были во власти хищников, изнасильствованы ими.– И Пшемаф плюнул.
– Как, так молоды!
– Что за молоды! Черкесу не попадайся и десятилетняя! Однако и русские не отстают в этом отношении от черкесов– ведь на Кавказе все быстро поспевает; а в Персии, сказывают, еще скорее.
Николаша был очень доволен таким разговором, давно уже его помышления вертелись на этом предмете. Не станем повторять подробностей, все знают, какой оборот принимают такие беседы; заметим только мимоходом, что Николаша вскоре сблизился с Пшемафом, узнал, где молодой кабардинец стоит на квартире, и решился быть у него с визитом.
Александр Петрович проснулся. Айшат первая прибежала к нему и, взобравшись на кровать, стала нежно обнимать его. Черкесский врач пришел снять овчину и вложить в рану, которая очистилась от запекшейся крови, корпию с свежесбитым сливочным маслом; но раненый все был слаб и сильно страдал от ушибов.
Пшемаф весело вошел к больному и по черкесскому обычаю поздравил капитана с раною. Потом требовал непременно, чтобы при входе в его комнату положили топор острием к порогу, а на стол поставили тарелку с водою, в которую опустили бы сырое куриное яйцо. Черкесское суеверие! Врачи и родные во время лечения опасаются приближения к больному нечистого человека; под этим названием они разумеют чародеев и всех вообще злонамеренных людей. Народное поверье утверждает, что будто когда войдет подобный человек, яйцо в тарелке лопается; пришлеца тотчас выгоняют вон. Для развлечения своего пациента черкесский лекарь советовал послать в аул за певцами и музыкою, по его мнению, весьма изящною, но несносною и неблагозвучною для европейского уха.
– Александр Петрович, увидев Пшемафа, спросил, как он довел плен.
– Благополучно,—отвечал кабардинец,– да еще подшутил над неприятелем!
– Что такое?
– Пришел в аул, мы расположились на отдых. Только в это время один из моих кунаков вызывает меня и рассказывает, что житель той деревни, участвовавший в хищнической партии, сейчас возвратился домой. Я принял его за бока и узнаю, что все абазехи бежали без оглядки; но берзеки той же шайки, до 150 человек, отдыхают в лесу за речкой, лошади их пущены в поле на подножный корм. Трое пасут табун; не более десяти имеют лошадей в руках на всякий случай; зарядов почти ни у кого нет. Я отобрал двадцать казаков, посадил их на лучших коней и отправился на берзеков. На трех табунных мы наскочили внезапно и, сначала принятые за своих, изрубили их. Мы угоняли косяк, когда ца нас выскочило множество хищников. Конные преследовали нас довольно долго, наконец, отстали. Возвратись в аул, я велел переловить лошадей и позволил казакам обменять своих коней; на остальных посадил наших пленных и таким образом прибыл сюда.
– Хорошо, что так кончилось, а если б у вас убили несколько казаков, чем бы оправдались?
– Я не возвратился бы живым, заставил бы себя изрубить. Сделайте милость, Александр Петрович, узнайте, как кордонный начальник представит об этом деле?
– Стоит ли того! Пускай пишут, что хотят.
– Убедительно прошу вас, сделайте эту милость! Ведь захотите – все узнаете.
– Пожалуй, постараюсь.
Пшемаф взял ручонку Айшаты и сказал: «Напомни, джана*, Искендеру». Девочка приветливо улыбнулась, кивнув головкою; потом стала перебирать усы Александра.
Никого не было в комнате Пустогородова, когда вошел печально отец Иов. Несколько раз уже приходил он к приятелю, но тот все еще спал. Старец крепко пожал руку Александру и сказал:
– Я пришел к вам на всю ночь; все заснут, некому будет о вас побеспокоиться.
– Как некому?– воскликнул из-за двери кабардинец,– а я!
– Благодарю вас, Пшемаф!—отвечал Александр.– Нет, ступайте спать, вы устали, проведя всю ночь на коне —вам нужен отдых.
– Ничуть не устал! Я выспался верхом, едучи обратно из аула, и даже видел чудесный сон.
– Хорошо! Однако ступайте-ка домой, завтра же милости просим опять ко мне.
*Милая
– Ну так прощайте!—сказал Пшемаф и вышел с Николашей.
Александр Петрович кликнул слугу и спросил, много ли должны в лавку. На ответ «более двухсот рублей» он приказал забрать еще нужной провизии рублей на сто и на следующий день велеть лавочнику явиться к нему. Слуга вышел.
– Славно надую армянина,– сказал, улыбаясь, Александр священнику,– он будет думать, что я зову его получить деньги, а я отопрусь от долга.
– Возьмите у меня денег, если вам нужно,– возразил священник,– между нами, кажется, расчетов не бывало.
– Благодарю вас, я не нуждаюсь в деньгах – это дело совсем другого рода.
Свет огня беспокоил раненого. Он просил позволения у отца Иова поставить ночник вместо свечей.
Когда тело слабеет, обыкновенно упадает и дух – это случилось и с Александром, душа которого была закалена опытом. Жар, всегдашний сопутник ран, томил его; тусклое освещение комнаты, оставляя предметы в полумраке – все вместе ввергло больного в уныние.
– Вот, Иов Семеныч! – сказал он, тяжело .вздыхая,– желал я быть ранен, воображал, что острые страдания заставят меня наконец, так сказать, ощутить жизнь, пробудят к чувству хотя чисто физическому. Ничего не бывало! Боли нет, лишь одна несносная, неодолимая тоска меня терзает. Как все надоело мне! Как скучно! Зачем не убили меня?
– Бог с вами, Александр Петрович! Что за малодушие? Впервые я вижу вас в таком виде! Ужели вы таили в себе безнадежность?
– К чему показывать ее? В чьей душе отзовется она? Кому какая надобность знать о ней? Разве для того только, чтобы подарить меня притворным сожалением? Но я предпочту ненависть даже искренней жалости.
– Верю! Быть может, письмо бабушки родило в вас такие отчаянные мысли? Конечно, тяжело убедиться в недоброжелательстве матери! Но поможете ли вы этому малодушием?
– Отец Иов! Выслушайте меня: давно уже я отчужден от своего семейства, от родины —я один в мире! Доказательством может служить брат мой. Вот он здесь, я не имею причин не любить его, потому что почти не знаю его; между тем я не нахожу, о чем с ним говорить. Иные чувства, иные мысли, иные привычки, иной круг людей расторгли все связи между нами – это неоспоримая истина; но не я в том виноват! Судьба, одна судьба всему виною! Она отчуждила меня, оторвала от всего, с чем на мгновение сроднила.
– Нет, не судьба, а рана и потеря крови причиною, что вы в дурном расположении духа.
– Да, рана заставила меня убедиться более, чем когда-нибудь, в справедливости моих суждений. Возьмите всю жизнь мою: рожденный с пылкою душою, едва расцвел я, как увлеченный легкомыслием, попал под правосудие законов и был низвержен в низшие ступени общественного быта. Впоследствии времени семейные огорчения охладили во мне чувства к ближнему. С восторгом понесся я в бои, надеясь, что сильные ощущения и опасности пробудят мою нравственную усыпленность и честолюбие будет целью бытия. Не .ошибся я —опасности занимали меня мгновенно. Но и к ним я привык, сделался равнодушен к опасностям; честолюбие немного долее жило во мне, и оно затихло после часто обманутых надежд. Сначала я чувствовал неизъяснимое омерзение к трупам, остающимся после битвы;* по крайней мере ощущал хотя неприятное чувство. Скоро я так свыкся с ними, что мог есть над трупами, употребляя их вместо стола или камня, садился на них, клал их в изголовье, когда спал. Нередко даже завидовал спокойствию, изображавшемуся на лицах убитых. Ужели утрачены для меня все чувства?—подумал я; люди влюбляются и счастливы! Я предался всей силой страсти к одной женщине, был минутно счастлив ее привязанностью, но убедился, что такое счастье неразлучно с грустью; но прошла и любовь,– что же стало из меня? Я седой старик с кипящей кровью,с горячею душою, без страстей, без любви, без ненависти к людям, старик, которому все наскучило, ничто не мило и который убежден, что никому не нужен.
– Но совесть должна успокоить вас: вы превозмогли много бедствий и остались нравственно безукоризненны – это великий подвиг!
– Конечно, можно почитать подвигом, что я не сделался мерзавцем!—отвечал, презрительно улыбаясь, Александр.
Отец Иов дал другой оборот мыслям своего приятеля, рассказавши ему какую-то повесть.
Разговор друзей и повествование отца Иова длились долго за полночь. Пустогородов напрасно упрашивал отца Иова идти к себе домой; добрый священник провел всю ночь возле раненого и только к рассвету отправился слу-
жить заутреню.
Александр долгое время не мог сомкнуть глаз; наконец
сон овладел им. Николаши всю ночь не было дома.
IV
Сновидение черкеса
The spirits were in neuter space, before
The gate of heaven$ like eastern thresholds is
The place where death`s grand cause is argued o`er
And souls dispatched to that world or to this.
Byron . The vision of Gudgment
Покуда Пшемаф и Николаша сидели вместе, в ожидании посланного ими искать по станице казачек, последний, не зная, какой завести разговор с молодым черкесом, спросил о его сне при возврате с тревоги на Кубани.
Пшемаф закурил трубку и начал следующим образом:
– Вы не знаете Кавказа, поэтому не можете себе представить, что такое в здешней стране весенний вечер в горах. Воздух хоть и тепел, но какая-то животворная свежесть не допускает его сделаться тягостным, удушливым; солнца, скрывшегося за исполинскими громадами, не видно, только ущелье освещено отблеском яркого неба. Дивная картина! Ветра вовсе нет; природа спокойна; благовоние распускающихся дерев и растений тихо воздымается вверх, лишь горный ручей, несясь по каменистому руслу, журча прерывает тишину природы, и пташка, скрываясь в ветвях прибрежного куста, поет перед вечернею зарею. Все это вместе, сочетаясь в одно прекрасное целое, чарует воображение и растворяет сердце —такова наша страна, таковы наши родные ущелья! Мне чудилось, что был подобный вечер, когда я вдруг перенесся в седьмое небо – седалище пророка! Там предстал я пред родового своего князя Жам-Бот Айтекова, который среди вечных благ и радостей сиял, как сияет невинная жертва коварства людей. Его окружали гурии. Их волшебный стан, восхитительная красота возбуждали непрестанные желания, всегда удовлетворенные и вновь возобновляемые. Среди них была одна, которой черты напоминали мне черкешенку, меня в тот день пленившую; но она была озарена блеском, присвоенным одним девам рая. Ничего земного не было в ней; взгляд ее, чуждый томности, как и беглости, соединял в себе то и другое, но без всякого излишества. Она устремляла взор свой, полный небесного выражения, и каким-то чудным магнетизмом рождала трепет в сердце; слияние двух взоров было источником неизъяснимой неги, невыразимых наслаждений! Скоро я узрел пророка, который предстал на суд смертных, кончивших земное поприще. Незримые хоры гурий и юношей наполняли все пространство сладострастными звуками: «Ла ил алла! Мугмет резул ил алла!» Один чистый, звучный голос отличался от прочих; в божественном восторге он пел бегство из Медины, начало Эгиры. Все замолкло. Начался суд. Пред лицо пророка—предстал высокий смертный. Это был пришлец от стран Запада, беловолосый, с длинными рыжими усами. Я не успел рассмотреть его черты, потому что мое внимание обращено было на самого пророка, который грозно вопрошал смертного, указуя на Жам-Бота – узнает ли он одну из многочисленных жертв, погибших от его злодеяний? «Не ты ли, о, смертный! – говорил Магомет,– старался утопить Жам-Бота среди кармаков и, не успев в этом, обласкал его, принял гостеприимно в своем доме, а сам, коварный, подослал подкупленных убийц стеречь в кустах выезжавшую жертву и умертвил его?» Иноземец смутился, но скоро стал оправдываться, говоря, что Жам-Бот возмущал народ, грозил восстанием. Пророк гневно отвечал: «Неправда! Жам-Бот был добродетельный муж, любимый и уважаемый единоземцами; доказательством тому служат потоки слез, пролитые народом по его смерти. Ты, смертный, злодейски купил кровь его! Ты завидовал богатству Жам-Бота, которое теперь тобою расхищено! Ты решился быть его убийцею, потому что опасался этого праведного мужа, который мог обличить тебя пред людьми во многих злодеяниях, в жадности и других пороках!» Судимый очнулся, смятение его исчезло; он стал возражать, что не подлежит суду пророка, ибо не признавал святости, а попал в седьмое небо ао ошибке людей, отказавших ему в погребении. Правосудный пророк приказал тотчас рассмотреть дело и справиться в четвертом небе, справедливы ли показания смертного. Между тем, смертный, пользуясь временем, старался разными ухищрениями – лестью, наглой ложью, обещаниями, словом – всеми средствами, которые на земле очаровывают и увлекают людей, привлечь к себе ликующих в седьмом небе. Явилась и справка. Четвертое небо уведомляло, что судимый смертный уже давно известен как богоотступник, человек без правил, безнравственности – за все злодеяния отвергнут четвертым небом. Магомет, выслушав этот отзыв, приговорил грешника не подлежать никакому суду, а быть возвращеным на землю с тем, чтобы все средства вредить людям у него были отняты. Длинный нос смертного начал уже заметно расти, когда его низвергли внезапно в болотные камыши. Звуки незримых хоров опять возобновились. В это мгновение подъехавший ко мне казак сказал: «Ваше благородие! Не туда изволите ехать; дорога лежит направо». Я проснулся.
Едва Пшемаф кончил свой рассказ, как посланный им возвратился с вестью, что все готово. Собеседники вышли вместе из дому и расстались на улице. Проводник повел каждого под сарай, где ожидали их роскошные постели из вязанки сена, брошенного в телегу или сани.








