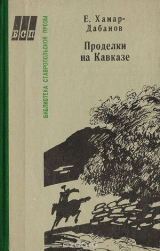
Текст книги "Проделки на Кавказе"
Автор книги: Е. Хамар-Дабанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Коляска Пустогородовых была уже запряжена, когда плац-адъютант, по приказанию коменданта, приехал к Александру, с распискою от Грушницкого в полученных деньгах. При ней было запечатанное письмо, в котором адъютант благодарил капитана и писал, что если брат его откажется выплатить это, в таком случае он сам, когда будет при деньгах, возвратит их. Он прибавлял, что надеется—Николай Перович помнит, как накануне у него, Грушницкого, шла карта от двухсот червонцев, которая легла плие и, следственно, по правилам игры, имела половину своего куша.
Александр показал брату записку и, отозвав в сторону, спросил, что это значило.
– Вздор!—отвечал Николаша.—Я позволил ему играть в карты с условием, что я беру плие, как в качаловском штосе.
Александр, получив расписку, написал на ней, что почитает ее вовсе не нужною и возвращает назад, надеясь и без этого иметь свои деньги от Грушницкого впоследствии времени.
Плац-адъютант отправился с нею обратно.
– Охота тебе, Александр, давать деньги подобным людям!—сказал Николаша.– Теперь Грушницкий будет везде рассказывать, что вызывал тебя стреляться, а ты струсил и, желая скорее избавиться от него, снабдил даже суммою на дорогу. Я давно знаю этого молодца!
Пускай говорит, что хочет! Кто меня знает, тот не поверит. От клеветы ничем не предостережешься! Впрочем, Грушницких много на свете. А тебе что за мысль была играть с ним и делать такие условия?
– Я думал от него отделаться.
– Что же, отделался? Нет, эти люди истинная язва! От них ничем не отвяжешься; у них нет ни стыда, ни совести. Впрочем, им терять нечего! Отвратительные творения!
Пустогородовы сели в коляску. Ямщик ударил кнутом. Пыль взвилась столбом на улице.
III
Кавказские Минеральные Воды
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой,
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды…
А. Пушкин. Евгений Онегин
В первой половине мая братья Пустогородовы подъезжали к Пятигорску. Они оставили уже влево Горячинскую станицу, лежащую в полуторе версте от горячих серных ключей.
– Да где же Пятигорск? —спрашивал с нетерпением меньшой брат у старшего.
– А вот, сейчас въедем,—отвечал последний. И коляска катилась уже по слободке, между двумя рядами разновидных домов.
– Верно, это городское предместье! – сказал Николаша.
– Нет, это часть самого города, известная под именем Слободки; здесь поселены женатые солдаты, нарочно, чтобы посетители имели более наемных квартир.
– Что за город! Нет заставы, ни острога, ни кабака! Все какие-то лачуги, одна другой хуже.
Группы солдаток и девчонок сидели у ворот, крича проезжим:
– Господа, здесь порожняя квартира, не угодно ли остановиться?
– Откуда набрали таких уродов? – возразил меньшой Пустогородов.– Ни одного порядочного женского личика!
– Жены солдатские привозятся сюда из России к мужьям.
Бедные мужья!.. Небось красавица не явится к мужу, ей и без него хорошо.
Наши путешественники поравнялись с домом доктора Конради, перед которым зеленел миловидный сад; повернули за гору, и взору их открылись красивые дома, каменные здания, бульвары, купальни, беседки, сады, стлавшиеся по скату возвышенности, этого подножия горе Машуку*, которая поднимается грозным исполином над Пятигорском.
* Машук – одна из пяти гор, давших свое имя городу и называемых туземцами Бештау. По-татарски беш значит пять, а тау — гора.
Коляска остановилась у ресторации: огромное, каменное и самое неудобное для помещения строение. В бельэтаже находится трактир: довольно пространные комнаты служат в будни столовою и сборищем для картежных игроков; в праздники тут даются балы, на которые всякий имеет вход, заплатив за билет; комнаты две остаются для приезжих постояльцев. И здесь хозяйничает наш старый знакомый, Неотаки. В верхнем этаже отдаются внаем номера не более как на пять дней: посетители должны быть весьма признательны за краткость срока, потому что эти покои, несмотря на дороговизну, чрезвычайно неудобный в летнее время несносны своею духотой. Тут остановились, временно, братья Пустогородовы.
Первою заботой Александра было отыскать дом для родителей. Ему не нравилась главная часть города, около бульвара, которую обыкновенно предпочитают столичные посетители, любящие шум и рассеяние; он знал все невыгоды ее: в знойное время там нестерпимый жар от соседних раскаляющихся скал; всегда, удушливый запах серы веет с горячих источников, и вдобавок вечная пыль с мостовой проникает во внутренность домов. Поэтому он избрал квартиру на конце города, окнами на Машук: чистый воздух полей, свежая зелень,"-тишина и уединение места пленили его. При доме был флигель, в котором хотели поместиться оба брата, чтобы не стеснять стариков. В Пятигорске квартиры хоть и чисты, но вообще довольно тесны и скудно меблированы. В эту пору года хозяева обыкновенно дорожатся, в надежде на большой съезд; но позднее, в июле месяце, если посетителей мало, они уступают за полцены.
Николаша был здоров. Александр два раза в день ездил в Александро-Николаевские ванны погружать свою раненую руку, без чего нельзя было возвратить ей движения: поэтому оба брата не порабощались образу жизни, предписанному при лечении. Они не толпились в известные часы вокруг целебных источников, не бродили по улицам и бульварам, не столько для движения, сколько от нечего делать, ложились в постель когда хотели, и ели что приходило на мысль. Впрочем, в мае месяце в Пятигорске всегда стоят туманы, ветры и дожди, одна лишь необходимость может вынудить человека выйти из дому.
Настал июнь, а с ним и ясные дни*. Братья Пустогородовы от любопытства и скуки решились следовать правилам водяного лечения. Вставая до восхода солнца, они обыкновенно отправлялись к источникам.
* Только не каждый год это бывает; постоянная хорошая погода всегда начинается с половины июля и продолжается весь август, а с нею неразлучен нестерпимый зной.
Какое жалкое зрелище представляет это гулянье, которого однообразие прерывается только тем, что гуляющие каждую четверть часа подходят к ключу пить из целительной струи! Инвалид, из среди множества разновидных стаканов, которые висят на длинных тесьмах, снимает с крючка тот, который вам принадлежит, погружает его в горячий источник, выполаскивает и подает вам. Вы морщитесь и пьете тепловатую зловонную воду, которая на несколько секунд оставляет во рту вкус тухлых яиц. Таким образом, вы проглотите стакана три, и потом идете ходить или садитесь в какой-нибудь беседке рассматривать лица больных, проходящих мимо вас. Между тем инвалид систематически вешает ваш стакан на свое место, наблюдая всегда самое пунктуальное старшинство: вы можете быть уверены, что стакан подполковника не будет никогда висеть выше стакана полковника, и так далее. А что за лица ежеминутно встречаете вы по саду! Здесь разбитый параличом едва передвигает ноги; тут хромает раненый; там идет золотушный; далее – страдалец в язвах, этот—геморроидалист; рядом с ним – страждущий от последствий разврата; словом, тут средоточие всех омерзительных недугов человеческого рода. И кого не найдете здесь? И военных всех мундиров, и разжалованных, и статских, и монахов, и купцов, и мещан, и столичных модниц, и толстых купчих, и чванных чиновниц, и уморительных оригиналов; не забудьте, что все это натощак, спросонья! Несмотря, однако, на господство самых отвратительных страданий, волокитство и чванство не покидаются. Жалко смотреть, как иная, бывшая красавица, увядающая от болезней и годов, ищет пленить кого-нибудь своими потухающими взорами, которые выглядывают из-за бледно-желтых щек. Забавно видеть, как иной генерал и тут не оставляет своей важности, громко судит и рядит, и счастлив, что его стакан висит выше других; как самонадеянно останавливает он гуляющих обер-офицеров, готовый при малейшем неудовольствии напомнить свой превосходительный чин; как принуждает их выслушивать самые пошлые рассказы, самые бессмысленные предположения. Всякий из этих господ корчит Наполеона; многие корчили бы и Фридриха Великого, но не все знают об его существовании. Пословица справедлива, которая гласит, что нет семьи без урода. А толков-то, толков!.. Чего не наслушаетесь вы на этих гуляньях! И пересуды, и сплетни, и жалобы, то на скуку местопребывания, то на неудобства дороги, на грубость и притеснение станционных смотрителей, то на недостаток в лошадях и на прочее. Большею частию, однако ж, предметом разговоров служит разбор военных действий на Кавказе и методы лечения пятигорских медиков, которые, сказать мимоходом, живут между собою как кошки с собаками. Заключением всех пересудов хула директору минеральных вод: человек никогда и ничем недоволен! Между тем теперь это место занимает достойный начальник, добросовестный ветеран, полковник, украшенный ранами; ему поистине обязан Пятигорск введением устройства и порядка на водах. Здесь услышите старого моряка, уверяющего, будто самый лучший образ лечения – выпивать по восьмидесяти стаканов горячей серной воды утром и столько же вечером: такое лечение он предпочитает даже морским пуншам, которые совсем не гомеопатически пивал во время оно. С ним спорит больной, утверждающий, что весьма достаточно трех стаканов, и то должно пить в продолжение трех пасов. Третий присоединившийся к ним замечает, что трех стаканов мало, потому что глотать их надобно лишь до половины: газ испаряется, пока больной подносит стакан ко рту. Далее, возле скамейки, занимаемой кирасирским офицером и старым кавказцем, составился кружок. Послушаем, о чем они толкуют так горячо?
– Ваш ходил на черкес войну? —спрашивает .немец, кирасир, кавказского офицера.
– Как же, ходил, капитан! – отвечает последний.
– Ну, вот там видит несколько горки!.. Пожалост рассказать, что есть за горки? Мой долго смотрим на географической карт... ясно ничего понимать не могла.
– И я ничего не разберу... Смотрел не далее как вчера на почтовой карте, но ничего не понял,– сказал низенький старичок, курский помещик.
– Ой! Пожалост не мешайт!.. Видит, что серьезный разговор. Так, господин казак-офицер, что там за этих гор?
– Опять горы, капитан!
– Ну, знай; а далее?
– Горы же.
– Тфу, тейфель! Ну, а за гор?
– Все горы.
– Ну, а за горы?
– Не знаю, это уже Турция.
– Турци! Тфу, ваш ничего не знаит. А Грузий, Тифлис, где?
– Все, что вы видите, это – горы, обитаемые осетинцами и их племенами; вон в том направлении горы примыкают к Имеретин, а в эту сторону к ахалцыхскому хребту; за ними, наконец, граница Турции.
– Ну, а Тифлис куда деваит?
Тифлис более к востоку.
– Ха! Ха! Ха! —И немец, ворча про себя, что кавказец ничего не знает, удалился.
Там, на горе, стоит высокий седой кавалерийский генерал, прославившийся своею бешеною храбростью. Его окружили слушатели. Он бранит без пощады все на свете, но пусть бы сам попытался проскакать с одним кавалерийским полком чрез Кавказский хребет!
Однако пора нам оставить пятигорских ораторов и возвратиться к описанию жизни на водах.
Отправив в желудок известное число стаканов теплой зловонной воды и нагулявшись поневоле, посетители возвращаются домой ожидать своего часа на ванны. Пробьет урочное время колокол, и кареты, коляски, дрожки, запряженные по большей части клячами, потянутся со всех сторон к купальням. Здесь больные, посидев в горячей воде, ложатся в пристроенной комнате и потеют, пока не услышат несколько слабых ударов в дверь и голоса: «Пора выходить, ваша половина прошла!»* Тогда начинают скорее одеваться, закутываются как можно теплее и спешат домой пить жидкий зеленый чай или маренковый кофе; потом, пропотев еще дома, одеваются на весь день или до
повторения того же самого процесса после обеда. В первом часу пользующиеся должны обедать, то есть покушать жиденького супу из чахоточной курицы и соусу из зелени; иногда к этой, скудной трапезе прибавляется компот из
чернослива; о вине и подумать не смеешь пить,– кофе еще менее. Ложиться должно не позже одиннадцати часов вечера, чтобы на следующий день начать то же самое. Вот как проходит лето в Пятигорске, исключая воскресенья и праздники. В эти дни обыкновенно не берут ванн, чтобы утром быть у обедни, а вечером на бале.
Николаше вовсе не нравилась такая жизнь. Впрочем, вскоре он познакомился с одним полковником, приехавшим из Грузии, и проводил у него большую часть времени. Полковник обратил внимание Пустогородова сначала своею фуражкою, известною в Закавказье под названием а-ла-Ко-цебу, а потом и самим собою. Не подумайте, однако, чтобы это была какая-либо немецкая оригинальная шапка или чухонский колпак: это просто фуражка, обтянутая белым чехлом, который покрывает вместе и козырек.
* В ванны пускаются по билетам на полчаса.
Полковник, носивший ее, был человек преждевременно состарившийся; в правильных чертах его лица, которое некогда нравилось женщинам, выражались необузданные страсти, превратившиеся в привычный разврат; следы изнурения, истомы и душевных огорчений от обманутых честолюбивых надежд подернули какою-то мрачностью это лицо, некогда прекрасное (по крайней мере, таковы были слухи). Редкие волосы, едва покрывающие голову, давали некоторым образом понятие о жизни. Накопив груды денег, он приехал насладиться покупными удовольствиями, но, не находя их по вкусу своему, проводил ночи за картами, а утро и вечер посвящал волокитству. Вероятно, полковник, по старой привычке, снисходительно смотрел на себя в зеркало; иначе он счел бы нужным поступить в число заштатных волокит. Но человеческое самолюбие слабо! На гуляньях он ухаживал за истощенными мнимыми красавицами, рассказывал им с восторгом были и небылицы о крае, откуда приехал, и прикрашивал рассказы словами: «Восхитительная страна!.. Особенно для того, кто составил себе имя в ней!» Николаша, слышав несколько раз эти слова, спрашивал у его товарищей, что за подвиги у этого офицера в Закавказье? Ему отвечали: «Как же! Он известен в Кавказском корпусе!» Но чем, никто не знал. Он обратился с этим вопросом к брату.
– Да! – отвечал Александр,– он известен в нашем корпусе огромными доходами, которые незаконно наживает, строптивостью и нёприятностью нрава и страстью к азартной игре. Он выжил из полка почти всех старых, заслуженных офицеров.
Довольно было для Николаши слышать, что полковник любит игру. Он сдружился с ним и скоро очутился среди всех игроков, нарочно съехавшихся в Пятигорск, чтобы обыграть друг друга. Он играл ежедневно, но мало выигрывал: записные искусники не допускали его чрезмерно пользоваться счастьем. Он и не проигрывал однако ж, потому что всегда метал: стало быть, труднее давался в обман.
Наконец приехали старики Пустогородовы. Петр Петрович не владел правой рукой. Прасковья Петровна оставалась так же здорова и свежа, как мы ее видели. Оба очень радушно встретились с Александром: отец истинно любил сына, а матери понравилась его наружность и кротость в обхождении. О Николаше нечего и говорить? ему обрадовались невыразимо! Но он был со стариками довольно холоден и невнимателен, как человек, совершенно уверенный в их любви и не помышляющий, что может ее потерять. Николаша советовал отцу быть воздержаннее в пище, а мать пенял за невысылку денег, когда он их просил. Послали за медиками; сделали консилиум: доктора поспорили, покосились, отпустили несколько колкостей друг другу и решили, что больной должен пить серную горячую воду, брать ванны, соблюдать строгую диету, мало спать. В непродолжительном времени они хотели опять собраться, чтобы узнать о ходе болезни и действии лечения. Каждый взял по двадцати пяти рублей и уехал, притворяясь, будто не смотрит на своих собратьев. Пятигорские медики все между собою враги: это необходимо, чтобы больные не заметили в беспрерывных консилиумах, которых они то и дело требуют, желания исторгать побольше денег. Врачи считаются между собою приглашениями на консилиумы, точно так же, как светские дамы визитами; но у них счет еще сложнее, потому что берется на бирку плата за консилиум. Если доктор приглашает своих собратов на совещание к такому больному, который дает по пятидесяти рублей, так этого медика они должны пригласить, каждый в свою очередь, на консилиум той же цены. Похвальное братство, утешительное в роде человеческом правосудие!.. Но, кажется, оно не совсем приятное для пациента. Наконец Пятигорск дождался 25-го июня. Гарнизон утром причепурился и дал, как водится, развод. Почтенный комендант, маститый ветеран, поседевший на сорокалетней безукоризненной службе, выгладил свой ус, не уступающий белизною снегу Эльборуса*; поздравил солдат с торжественным днем рождения государя императора и разослал посетителям повестки, что вечером будет бал в ресторации. Желающие танцевать должны были явиться в мундирае; прочие, кому здоровье не позволяло наряжаться, могли быть в сюртуках. Разумеется, это возбудило ропот: на что не ропщут! Пошли толки. «Что за мундиры, когда приехали за тысячу верст лечиться!»—говорили одни. «Никто не пойдет на этот бал!»—восклицали другие. Конечно, для дендизма невыгодно приходить на бал с объявлением: я намерен танцевать. Для истинного модника нет ни цели, ни намерений: таков тон нашего времени. Настоящий денди отправляется, не зная сам куда, совсем не ведая зачем: по крайней мере должен это показывать.
* Одна из самых высоких гор Кавказского хребта; вершина ее покрыта вечными снегами.
Единственная цель его —взглянуть, что делает толпа. Как можно идти отыскивать удовольствия! Будто денди нуждается в них! Будто будуар его скучен! Будто он сам в себе не находит довольно средств к развлечению! Такая мысль Оскорбительна для него. Денди ни с кем не говорит: он дарит словами, которые, по его мнению, во сто крат питательнее для ума, чем манна была в пустыне для израильтянина. Денди надел бы сюртук и пошел на бал: к счастию, однако ж, в Пятигорске этих господ мало. Тут все армейские офицеры. Скучая всю жизнь в деревнях на портое, развлекаясь только в обществе какого-нибудь грубого мелкопоместного дворянина или оскорбительно надменного богача-помещика, они радехоньки посмотреть на бал, себя показать и потанцевать. Они надели мундиры и явились на вечер.
Пятигорские балы довольно благовидны: зала, где танцуют, просторна, опрятно содержана, изрядно освещена; музыка порядочная. Приезжие дамы корчат большую простоту в одежде, но в наряде их проглядывает иногда тайное изящество – что вовсе не лишнее, если выкинуто со вкусом. Пестрота военных мундиров, разнообразие фрачных покроев и причесок, различие приемов, от знатной барыни до бедной жены гарнизонного офицера, от столичного денди до офицера пятигорского линейного батальона, который смело выступает с огромными эполетами, с галстухом, выходящим из воротника на четверть, и до чиновника во фраке, с длинными, почти до полу, фалдами, с высокими брызжами, подпирающими щеки,—все это прелюбопытно и занимательно. Но когда начнутся танцы —тут смех и горе! Когда все эти лица, бледные, изнуренные от лечения и насильственного нота, задвигаются, невольно помыслишь о сатанинской пляске. И тут же, для довершения картины, проделки пехотных офицеров ногами, жеманство провинциального селадона, шпоры поселенного улана, припрыжка и каблуки гусара, тяжёлые шаги кирасира, притворная степенность артиллериста, педантские движения офицера генерального штаба, проказы моряка, грубые, дерзкие ухватки казако-ландпасного драгуна. Все странно и забавно!
Николай Петрович, разумеется, явился на бал в сюртуке: бегло смотрел он, зевая, кругом всей залы, но не останавливал взора ни на ком. Дверь внезапно отворилась в залу, и вошла осьмнадцатилетняя блондиночка: она была среднего роста, хороша собой и несколько застенчива. За нею подвигался полковник, лет около пятидесяти, угрюмый и старообразный. Все скрашивали друг у друга, кто они, но никто не знал. Комендант, отозванный в сторону, мог один удовлетворить общее любопытство; по его словам, это был полковник фон Альтер с женою, за час перед балом приехавший из России.
Николаша, всматриваясь в приезжую, узнал знакомые черты. Он тотчас подошел к ней.
– Китхен!.. Катерина Антоновна! Узнаете ли вы меня? Как давно мы не видались!
– Как вас не узнать, Николай Петрович! Я вас не видела с той поры, когда мы играли в бостон.—Тут Китхен опустила глаза и покраснела.
– Давно ли вы замужем?
– Второй месяц.
– Представьте меня, пожалуйста, вашему мужу.
Очень хорошо. Да вот он, кстати, идет.—Потом, обращаясь к мужу, она сказала:—Альтер, представляю тебе, мой друг, Николая Петровича Пустогородова, сына Прасковьи Петровны.
– Очень рад познакомиться! —отвечал полковник, протягивая руку Николаше.– А я тебе, моя Китхен, представляю полковника, моего старого, доброго товарища... Пошалили же мы с ним!– И сам держал за руку закавказского приезжего с фуражкою а-ла-Коцебу.
Фон Альтер отошел, новопредставленный сделал несколько вопросов, молодая женщина отвечала застенчиво. Полковник, удаляясь, пробормотал сквозь зубы, но так, чтобы она могла слышать: «Опоздал! Никак не поспеешь за этою несносною молодежью!»
Откуда вы теперь, Катерина Антоновна? – спросил Николаша.
– Из Москвы. Мой муж переведен в Грузию.
– Так вы едете туда?
– Нет, не скоро еще, муж поедет на днях в Тифлис и, устроясь там, приедет за мною, а меня покуда оставляет здесь, поручив вашей матушке.
– В самом деле! – воскликнул Николаша радостно.– Как это хорошо! Однако у меня есть много о чем с вами поговорить. У вас нет приглашения на мазурку?.. Не хотите ли ее танцевать со мною?
– Очень хорошо.
Так я съезжу домой переодеться: в сюртуках не позволено танцевать; я тотчас буду назад.
Мазурка началась. Пары пестрели кругом залы. Я не стану их описывать – ничего замечательного в этот вечер не было. Роза Кавказа, теперь уже поблекшая, сидела поникнув головой, подобно надгробному памятнику над красотою, утраченною без возврата. О время! Время! Чего не преобразуешь ты? Но подслушаемте лучше, что говорит знакомая нам пара.
– Скажите, Катерина Антоновна, что-нибудь об Елизавете Григорьевне? Я совсем потерял и след ее.
– Несмотря на то, она живет в вашей памяти, Николай Петрович! – сказала блондинка, покраснев и устремляя взор на своего кавалера.
– Да! Я помню ее как женщину, бывшую a La mode в то время как я жил в Москве.
– А еще как?
– Решительно никак.
– Не отпирайтесь: я знаю письма, которые вы к ней писали из полка.
– Какие письма?
– Страстные.
– В самом деле? – спросил кавалер с притворным любопытством:—Я писал страстные письма!.. Что, были они очень глупы?
– Не скажу вам, как они мне казались, но могу только вас уверить, что они веселили вечера у бабушки Елизаветы Григорьевны,– отвечала дама, смотря на своего кавалера с торжеством.
– Каким же это образом?.. Расскажите, Катерина Антоновна.
– .Елизавета Григорьевна читала их вслух, придавая своему голосу особенную трогательность. Она кончала, поднимая глаза к небу, словами: «Ваш! Навсегда ваш! Вечно ваш Николай Пустогородов».
– Сознаюсь,– отвечал смущенный Николаша,—очень сожалею, что узнал об этом. Я думал дурачить Елизавету Григорьевну, а выходит, что она смеялась надо мною: непременно ей отомщу! Где она теперь?
– Право не знаю, и полагаю, никто в России не знает.
– Каким образом?
– Несколько дней после вашего отъезда из Москвы приехал какой-то артист, родом итальянец, которого красоту всюду превозносили. Елизавета Григорьевна стала брать у него уроки пения, чтобы усовершенствоваться, как она говорила, в этом искусстве; заперлась с ним дома; едва показывалась на свет, и то в его сопровождении. Об этом заговорили, смеялись над нею, наконец, дошла очередь и до мужа; он взбесился; пошли распри. Елизавета Григорьевна внезапно уехала в Петербург, покинув мужа и детей; оттуда отправилась в Италию, под вечно лазуревое небо, где люди с пламенными и снисходительными сердцами. Так писала она к своей бабушке. «И для этой лазури,– прибавляла она,—оставила я свое родное, всегда облачное небо, которое при всем том прозрачнее совести людской. Пускай читают они мое письмо, писала она,– пускай узнают, в чем я их обвиняю: это вертеп пресмыкающихся, бессильных злоязычников, бесчестных обманщиков и глупых жертв, и все это судит да рядит, не зная ничего и не имея понятия ни о чем. Бывшему мужу моему скажите, что он бессовестный глупец, который принимает жену за бесполезное украшение в доме, подобно картинам, висящим на его стенах, или бронзе, обременяющей его камины. Он обманул меня: я покидаю его и детей, которых он из тщеславия будет называть своими. Мне не нужно его богатство, я предпочитаю бедность – с человеком одушевленным, обильно одаренным – золоту с бездушным трупом, в котором осталась жизнь только для обжорства и сна. Прощайте, бабушка, вас одних я любила и люблю —всех других смешиваю в одно и питаю к ним общее презрение. Если б отец и мать мои были живы, я бы спросила у них: зачем они продали меня такому мужу? Зачем сгубили? Пренебрегаю всех родных, кроме вас; оставляю навсегда их порог и несусь под вечно голубое, безоблачное небо, где останусь и умру». Вот ее слова.
– А вам так это письмо понравилось, Катерина Антоновна, что вы выучили его наизусть!
– Точно выучила наизусть, и немудрено: я читала его беспрерывно в продолжение двух недель старухе и тем из ее родных, кому она заставляла меня читать.
– Какая сумасшедшая ветреница эта Елизавета Григорьевна!
– Не судите так легко! Сообразите все беспристрастно, так выйдет, чта она, право, не так виновата.
Быть может, вы докажете, что она совершенно права!
– Нет, не берусь, Николай Петрович! Если хотите, я вам покажу ее письмо ко мне.
– А вы с нею были в переписке? Я этого не знал.
Я с нею очень сблизилась после вечера, когда играла с вами в бостон: она мне во многом открыла глаза, дала полезные советы, часто говорила о вас; учила не быть слишком доверчивой. В письме своем Она резко начертала мне женский быт.
– Я так и ожидал... ревнивая, сумасшедшая женщина! * Всю жизнь она делала глупости, а теперь бранит свет и людей. Как я узнаю ее в этом! Совсем была меня опутала.
Мазурка кончилась. Все разъезжались, бросая полусонный взгляд на простую, незатейливую иллюминацию, производившую однако ж прекрасное зрелище на гористом местоположении, по которому плошки и фонари были раскинуты.
На другой день фон Альтер расположился с женою в доме против квартиры Пустогородовых; у них отобедал, поручил Прасковье Петровне свою Китхен, а ввечеру уехал в Тифлис.
Молодая супруга скучала, оставшись одна. Николаша часто бывал у нее. Иногда, поздно, вечером, провожал он ее домой от Прасковьи Петровны. Иногда сидел вместе с нею у открытого окна, обращенного к Машуку. Тогда он притворялся, будто поражен величественным видом исполина, который, гордо воздымаясь во тьме, затеняет собою самую ночь. А меланхолическая Китхен пугалась.этого усиленного мрака; возводила глаза к небу; внимательно рассматривала звезды, сверкавшие над горою: то мечтала, будто видит в этих звездах горных духов, резвящихся на вершине горы, то силилась прочесть в них темные для нее символы. Й когда восходила луна и бледнели Машук и лежащий под ними дол; когда вдали таинственный свет освещал белые памятники кладбища, Китхен, предаваясь какой-то мистической задумчивости, напрягала слух, чтобы внимать веянию ночного воздуха среди общей тишины, изредка прерываемой трелью соловья в отдаленных кустах. Машука. Николаша, сидя с нею, любовался на юную мечтательницу; слова замирали на его устах от невольного благоговения к неизвестным думам милого творения. В остальное время искусный притворщик показывал ей столько внимания, столько любви, что это невольно льстило женскому самолюбию; но и тут умело умерял себя, так, что не пугал застенчивости Китхен, не пробуждал ее опасения и осторожности. Опытный волокита, он убаюкивал малейшие подозрения. Китхен – неопытное дитя! – создавала себе мир идеальный, воздушный, предавая забвению все существенное или и вовсе не помышляя о нем. Она, не подозревая ничего, день ото дня запутывалась более и более в сети.
В один теплый и тихий вечер, располагавший к сладострастию,– кто не знал его на севере, того прошу на юг, ничем другим не сумеем угостить, а за этим дело не станет!– в один подобный вечер Китхен и Николаша сидели вместе у окна.
Луна медленно всплывала на небо и уже осветила вершину Машука, которого подошва казалась от того чернее, чем когда-либо.
– Какой прекрасный вечер!.. Что вы такая грустная, Катерина Антоновна?—спросил Николаша.
– Нет, я не грустна, а только погружена в воспоминания: сегодня день рождения Елизаветы Григорьевны; бывало, мы праздновали его в деревне у ее бабушки. Давно ли, беспечная, она бегала по освещенным аллеям сада! А теперь где она? Счастлива ли? Помнит ли день своего рождения?
Николаша, заметив, что Китхен всегда говорит с жаром и любовью об Елизавете Григорьевне, расчел, что выгоднее было не показывать озлобления к этой женщине. Вместо ответа он тяжело вздохнул.
– О чем вы так вздыхаете, Николай Петрович?
– Какая вам охота прислушиваться к тому, что я делаю? Я вздыхал машинально.
– Нет, не машинально. Я желала бы знать, воспоминание ли это об Елизавете Григорьевне?
Николаша вместо ответа опять вздохнул; потом притворился, будто досадует на себя.
– Сознайтесь, вы вздыхаете о ней?
– Помилуйте, Катерина Антоновна! Зачем хотите вы знать все помышления человека?
– Я не хочу проникать в помышления ваши; а любя, горячо любя Елизавету Григорьевну, желала бы убедиться в ваших добрых чувствах к ней: тогда я стала бы еще более ценить вас.
– Если так, знайте же, что было время, когда я не менее вас был привязан к ней, но она не умела ценить моей любви, не имела довольно проницательности, чтобы видеть и измерять мою преданность.—И Николаша вздохнул еще раз.
– Я оправдаю ее перед вами, Николай Петрович; сейчас принесу ее письмо и попрошу вас прочесть его вслух.
Китхен пошла за письмом. Николаша в это время переставил свечи на окно, приготовляясь к чтению. Погода была так тиха, что свечи горели на воздухе, словно в комнате. Госпожа фон Альтер принесла письмо и вручила его Пустогородову. С истинной или притворной грустью он развернул его и устремил взор на знакомый почерк, некогда начертывавший ему слова надежды, любви и обетов.
«Милая моя Китхен!
Вижу – ты убеждена, что из ревности я советовала тебе остерегаться Пустогородова. Могу тебя уверить, ты ошибаешься. Что мне в нем? Зачем мне сохранять его? Испытав, что такое бездушный. старик, безжизненный труп, я искала ума и известности; но осталась недовольною и тем и другим. Наконец мне казалось, что ничтожество мужчины – всего выгоднее для женщины. Казалось, что взяв из праха и возведя человека на дорогу почестей в свете, я рожу в нем благодарность и тем приобрету его вечную любовь; но я ужасалась при одной мысли о связи с таким человеком. Я стала искать неопытного юношу, которого и свет еще не развратил. Я думала любовью своей сделать из него человека достойного. В это время столкнулась я с Пустогородовым; сблизилась с ним; но это – себялюбец, который все скудные способности своего ума клонит к холодному расчету; который вне себя ничего не любит. Если б я могла отыскать в нем хоть искру чувства, хоть каплю этого баснословного теперь самоотвержения, я бы им дорожила. Но, как он есть, он мне не нужен. Причем же я остаюсь? Обманутая в своих надеждах, одна в мире —одиночество несносно мне!—я ищу и не нахожу, чего жаждет моя душа. Между тем я бессильна восстать одна против обычаев света, но я мужаюсь в тиши и чувствую, что скоро, скоро настанет час, когда я стряхну застарелую пыль предрассудков и по-своему направлю смелый полет свой. Закиданная бранью и хулой, я буду улыбаться воплям рабов, скованных глупыми приличиями, с сожалением о них; но для этого мне нужен товарищ; я ищу его посреди художников. Вот тебе откровенное признание. Можно ли одобрить меня? Никак. Можно ли обвинить? Нельзя. Виновна ли я? Нисколько, Вся вина падает на моих родителей. Воспитанная беспечною девочкою, я прочла в уме отца и матери, что постыдно для меня и для семьи, если толпа женихов не будет за меня свататься, лишь только я созрею; глупый предрассудок, что девушке необходимо выйти замуж, чем скорее, тем лучше, усиливающий у нас природное влечение к замужеству, желание освободиться от родительского порабощения, которое делалось несносным; наконец любопытство и, быть может, неясные желания —все влекла меня поспешить брачными узами. Не зная людей, их свойств и пороков, родители, воспитавшие меня, должны были или вовсе удержать от замужества, или обдуманно выбрать человека, с которым хотели сковать меня навсегда... Нет, Китхен, не таковы родители, по крайней мере вообще, исключая весьма немногих! Человек не перестает быть человеком под названием отца или матери; он все раб низкого, унизительного расчета и тщеславия. Отдавая дочь замуж, отец не думает, какой у меня будет супруг, но рассчитывает, какой у него будет зять, требуя, чтобы он непременно своим положение в обществе был выше тестя, званием ли, состоянием ли или блеском в свете. Об его личных достоинствах родители не заботятся; лишь бы дочь была замужем. И вот несчастную девушку венчают. Неопытная, она покидает, родительский кров и в короткое время делается не женою, а собственностью мужа. В свете он ее показывает вместе с дорогими каменьями, на ней развешанными; дома, если не стар или не истощен, насыщается ею, словно каким-либо кушаньем, покуда вкус не притупится к одним и тем же удовольствиям; если же он и стар, изнурен, то порабощает ее всей угрюмостью своего нрава и своих привычек. Вот тебе, милая Китхен, слабый очерк светского супружеского быта! Если всмотреться более, каких омерзительных происшествий не увидишь!.. А что ж нам, женщинам, делать? Куда деваться? Остается попрать закоснелые предрассудки и отдать себя на суд и осуждение света. Честолюбие родителей не ограничивается дочерями; оно простирается и на сыновей тот из них, которому фортуна улыбается, который достиг больших почестей или женитьбою приобрел более связей, тот наделен ими щедрее, без разбирательства, слепое ли счастье везет ему, или личные достоинства служат возмездием. Я представляю тебе, моя милая, эту картину для твоей пользы: ты молода, хороша собою и неопытна. Не ожидай в замужестве более того, что можно найти; не украшай этого быта цветами своего воображения; готовься встретить в нем грустную существенность. Если ты сама выберешь себе мужа, ты также можешь ошибиться и, притом, в несчастии не будешь утешена нежностью родителей; если же выйдешь замуж по их видам, они, по крайней мере, станут тебя лелеять: но знай, что уж ты не будешь им доверью, а зять, по их выбору, будет для них сыном, ты – его женою! Во всем он будет оправдан, ты обвинена: чем старее люди, тем менее они сознательны в своих ошибках.








