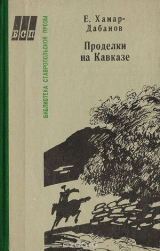
Текст книги "Проделки на Кавказе"
Автор книги: Е. Хамар-Дабанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
В зале все суетились. Музыка играла. Все воображали, по крайней мере, что веселятся. Была третья французская кадриль. Николаша и Китхен танцевали вместе. Толпа зрителей разбирала красоту и ловкость приезжих дам; или смеялась над ужимками туземок и над одеждой жен и дочерей офицеров местного гарнизона, старавшихся выказывать себя и свое тряпье, в той мысли, что подражают современной моде. Фон Альтер долго смотрел на танцующие пары, наконец, ему надоело, и он, взяв в трактире трубку, отправился курить в сад. Долго ходил он без цели, вслушиваясь в звуки оркестра. Музыка умолкла. Полковник сел на скамью в гуще леса, откуда, никем не замечаемый, мог видеть все происходившее кругом. Он увидел Александра, задумчиво и одиноко бродившего в темной части аллеи; увидел много молодых дам, порхавших мимо и скрывавшихся в темноте. Вдруг он вскакивает с места... Это она! Китхен мелькнула перед его взором. Она беспокойно озиралась кругом, как дикая серна, чующая охотника. Но куда девалась она? Ее не видно. Фон Альтер, обратив все внимание в слух, подкрадывается по тропе в самую гущу леса; сердце его сильно бьется; ему страшно убедиться в том, что душа подозревает. Но во что бы то ни стало он хочет все узнать. Он не видит, куда идет, беспрерывно спотыкается, задевает за сучья дерев. Инстинкт указывает ему дорогу. Вдруг... слышен поцелуй и шепот разговора. Он вслушивается, голос произносит:
– Милый друг!.. Ужасно... целый день быть вместе... и как будто не видеть друг друга... как я люблю тебя!..
Затем еще поцелуй, и опять шепот. Фон Альтер не внимает более словам, он приближается как можно тише; дошел... перед ним двое; темнота мешает различать лица, но это женщина и перед ней мужчина; она говорит:
– Помни... я всем жертвую, чтобы тебя прижать к сердцу, тебя поцеловать...
В эту минуту послышался удар и треск сломавшегося чубука. Фон Альтер говорил молодому любовнику:
– Если вы желаете знать, кто вас ударил, милостивый государь, имею честь уведомить, что я полковник такой-то.
Потом, уходя в досаде, он ворчал про себя: «Какая беда! Изломал чубук! С меня сдерут за это рубля три серебром! Впрочем, нужды нет, из обломков сделаю два маленьких дорожных чубука».
Напрасно Николаша уговаривал Китхен войти в залу. Она непременно хотела идти домой. Вся трепеща, она плакала и озиралась кругом, воображая, будто видит кого-то, будто слышит шаги, приближающиеся опять; между тем никого не было. Николаша тщетно представлял ей, что, не возвратясь к танцам, она утвердит подозрение мужа, который теперь может только подозревать, не будучи ни в чем уверен. В темноте он не мог различить, кто были любовники. Но госпожа фон Альтер не хотела ничего слушать, перешла речку по набросанным каменьям, оступилась, замочила ноги и в сильном, душевном волнении пришла домой. Николаша, сделав пребольшой крюк по саду, вошел совсем с другой стороны в залу, где начиналась кадриль. Тут, не теряя времени, он подхватил даму и, как будто ни в чем не бывало, уже стоял в кадрили, когда вошел полковник фон Альтер. Один младший Пустогородов мог заметить, как старый немец, с сильным беспокойством, искал глазами кого-то среди танцевавших и сидевших дам. Осмотрев всех, немец вышел и не возвращался более на бал, но когда мазурка кончилась и стали садиться за ужин, фон Альтер очутился против Николаши.
– Что вашего брата не видно, Николай Петрович?– спросил он.
– Не знаю! Верно ушел к отцу, он не любит балов, не танцует, в карты не играет... не мудрено, что ему скучно,– отвечал Николаша.
Ужинающие спрашивали вина, друг друга потчевали; фон Альтер и Николаша нимало не отставали от прочих. Начали перебирать красавиц, бывших на бале, оценивать их черты, уборы, стан и движения: кто хвалил одну и смеялся над другой; кто повторял остроумные слова такой-то и рассказывал нелепости, слышанные от другой; смеялись над глупыми выходками, над двусмысленными выражениями; словом, шум за столом был велик. Фон Альтер рассуждал с Николашею о ревности: супруг оправдывал это чувство. Пустогородов доказывал его ничтожность и находил, что умный человек должен быть выше ревности, которая, вкравшись в сердце, унижает его перед самим собою и другими. Соседи двух собеседников вскоре вмешались в разговор, сделавшийся общим.
– Я враг поединков,—говорил полковник,—но всегда оправдаю его, когда он внушен справедливою ревностью: только в таком случае уж должно драться насмерть, чтобы один из соперников не ходил по одной и той же земле с другим.
– А ответственность вы ни во что не ставите?—спросил Николаша.
– Что за ответственность!– возразил фон Альтер с жаром.– Когда ревность справедлива, тогда все потеряно... остальным нечего дорожить.
– Нет, я не согласен с вами!—сказал Николаша.– В верности женской я не полагаю еще всего; когда женщины мне изменяли, я им платил тем же: выгода была с моей стороны.
– .Вы так судите, потому что еще молоды, не бывали истинно привязаны к женщине; но поживите, иначе заговорите. Я перешел ваши года; спросите, вам скажут, что фон Альтер не терял времени, торопился жить: и точно я был Геркулес; но и я, батюшка, истощился!.. Все мне надоело. Точно так же будет и с вами, если у вас достанет сил дожить до моих лет.
– Смотрите, полковник, я могу передать ваши слова Катерине Антоновне... ей не будет приятно, что муж сам сознается в своей старости,– сказал, смеясь, Николаша.
– Не говорите мне о бедной Китхен! Я сделал величайшую глупость, что женился на ней; погубил ее молодость, но не столько виноват я, сколько ее отец. Он требовал этой свадьбы, думая упрочить ею навсегда долголетнюю нашу дружбу.– Тут фон Альтер посмотрел на часы и прибавил:—Однако пора идти домой, завтра мне надо ехать.
– Куда?—спросил Николаша с удивлением,—вы, кажется, располагали пробыть здесь несколько времени?
– Я должен ехать в Грузию... вечером получил туда поручение,– отвечал полковник, уходя.
На следующее утро семейство Пустогородовых под председательством Прасковьи Петровны сидело за чайным столом: одно место было пусто; Китхен еще не выходила из своей комнаты: люди говорили, что она почивает.
Доложили о полковнике фон Альтере. Его велено было просить.
– Извините, Прасковья Петровна, что посещаю вас так рано,—сказал полковник,—но я сейчас еду и пришел поблагодарить вас за ласки к моей Китхен. Прошу вас продолжать ваши милости и назидательные наставления.
– Куда же вы отправляетесь?
–С поручением в Грузию, только не в Тифлис; а потому и не беру жены.
– Как это огорчит Катерину Антоновну! Человек, вели доложить ей, что полковник здесь.
Фон Альтер с притворным участием спросил Александра, почему он так рано оставил бал?
– Мне на бале делать нечего, а батюшка был один дома; я с ним провел вечер,– отвечал капитан.
Фон Альтер посмотрел на него недоверчиво.
– Катерина Антоновна не может выйти и просит полковника к себе,– сказал официант.
Китхен сидела на кровати в своем ночном уборе, с глазами, распухшими от слез и бессонницы; щеки ее рдели; она вся трепетала. Чтобы, однако ж, скрыть сколько возможно свое расстройство, она не приказала поднимать цветных оконных штор. Фон Альтер вошел к ней, как будто ничего не бывало, и сказал:
– Я пришел с тобою проститься, Китхен! Сейчас получил командировку по службе и должен ехать; несколько часов пробуду в Пятигорске, распоряжусь там и оставлю к тебе письмо, в котором обо всем уведомлю; теперь мне некогда/Притом и ты, и я, мы слишком расстроены, чтобы нынче говорить. Прощай.
Китхен, рыдая, встала на цыпочки, обвилась руками кругом шеи полковника и крепко-крепко обнимала его, утирая слезы о грудь мужа. Рыдания усиливались. Это было сознание вины, голос раскаяния, обет исправления, слезы многозначащие: но можно ли верить слезам виновной жены? Горе тому, кто поверит! Изо ста плачущих одна плачет чистосердечно, да и та, когда, ресницы высохли, забывает все – и горе и вину свою! Наш стоик поколебался, однако ж, на мгновение; слеза увлажнила его глаза, окруженные морщинками опыта, трудов и времени; он вздохнул и крепко прижал Китхен. Но тут он очнулся: чувства оскорбленного мужа, самолюбие старика опять пробудились, и он, безжалостно и гордо, оторвался от объятий привлекательного, нежного создания. Твердо сказал он роковое «прости» и вышел, оставляя несчастную Китхен почти без чувств от безотчетного страха. Она не постигала слов фон Альтера, не понимала его «прости». Она была не в состоянии рассудить, что человек, когда удаляется от объяснений, ничем не умолим, что нет надежды склонить его к миру.
Фон Альтер возвратился опять к Прасковье Петровне, простился со всеми с истинно немецким хладнокровием и, не показав ни малейшего волнения. Строгий наблюдатель, конечно, мог заметить особенную угрюмость во взгляде, когда он в знак прощания жал руку Александра; но и то было мимолетно. Полковник так чистосердечно, казалось, сказал ему:
– Вам, Александр Петрович, желаю счастия, даже такого, какого не могу более желать для себя!
Фон Альтер уехал. Китхен была неутешна; с жаром целовала она руки Прасковьи Петровны; готова была все ей высказать, но говорила только:
– Молю вас! Не покидайте меня!
Старуха ласково журила ее за слезы, хотя сознавалась, что, едва вышедши замуж, нельзя хладнокровно расставаться с мужем, который принужден беспрестанно покидать жену.
– Что ж делать!– повторяла она неутешной Китхен,—слезами не поможешь, надо быть рассудительнее. Милая Китхен, будь уверена во мне, как в матери!
На следующее утро Китхен все еще плакала и не выходила из своей комнаты. Часов в пять пополудни семейство Пустогородовых село в экипажи и отправилось обратно в Пятигорск. Дорогою тревожные чувства волновали Китхен. «Застану ли его там?»—думала она. Бедняжка желала боялась увидеть своего супруга. Что-то ей напишет он? Горестные предчувствия подавляли душу.
Наконец они в Пятигорске. Как несносно медленно бежали для Китхен присталые лошади! Вот уже подымаются на гору, где находилась квартира Прасковьи Петровны. Приехали. На дворе было темно. Госпожа фон Альтер выскакивает из кареты; перебегает улицу; слуга встречает его на крыльце.
– Полковник здесь?—спрашивает она.
– Никак нет-с! Сегодня в обед изволил выехать.
– Ничего мне не приказал сказать?
– Оставил письмо; оно лежит в вашей комнате.
Китхен побежала туда, схватила письмо, кричит:
– Подайте свеч!
Но к чему разоблачать порывы сердечной бури? Пусть несчастная супруга у себя наедине предается всей полноте своих ощущений. Эти минуты целомудренны в высшей степени, святы. Их не должно оскорблять длинным, прозаическим описанием.
Пустогородовы, приехав домой, нашли почту, которая в их отсутствие была получена. Одни читали письма, другие газеты. Николаша отправился тотчас к своим приятелям* игрокам: там только и слышны были пересуды насчет полковника фон Альтера, который по приезде с Кислых* провел целые сутки в неистовом распутстве.
На другой день был праздник. Прасковья Петровна собралась поутру к обедне, но до отъезда приказала позвать к себе Александра и отдала ему разные бумаги, касавшиеся до его наследства и полученные с последней почтой.
* Кисловодск в разговоре часто называется: Кислые.
Она уехала. Он заперся в ее кабинете и стал рассматривать наедине все, что получил он от матери.
Вскоре в соседней комнате послышались женские шаги, рыдания, слёзы, и, наконец, голос Китхен, приказывавший попросить Николая Петровича в гостиную с прибавлением, что ей очень нужно с ним видеться. Затем послышалась походка Николашина, и вскоре раздался его голос.
– Здравствуй, милая Китхен! Все еще плачешь! Это глупо!
– Мой муж меня покинул,—отвечала, рыдая, Китхен.
– Вот беда какая!.. В добрый час!.. Пиши ему со мною, я также еду в Грузию на днях.
– Не езди, ради бога, не езди! Я знаю, что тебя туда влечет; хочешь стреляться с моим мужем, отомстить ему за удар...
– Какой вздор! Зачем мне с ним стреляться? Никто кроме тебя не видел этого, а ты не станешь разглашать; фон Альтер еще менее: это значило бы сознаться в том, что он рогоносец; ты не знаешь, как мужья, особливо старики, боятся этого.
– Николаша, прочти его письмо.
– Зачем стану я читать бредни ревнивца! Право, не любопытно!
– Ну, так мне подай совет!.. Помоги!
– Чем помочь? Что могу я?
– О, безжалостный! Жестокий! погубил меня, а теперь отвергает! – Китхен рыдала еще более.
– Я погубил тебя? – Николаша захохотал.– Бедняжка! Я погубил ее, насильно принудил, не правда ли?
Китхен ринулась на пол и, сквозь рыдания, с отчаянием вопияла:
– Спаси меня, Николаша, на коленях молю, спаси меня!
Николаша смеялся.
Ты играешь трагедию, Китхен! – сказал он.—Недостает только крови, сейчас принесу тебе свой кинжал.
Александр, думая сначала, что у них любовное свидание, и не желая мешать брату и не смущать его любезной, притаился в кабинете матери, но тут он не выдержал и вышел к ним.
Николаша, театрально став перед дверью кабинета, воскликнул с насмешкой:
– Брат! Спаситель мой! Завещаю тебе несчастную, неутешную Миньону!
С этими словами он вышел.
– Александр Петрович! – сказала Китхен,—само провидение послало вас сюда... я поручаю себя вам, умилостивьте своего брата.
– Садитесь прежде всего, да успокойтесь и расскажите, в чем дело. Но предупреждаю вас, если вы не будете со мною откровенны, это меня оскорбит.
Нечего было делать. Погибшей Китхен мелькнул луч надежды. Она высказала всю правду Александру и подала ему письмо фон Альтера.
Полковник нисколько не обвинял и не оскорблял жены; но просто объявлял ей, что более с нею никогда не встретится и что хочет предаться на некоторое время самому сильному разврату, чтобы свет не мог обвинить ее, а всю вину сложил бы на самого его. Он советовал жене, как лютеранке, искать разводной, на которую с своей стороны соглашается, утешая себя мыслью, что по крайней мере она напала не на развратника, а на человека истинно к ней привязанного. «Это видно,—г писал он,—из всего поведения капитана Пустогородова, известного честностью правил, храбростью и украшенного ранами. Притом он решился лучше перенести кровавую обиду, чем публичною местью обесславить предмет любви своей».
– Так он принял меня за брата?—спросил Александр, призадумавшись.
– Видно так.
– Благодарен полковнику за его лестное мнение обо мне, но должен сознаться, что в этом случае он ошибается; ни за какую женщину не спустил бы я ему такого поступка.
Полковник оканчивал письмо уведомлением, что он обо всем написал к своему тестю: «Не для того, чтобы обвинить дочь перед отцом, но чтобы оправдать самого себя».
– У меня нет более отца!– сказала Китхен, сильно тронутая последними строками.– Когда я шла замуж не по собственному убеждению, но в угоду родителю, он объявил мне, что я имею место в его сердце, входя в его дом, не иначе как супруга фон Альтера. Без этого звания он мне не отец.
– Это, быть может, только одни слова; на деле он себя покажет иначе.
– Нет, Александр Петрович! Его самолюбие будет слишком оскорблено мыслью, что он не сумел выбрать мужа для дочери, он будет опасаться всеобщего обвинения и вся желчь его падет на меня одну.
Я пойду, Катерина Антоновна, переговорить с братом; будьте уверены, из признания к вашему доверию я сделаю все в вашу пользу, что только от меня зависит.
Мы уже видели, что госпожа фон Альтер нравилась Александру. Теперь он чувствовал, что сделался необходим для нее, и решился успокоить ее.
– Ну, как ты, брат, отделался от этой неотвязчивой?– спросил Николаша, когда Александр вошел к нему.
– Не шути ею, Николаша. Бедная Китхен в затруднительном положении; оставленная мужем, она не надеется и на своего отца.
– В самом деле?—сказал Николаша, задумавшись; потом прибавил:—Что же делать!
– Помочь ей.
– Чем же?
Братья думали, толковали. Наконец, после долгих прений,– причем Николаша передал брату слышанное о распутстве фон Альтера в проезд его через Пятигорск,– решили, что сам он должен рассказать об этом матери и открыть причину внезапного отъезда фон Альтера и намерение его никогда не возвращаться к жене. Решено и сделано.
Разумеется, Прасковья Петровна пожурила Николашу, прочла ему длинную проповедь о нравственности, об осторожности, с которою молодые жены должны вести себя, и кончила тем, что спросит совета своего мужа —принять ли ей Китхен к себе.
Петр Петрович ежедневно поправлялся; он был весел и в хорошем расположении духа; все были уверены, что он с радостью примет предложение жены. Вышло, однако ж, не совсем так. Старик, хоть и не препятствовал, однако очень сухо и как будто поневоле дал на это свое согласие. Это удивило Прасковью Петровну. Петр Петрович не любил Китхен за явное предпочтение, которое она оказывала его младшему сыну, тем более, что старик никогда не жаловал Николаши, а с той поры, как имел под глазами обоих братьев, младший казался ему глупым и скучным, несносным по баловству и самоволию. Прасковья Петровна спрашивала у мужа, отчего ему как будто не хочется впустить Китхен в свой дом (супружеский этикет требует, чтобы жена говорила мужу: твой дом). Петр Петрович отвечал:
– И тут вижу я пристрастие твое к Николаше. Эта молодая бабенка занялась твоим любимцем, самым пустым малым, потому и ты уж не знаешь цены ей. О, я имею также любимца! Александра! Следственно зол на нее, что она смеет не обращать на него внимания.
– Так ты не хочешь, чтобы она была у нас в доме?
– Мне все равно! – отвечал старик.
Прасковья Петровна пришла в свою комнату и послала за Александром. После разных предварений она объявила свое горе: что Китхен находится в весьма неприятном положении и отец его нехотя соглашается принять ее к себе.
– Но упросите батюшку,– сказал с жаром Александр.
– Это твое дело.– И Прасковья Петровна рассказала сыну весь разговор с мужем. Нетрудно было Александру выпросить у отца, чего ему желалось. В тот же вечер госпоже фон Альтер был предложен радушный приют в семействе Пустогородовых, который она с благодарностью приняла.
Спустя несколько дней Николаша отправился в Тифлис, чтобы оттуда пуститься в Персию. Александр получил приказание прибыть в тот же город. Виною этого была его матушка, которая все еще не желала его отставки и надеялась, что веселая, как уверяли, тифлисская жизнь придаст ему охоту остаться там на службе. Наконец в половине августа старики отправили Александра в Закавказье, а сами поехали с Китхен обратно в Москву.
Госпожа фон Альтер, прощаясь с Александром, благодарила его с глубоким достоинством за все, что он для нее сделал, и за великодушие, с каким даже не хотел разуверить ее мужа в его ошибке. Александр доказывал, что это вовсе не есть великодушие, но от презрения к людскому мнению и клевете, на которые опыт научил его не обращать внимания. Петр Петрович чистосердечно плакал, прощаясь с сыном. Прасковья Петровна тоже. Отъезжающие пожелали друг другу благополучного пути и расстались.
IV
Змиевская станция
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.
Глинка
Здоровье Петра Петровича шло как нельзя лучше. Это весьма понятно: он должен был поневоле соблюдать диету. Если желаете знать, почему поневоле, стоит вам выехать из Пятигорска в то время, когда курс лечения кончился и все посетители разъезжаются; тогда испытаете не только невольную диету, но и самый голод, потому что вы должны проскакать огромное пространство, где нет ничего, кроме грубых и пьяных станционных смотрителей, наводящих тошноту на тощий желудок. Вместо приветствия, не давая времени вылезть из экипажа, они встречают вас словами: «Лошадей нет, все в разъезде». Если же станция не в степи, а в деревне, так прибавляют: «Извольте ехать на квартиру, лошади еще не скоро будут». Горе вам, когда вздумаете отвечать на это хоть одно слово! Наберетесь такой брани, какой, быть может, во всю жизнь не слыхали. Любопытно заглянуть в жалобную книгу по этому тракту. Тут найдете совершенно новую, неподражаемую литературу. Наконец, продержав вас целые сутки на станции, запрягут лошадей, которые так называются только у них, а в словарях известны более под названием кляч. Медленно отправляетесь вы на них по грязной и топкой дороге и едете верст двадцать пять целые шесть часов, не встретя ни одного жилья.
Впрочем, Петр Петрович довольно скоро проехал расстояние с небольшим в пятьсот верст. На двенадцатый день, утром, он накупил в Аксае стерлядей и чего мог найти и в час пополудни восседал за обедом на Змиевской станции. Вопреки увещеваниям жены, он объедался прежирным обедом до третьего часа; потом кушал кофе на крыльце станционного дома; потом с удовольствием пресыщения поглаживал рукою по брюшку и весело глядел на божий мир.
Послышался колокольчик. Вмиг тройка влетела во двор: коренная, коротко запряженная, пристяжные в польских шлейках вместо хомутов выходили вполтела вперед коренной. Два колокольчика на пестрой дуге, лошади все в мыле, новая крепкая телега: все показывало, какого рода был проезжий. Лихой ямщик, в красной рубахе, с фуражкой, обращенною козырьком к затылку, подтвердил эти догадки, когда закричал, останавливая тройку:
– Курьерских!
Магическое слово на станциях! Не успел проезжий, сбросив шинель, с видом сильной усталости вылезть из повозки, а ямщик поехать на рысях проваживать тройку, как на почтовом дворе все закипело. Из избы высыпал целый рой ямщиков, кто с мазальницею, кто с хомутом на плече. Пока мазали повозку и надевали хомуты на лошадей, проезжий потянулся, зевнул и пошел на крыльцо станционного дома. Трудно было разобрать черты его лица, покрытые густым слоем пыли; сюртук был на нем адъютантский; на груди висела 4 сумка. Он вежливо поклонился Петру Петровичу. Смотритель, достегивая сюртук, встретил его на крыльце и, покинув свой грубый вид, сказал:
– Позвольте вашу подорожную?
Адъютант расстегнул сумку, вынул подорожную и, отдавая смотрителю, спросил:
– Нет ли здесь квасу? Вели мне подать напиться.
– Извините-с, кроме воды ничего нет!—отвечал смотритель, развертывая подорожную. Прочитав ее, он закричал:– Живо курьерских запрягать! —и вышел записать проезжающего.
– Не угодно ли вам вина? – спросил Петр Петрович.
– Покорнейше благодарю. Натощак голова разболится.
– Так милости просим покушать; мы только что из-за стола: славный обед удался!
– Много вам обязан; но, во-первых, это задержит меня, во-вторых, будет клонить ко сну: а этого-то ямщикам и нужно!
– По крайней мере, выкушайте кофе?
– Это с благодарностию приму.
Петр Петрович приказал подать кофе; между тем он уговаривал офицера отобедать.
– Право, не могу! – отвечал адъютант,—я уже и так потерял много времени на Военно-Грузинской дороге, по милости завала.
– Как, завал?—спросил Петр Петрович.
– Да, на днях снег обрушился с вершины Казбека и завалил Дарьяльское ущелье, по которому лежит дорога.
– И много навалило снегу?
– Не один снег: тут и лед, и камни, целые скалы сорвало, все смешалось вместе и завалило ущелье версты на четыре; вышиною саженей на восемь или на десять. Завал остановил на несколько часов течение Терека.
– А случались ли по дороге проезжие?
– Были, и погибали.
– Их, вероятно, вырывают здесь, как в Швейцарии?
– Нет, этого невозможно, потому что завал слишком глубок. Притом же, кто может знать, на каком именно месте погибли они. Когда, года через два, завал довольно стает, и его расчистят, тогда найдут остатки смолотых экипажей, людей и лошадей.
– Вы не встречали в Тифлисе Пустогородова?
– Которого? Я видел там двух, одного военного, другого путешественника.
– Военного.
– Александр Петрович по приезде в Тифлис подал немедленно в отпуск и в отставку, вслед за тем он не устоял против тамошнего климата и занемог желчною горячкою. Когда я выехал, он еще был опасен.
– Прасковья Петровна! Поди сюда! – закричал старик в сильном волнении. На крыльцо вышла пожилая женщина, он сказал ей встревоженным голосом:—Александр ведь болен горячкою!.. Вот господин офицер знает его.
Адьютант поклонился Прасковье Петровне и, на ее вопрос, повторил сказанное.
– А не видали ли вы другого Пустогородова,– спросила она,– что он делает?
– Как же! Я с ним познакомился, он уехал в Персию.
– Покинул больного брата?
– Он выехал, когда еще не приезжал Александр Петрович. Полковник фон Альтер, который ненавидит капитана Пустогородова и большой приятель с Николаем Петровичем, ускорил свой отъезд в Персию; будучи снабжен всем нужным для путешествия по той стране, он уехал вместе с меньшим братом, чтобы избежать встречи со старшим.
– Надолго ли поехал полковник фон Альтер в Персию?– спросила Китхен, стоявшая у дверей.
– Не могу вам определительно сказать; но думаю, что он не возвратится. Я слышал от Николая Петровича, что он намерен вступить в персидскую артиллерию, куда охотно принимаются иностранцы для обучения туземцев; а как он прусский подданный, то ему будет это легко. Говорят, полковник фон Альтер огорчен какими-то семейными обстоятельствами.
Вышедший на крыльцо станционный смотритель с по– дорожною прервал разговор.
– Староста, бери прогоны! – закричал адъютант.
– Я их получаю-с,– сказал смотритель.
– Знать не хочу: по правилам почтовой езды старосте отдаются прогоны.
– Все равно-с, как вам угодно.
Ямщик без шапки подошел к адъютанту.
– Сколько следует прогонных денег?
– Ничего-с, ваше превосходительство! – отвечал ямщик, почесывая голову; потом, поклонясь, сказал:—Поберегите, ваше сиятельство, лошадок.,
– Вот я сейчас поберегу тебе бороду!– гневно возразил адъютант.—Сколько следует на тройку прогонов? Говори!
Мужик наконец вымолвил. Адъютант вынул кошелек и отсчитывал деньги. Между тем смотритель, кашлянув раза два, сказал запинаясь:
– Смею доложить-с, староста не виноват; они напуганы-с: на днях, проехал фельдъегерь, они, дураки-с, взяли с него прогоны: тройка вся легла-с, а ямщик еще не отдохнет-с от побоев.
– Всякий делает, как знает; кто в деле, тот и в ответе!– отвечал, адъютант, отдавая прогоны.
– Пословица говорит-с: отвага кандалы трет, отвага мед пьет-с,– заметил смотритель.
– Ваше сиятельство! Поклажи было в повозке—чемодан, сабля, ковер, шинель, всего пять штук?—доложил староста.
– Так! —отвечал адъютант.– Переплет-то хорош ли? Чоки подвязаны ли?
– Все исправно, ваше превосходительство!
– Подай огня закурить трубку.
– Позвольте у вас спросить,– сказал смотритель адъютанту,– все ли в Грузии благополучно?
– В каком отношении?
– То есть, в рассуждении заразы-с, чумы-с, как мы попросту ее называем-с.
– Нравственная чума все сильна; но болезней нет.
– А мы слышали-с, половину народу вымерло-с, Ну, а на линии благополучно-с?
– Опять в каком отношении?
– Насчет черкесов-с? Слухи носились, будто Ставрополь взят-с.
– По крайней мере, я там менял лошадей не у черкеса, а у чистого русского.
– Стало быть-с, все вздор! Смею спросить, скоро ли фельдъегерь проедет-с?
– Этого я не знаю! Мне до них дела нет!
Адъютант закурил трубку об уголек, поблагодарил Петра Петровича, влез в повозку и, медленно натягивая на плечи шинель, сказала
– Пошел!
Коренная взвилась на дыбы, пристяжные кинулись вперед, и тройка дружно подхватила; густое облако пыли заклубилось вслед за нею и скрыло курьера из виду: только колокольчик слышался все слабее и слабее, наконец, совсем замолк.
***
Что же сталось со всеми действующими лицами, с которыми мы познакомились? – спросите вы.
Не знаю! Никого нет более на Кавказе, а Хромой бес мой отказывается подсматривать в других странах. Можно было бы удовлетворить ваше любопытство еще какой-нибудь выдумкой, но я ненавижу ложь, и вымышлять больше не намерен. Довольно того, что в моем романе все лица небывалые и никогда не существовавшие. Поэтому и кончу эпиграфом, которым начал свою повесть:
Не любо – не слушай,
А лгать не мешай!
КОММЕНТАРИИ
Текст «Проделок на Кавказе» печатается без сокращений по фотокопии жернаковского издания (Спб., 1844). Кроме приведения к современным нормам орфографии и пунктуации, исправлены очевидные типографские ошибки.
С. 31. Белокаменная – так в XIX веке нередко называли Москву,
Пулярд, пулярка—жирная раскормленная курица (франц. poularde).
С. 32. ...вошел официант... – Здесь «официант» – человек из домашней прислуги, который обычно прислуживает за столом, а в другое время выполняет иные мелкие поручения.
Субретка – персонаж старинных (первоначально – французских) комедий и водевилей. Здесь – бойкая, веселая служанка.
С. 33. ...в больших вольтеровских креслах... – В прошлом веке это слово употреблялось и во множественном числе. Вольтеровское кресло – глубокое, с высокой спинкой – изготавливались по французскому образцу. Появилось в России во время Екатерины II, которая вела переписку с Вольтером.
С. 35. Ваш почтительный внук, Александр. – Прототип главного героя романа, Александра Пустогородова, – русский писатель, декабрист А. А. Бестужев – родился в обедневшей дворянской семье, служил в гвардейском полку, помещавшемся в местечке Марли возле Петергофа, откуда его литературный псевдоним – Марлинский. Брат декабристов Николая, Михаила и Петра Бестужевых. Был штабс-капитаном лейб-гвардии драгунского полка. В 1824 г. принят К. Рылеевым в Северное общество. Участвовал в совещаниях перед восстанием. 14 декабря вместе с братом Михаилом и Щепиным-Ростовским вывел на Сенатскую площадь Московский полк. После ареста в письме Николаю I Бестужев дал яркую критику существовавших порядков и развивал план реформ, к которым призывал Николая I. Был приговорен к 20 годам каторги, но по особому высочайшему повелению «обращен прямо на поселение» в Сибирь. В 1829 году переведен рядовым на Кавказ.
13 мая 1835 года Бестужев подал рапорт о разрешении отбыть на пятигорские воды для излечения. Однако, не кончив курса лечения, летом отправился в экспедиционный корпус на Кубань «омывать кровью свои унтер-офицерские галуны» (в Пятигорске он узнал о производстве в унтер-офицеры, что вело к получению офицерского чина). 7 -июня 1837 года был убит на мысе Адлер в одной из стычек с горцами.
С. 39. ...пленных французов и других немцев. – Немец – не говорящий по-русски всякий иностранец с Запада, европеец (азиатцы – бусурмане); в частности же германец (В. И. Даль).
...генерал говорил на языке наших гостиных... — Дворянство и знать царской России со времен Екатерины II (1729—1796) в своих гостиных говорили исключительно на французском языке.
Honny soit qui mal y pence! (франц.).—Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает (девиз ордена Подвязки, учрежденного английским королем Эдуардом III). Выражение употребляется как оговорка в значении: сказанного не следует понимать в дурном смысле; автор иронизирует.








