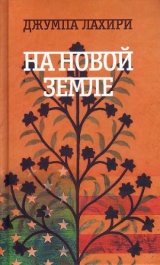
Текст книги "На новой земле"
Автор книги: Джумпа Лахири
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
– А ну-ка, встаньте ближе друг к другу, – весело командовал нам отец, доставая свой новый фотоаппарат.
Я послушно положил руки на плечи девочек, и их тела застыли под моими пальцами.
– Что же, Каушик, жизнь продолжается, – сказал мне отец после церемонии. – Новые цели, новые дороги, я желаю тебе счастья, сын!
Мы оба оглянулись на Читру, потом посмотрели друг на друга. Нам незачем было произносить вслух то, что мы чувствовали: что мы оба благодарны Читре за то, что она согласилась нести бремя вечной памяти, вечного сравнения с неизвестной ей соперницей. Теперь мамин дух мог наконец-то освободиться от тревоги за нас и навсегда закрыть за собой дверь на небесах.
Причаливая к берегу
Хема не стала объяснять семье истинные причины своей поездки в Рим. Правда, осенью она получила грант, официально освободивший ее от преподавания в Уэллсли [16]до конца года, но в Италию Хема приехала по личным мотивам: просто коллега по работе Джованна предложила Хеме пожить в ее квартире в Гетто, и такую прекрасную возможность жаль было упускать. И вот, придумав «легенду» о том, что ей предстоит прочитать курс лекций в институте классической филологии, Хема объявила о своих планах семье. Характерно, что ни родители, ни Навин не выказали удивления по поводу этой поездки и особо не расспрашивали ее: для них научная жизнь Хемы была настоящей загадкой, они искренне восхищались ее достижениями, но никогда не проявляли интереса к тому, чем она занимается. Хема успешно защитила диссертацию и была на шаг от получения должности постоянного профессора, и это все, что их интересовало. Джованна, итальянская подруга Хемы, оформила на нее бесплатный пропуск в библиотеку Американской академии и выдала список телефонов друзей и коллег, с которыми Хема могла связаться в Риме. И вот в начале октября, упаковав свой лэптоп и кое-что из одежды, Хема полетела за океан в импровизированный отпуск. К Рождеству она должна была отправиться в Калькутту, где теперь жили ее родители, а в январе выйти замуж за Навина.
А сейчас стоял ноябрь, до Дня благодарения оставалась неделя. Когда Хема вспоминала привычный ее глазу пейзаж университетского кампуса, она представляла голые ветви деревьев, стучащие в окно учительской, замерзшую поверхность озера Вабан, сумерки, наступающие в три часа дня, и измученных студенток, бормочущих слабыми голосами: «Id factum esse turn non negavit» [17]В Риме листья тоже уже слетали с деревьев, образовав на набережных Тибра неряшливые кучи медно-бурого цвета, однако дни стояли непривычно теплые, даже душные, так что можно было выходить на улицу в одной кофточке, а вынесенные на улицу столы ресторанов и кафе были заполнены народом.
Любимый ресторан Хемы находился в пяти минутах ходьбы от квартиры Джованны – прямо рядом с портиком Октавии. Конечно, в Риме были сотни других ресторанов, которые Хема могла бы посетить, сотни вариантов качо е пепе,спагетти карбонараи жареных артишоков, которые она могла бы попробовать, но почему-то каждый раз, когда она «изменяла» своему ресторану с другими, эти визиты оставляли ее с чувством какой-то неудовлетворенности и разочарования. То ее не устраивало качество еды, то смущал корявый итальянский язык, на котором она изъяснялась, и поэтому она сохраняла верность своему ресторанчику, где ее уже знали. Здесь официанты без напоминания приносили ей бутылку газированной воды, кувшинчик белого вина и быстро убирали стол после первой перемены, оставляя ее за столиком с книжкой. Чаще всего, однако, Хема не читала, а просто сидела и смотрела на развалины портика, на изъеденные временем колонны, кое-где подпертые лесами, на массивный фронтон, значительная часть которого отсутствовала. Модно одетые, оживленные римляне проходили мимо, не обращая на портик ни малейшего внимания, а вот туристов сразу можно было узнать – они задерживались около раскопок, заглядывали вниз, а потом спешили в театр Марцелла. Перед портиком была небольшая площадь, с которой, как прочла Хема на мемориальной доске, в 1943 году было депортировано более тысячи евреев.
Она не собиралась возвращаться сюда, но случайно набрела на этот ресторанчик в первый же день, когда вышла из квартиры Джованны в поисках еды, пошатываясь от усталости после перелета. Собственно, она вполне могла назвать его старым знакомцем – много лет назад они ужинали здесь с Джулианом. Она тогда приехала в Рим тоже под выдуманным предлогом, тайно сопровождая Джулиана на конференцию, так влюблена она была, так уверена, что его развод – дело нескольких недель. Стоял май, страшная жара, город был наводнен туристами, а ей даже было нечего надеть – она не ожидала, что будет так тепло. Джулиан сделал свой доклад на конференции – слегка переработал главу собственной монографии о Петронии, и все дела. Она и сама могла бы выступить с докладом, если бы не была здесь инкогнито, собственно, родителям она так и не объяснила, зачем едет. Родители, конечно, поверили ей на слово – их умная дочь только что защитила диссертацию, так что ее решения в семье не подвергались сомнению.
А еще раньше, в самый первый раз Хема заехала в Рим, когда путешествовала по Европе вдвоем с подружкой после окончания Брин Мар [18]. Они постарались не пропустить ни одной достопримечательности, исправно читали надписи на памятниках и питались в основном многослойными сэндвичами панинии джелато —знаменитым итальянским мороженым. Да, первый визит оставил в памяти Хемы глубокое впечатление. А вот второе посещение Рима с Джулианом ничего не прибавило – Хема помнила только, как они завтракали на крыше своего отеля с видом на Колизей, а под столом сновали маленькие коричневые птички, которые бесстрашно клевали крошки прямо у ее ног. На завтрак им подавали свежий сыр рикотта,тончайшие ломтики мортаделлыи салями.Небо было ярчайшего сине-голубого цвета, солнце грело немилосердно, и Хема недоумевала, зачем им подают на завтрак соленое мясо, но отказаться была не в силах. Она помнила и их комнату в отеле – темно-розовые шелковые обои, огромная двуспальная кровать. Каждые несколько дней Джулиан разговаривал с женой и дочерьми, расспрашивал, как у них дела и какая погода стоит в Вермонте на озере Данмор, куда он отправлял семью на лето. Как много времени они с Джулианом провели в отелях! Джулиан обычно снимал им комнату в одном из крошечных дешевых местечек, которых так много на побережье Северной Атлантики, он терпеть не мог приходить к Хеме домой – в то время она снимала квартиры совместно с другими аспирантами. В доме Джулиана в Амхерсте видеться было также невозможно. Даже их первое свидание прошло в мотеле или отеле, она уже и не помнит, где именно. Джулиан тогда прочитал лекцию на их курсе, и другие профессора кафедры закатили ему торжественный ужин, а он потом пригласил ее в бар выпить за встречу.
Хема не позвала с собой в Рим Навина. Во-первых, он жил в Мичигане, и ему не так-то просто было вырваться с работы. А во-вторых, до обручения они с Навином встречались только три раза, когда он приезжал к ней в Бостон на выходные. Во время этих визитов они, как школьники, бродили по городу, взявшись за руки, заходили в музеи, сидели в кинотеатрах и на концертах. Во время их второй встречи Навин осмелился поцеловать ее на пороге ее дома и отправился ночевать к другу. Хоть он и не отрицал, что в его жизни были женщины, по отношению к будущей жене он вел себя исключительно целомудренно. А Хеме даже отчасти нравилось, что в возрасте тридцати семи лет с ней обращаются так бережно, как будто она была юной девочкой. В конце концов, мужчины начали замечать ее поздно, когда ей уже было сильно за двадцать, и ни один из них не запомнился ей своим бережным к ней отношением.
В Риме она продолжала общаться с Навином через интернет – посылала ему мейлы, даже несколько раз разговаривала с ним по телефону. Они обсуждали свой медовый месяц, который собирались провести в Гоа, вместе выбирали отель. А о чем еще было с ним говорить? Они собирались связать свои жизни в январе, но у них не было ни общей истории, ни общих воспоминаний – лишь будущее. Хема не скучала по Навину в Риме, но с удовольствием думала о предстоящей свадьбе. Они планировали отпраздновать свадьбу в Калькутте, а после медового месяца вернуться в Бостон. Родители Хемы, правда, несколько презрительно отзывались о национальности Навина – он был «не бенгалец», иначе говоря, не удостоился чести родиться в Западной Бенгалии, как положено порядочному человеку. Навин приехал в Америку защищать докторскую диссертацию и сейчас преподавал физику в Мичиганском университете. Им повезло – Бостонский технологический институт предложил ему ставку преподавателя, так что со следующего учебного года Навин переезжал к ней.
Хема не хотела думать о предстоящем браке как о традиционном индийском замужестве, но, конечно, понимала, что так оно и есть. Хотя она и встретила Навина независимо от родителей, они нашли его еще раньше, и уже давно интриговали, чтобы свести их вместе. Они несколько раз спрашивали Хему, может ли Навин ей позвонить, но она всегда отвечала «нет». И вот после нескольких лет отказов она согласилась поговорить с ним. Почему? Да потому, что в конце концов поняла, что Джулиан никогда не уйдет от своей плодовитой женушки. Родители-то думали, что она не выходит замуж, так как слишком погружена в свои научные исследования и слишком застенчива, чтобы вот так знакомиться с мужчинами. А на ее тридцать пятый день рождения мать даже спросила потихоньку, не предпочитает ли она женщин. Родители и не подозревали, что все это время она была тайной любовницей женатого мужчины, – их бы удар хватил. А она-то, наивная дурочка, все надеялась, что чаша весов склонится в ее пользу. Даже когда с родительской помощью покупала себе дом в Ньютоне, когда сидела в офисе с юристами, подписывая бумаги, верила, что когда-нибудь на всех этих документах появится и вторая подпись – его. И что? В результате она вступила в средний возраст одна, без мужа, без детей, без семьи, разочарованная и уставшая от жизни. Родители теперь жили на другом конце света, так что пригласить в свой новый дом ей было некого. Но зато всю работу по дому приходилось делать самой: и снег разгребать зимой, и по счетам платить, и лампочки вкручивать. Вот так жизнь и принесла ее к Навину – невозможно стало терпеть дольше такое существование.
Больше всего в отношениях с Навином Хему привлекала изначальная определенность целей и задач: цель, собственно, состояла в том, чтобы пожениться, задача – понравиться друг другу настолько, чтобы можно было принять это серьезное решение. После многих лет обманов и лжи Хема про себя умилялась от такого подхода к семейной жизни: то, что когда-то в юности отпугивало ее ограничением надуманных свобод, теперь, наоборот, полностью освободило от зависимости от Джулиана. Ей заранее понравился человек, готовый жениться на ней заочно, а когда они встретились, она нашла привлекательными его задумчивые карие глаза, продолговатое лицо и тонкую полоску усов над верхней губой. После их помолвки с Навином Джулиан не объявлялся: кончились его неожиданные ночные визиты, звонки в обеденный перерыв, после которых она до вечера не могла прийти в себя. Они с Джулианом были вместе более десяти лет, и Хема не могла поверить, что их отношения можно было прервать так просто, одним телефонным звонком. «Я помолвлена и выхожу замуж», – сказала она Джулиану, когда тот позвонил, чтобы предложить ей провести вместе выходные. А он обвинил ее в том, что она обманывала его, и бросил трубку. И с тех пор она больше ничего о нем не знала.
Что же, теперь она свободна от них обоих – свободна от прошлого и будущего, надежно укрыта в месте, где свидетельства древних эпох стоят плечом к плечу, как гости на слишком людной вечеринке. Она оставлена один на один с работой, в первый и, видимо, в последний раз в одиночестве за границей. И Хема наслаждалась ощущением полной обособленности от мира, без всякого усилия погрузилась в молчаливую ежедневную рутину, а вечером, после теплой душистой ванны, без задних ног засыпала в кровати Джованны. Странная у подруги была спальня – крошечная по размеру, но с высоченным, уходящим в вечный полумрак потолком, с огромными, всегда закрытыми ставнями окнами, которые защищали ее от солнца, но пропускали малейший звук. Впрочем, Хему не тревожили ни гудки скутеров, ни постоянный шум автомобилей, несущихся по виа Аренула, ни резкий треск поднимаемых решеток продуктовых лавочек, ни монотонное завывание «скорых» – наоборот, этот несмолкаемый гул большого города убаюкивал ее. В чем-то Рим слегка напоминал Калькутту: может быть, громадами домов, изъеденных коррозией, или пальмовыми деревьями, или тем, что центральные улицы перейти было практически невозможно? Как и Калькутта, на первый взгляд Рим казался открытым и дружелюбным – он легко показывал посторонним свой верхний, неглубокий слой, но постичь его было невозможно. Хема прекрасно владела языком, на котором говорили древние жители этого города, и так много знала о них, но в современном Риме она была лишь одной из миллионов проходящих по нему туристок. Кроме Джованны, которая жила сейчас в Берлине, Хема не знала в Риме абсолютно никого.
Утром Хема заваривала себе кофе, грела молоко, намазывала джемом квадратики купленных в ближайшей лавочке тостов, и к восьми утра уже сидела за рабочим столом Джованны, заваленным книгами, тетрадями и блокнотами и огромными словарями латинской грамматики. Несмотря на то что она мечтала обойти сотни достопримечательностей, Хема каждый день работала до часа дня – соблюдение этого многолетнего ритуала помогало ей организовать свое время. Она уже многого добилась в жизни: стала уважаемым человеком, профессором истории, а ее диссертация по Лукрецию – объемный труд, плод нескольких лет работы – вышла небольшим тиражом и получила высокую оценку нескольких десятков знатоков в этой области. И все же Хема продолжала научные исследования, поскольку наибольшее удовольствие получала именно от этих тихих, одиноких часов работы за столом, наедине с молчаливыми собеседниками. С пятнадцати лет Хема пристрастилась к чтению латинских текстов – поначалу каждая фраза казалась ей набором слов, головоломкой, смысл которой требовалось разгадать. Знания, которые она приобретала в течение многих лет, забытые слова и сочетания слов, грамматика и синтаксис казались ей священными, так как помогали возродить к жизни давно умерший язык.
Теперь она занималась этрусками – несколько месяцев назад Хема побывала на лекции об отсылках к этрусской культуре в сочинениях Вергилия, и это подхлестнуло ее любопытство. Ее и так давно уже занимала эта таинственная, предшествовавшая Риму цивилизация, пришедшая в центр Апеннинского полуострова, видимо, из Малой Азии, и процветавшая почти четыре столетия. К тому же более сотни лет этруски правили Римом, пока, недовольные тиранством Тарквиния Гордого, римляне не изгнали его. Позже эта цивилизация была забыта, не осталось почти никаких письменных доказательств ее существования. Основным культурным наследием Этрурии были некрополи и предметы, связанные с погребальным обрядом: драгоценности и расписные вазы, оружие и одежда, которую складывали в местах захоронений, чтобы обеспечить умерших всем необходимым по ту сторону реки жизни. Хема читала о гаруспиках, этрусских предсказателях, гадавших по внутренностям жертвенных животных и толковавших явления природы, сны беременных женщин и особенности построения птичьих косяков при перелете. По возвращении в Уэллсли Хема планировала организовать семинар на тему влияния этрусков на античную культуру, а возможно, если удастся набрать достаточно материала, набросать план новой книги. Она съездила в Ватикан посмотреть коллекцию этрусского наследия в Григорианском Египетском музее, а также Музей этрусков на виллу Джулия. Теперь Хема внимательно прочесывала Цицерона и Сенеку, Ливия и Плиния на предмет любых сведений об этрусках, даже прочитала фрагменты работ римского сенатора-астролога Нигидия Фигула, закладывая страницы кусочками цветной бумаги и занося самые интересные сведения в свой компьютер.
Хема так увлеклась своими исследованиями, что не позвонила никому из друзей Джованны. Ее вполне устраивало проводить дни в одиночестве, работать, читать, обедать в ресторане у портика Октавии. После обеда Хема обычно гуляла по Риму – заходила в церкви, бродила по грязноватым узким улочкам, выходящим на просторные, залитые солнцем площади. Вечера она проводила дома, готовила себе простые блюда, которые съедала перед телевизором. Ей не хотелось идти в ресторан вечером одной, в Риме это, похоже было не принято. Странно, конечно, но, когда она приезжала сюда с Джулианом, итальянские мужчины безошибочно чувствовали, что ее сердце занято, и никогда не подходили к ней, даже если она сидела в кафе одна. Теперь же, несмотря на помолвку с Навином, Хема болезненно остро чувствовала интерес римских мужчин – на улице ее постоянно оглядывали с ног до головы, иногда окликали или свистели ей вслед. И хотя ей было приятно такое внимание, каждый раз оно напоминало ей о том, что их отношения с Навином не имеют ничего общего с любовью.
По субботам, вместо того чтобы проводить утренние часы в работе, Хема давала себе отдохнуть и шла на Кампо-ди-Фиори, на традиционный овощной базар на открытом воздухе. Она со скрытой завистью наблюдала, как молодые, стильно одетые итальянки, увешанные золотом и легко удерживающиеся на трехдюймовых каблуках, толкают перед собой нарядные коляски и покупают овощи и фрукты «на кило». Эти женщины с их пышными черными волосами, в черных очках, которые пока не скрывали морщин, были гораздо моложе Хемы, но в их обществе она чувствовала себя неопытной девочкой. Она знала, что ей недостает их уверенности в себе, их шарма, но, как ни старалась, не могла заставить себя так же игриво улыбаться и флиртовать с продавцами овощей. Наверное, за время их романа с Джулианом Хема слишком привыкла к роли «другой женщины». Поначалу их тайные встречи казались ей ужасно романтичными, а себя она считала «светской» женщиной, свободной от условностей, но постепенно ограничения ее положения начали ее раздражать. Зачем же она по доброй воле лишила себя удовольствия открытого общения с мужчиной? Зачем потеряла столько лет? Она ведь не могла даже мечтать о детях… Но вот пришел Навин и все исправил – они оба знали, что уже не молоды, и ее будущий муж несколько раз настойчиво намекнул, что сразу после свадьбы им надо будет не откладывая заняться продолжением рода.
Однажды после обеда Хема почувствовала такой прилив сил, что прошла пешком сначала до пьяцца дель-Пополо, а потом дошла и до виллы Джулия, чтобы еще раз взглянуть на коллекцию этрусского искусства. В музее Хема прошлась по залам, тронутая, как обычно, видом потрескавшихся мисок и ложек, которые касались губ давно умерших людей; рассматривая замысловато украшенные фибулы —бронзовые пряжки и тонкие палочки, которыми древние матроны наносили себе на кожу духи. Но в этот раз, взглянув на знаменитый гигантский саркофаг жениха и невесты, заключенный в стеклянный куб, Хема не могла удержаться от слез. Почему-то ей в голову пришел Навин. Глядя на фигуры улыбающихся молодоженов, сидящих тесно прижавшись друг к другу, на крышке их общего гроба, Хема вдруг подумала, что в ее будущем браке тоже есть что-то изначально мертвое, неестественное. Умом она понимала, конечно, что любовь может прийти к ним с Навином с годами и осветить их брак, как это получилось у ее родителей, но по дороге домой будущее виделось ей в мрачном свете. Она зашла в овощную лавку на виа дей-Джуббонари, купила пучок салата, коробку спагетти, свежие грибы и сметану для соуса. Она осторожно прошла по мощеному дворику дома Джованны мимо кассы портика, где ее лениво приветствовали слоняющиеся по площади носильщики. Во дворе каменный лев нескончаемо лил воду из широко разинутой пасти. Хема устало поднялась по крутой лестнице на третий этаж, за день она нагулялась на славу.
Дома она сразу же увидела мигающий красный огонек автоответчика. Хема нажала на кнопку, ожидая услышать голос Навина или Джованны. Однако в этот раз звонил друг Джованны по имени Эдо, и Хема смутно вспомнила, что видела это имя в списке друзей, которым Джованна просила ее позвонить. Эдо сказал, что уже несколько недель ожидает от нее звонка и начал беспокоиться, все ли у нее в порядке? В голосе его слышалось искреннее волнение, и Хема тут же ему перезвонила. Она уверила Эдо, что не больна, и, поскольку никаких оправданий он слышать не хотел, приняла приглашение пообедать с ним и его женой в следующую субботу.
Жена Эдо Паола работала фоторедактором в еженедельнике «Эспрессо». Каушик познакомился с ней в Нетании, курортном городке на израильском побережье, когда они вместе работали там, освещая последствия взрыва в банкетном зале одной из гостиниц, совершенного в тот момент, когда гости собирались начать пасхальную трапезу. Каушик редко работал в Италии, так, по мелочи – пара фотосессий сенегальских беженцев, несколько снимков похоронной процессии, которую он случайно увидел около Колизея, – хоронили погибших в Ираке итальянских военных. Большую часть последних лет Каушик провел в горячих точках – в секторе Газа и Западном берегу Иордана, – и в Риме бывал лишь проездом.
Каушик работал фотожурналистом уже почти двадцать лет. Его карьера началась, как это водится, случайно, в 1987 году, когда он сбежал от себя и от семьи в Латинскую Америку – на окончание колледжа отец подарил ему внушительную сумму. Вначале он путешествовал вместе с другом по имени Дуглас, они стартовали от мексиканской границы, надеясь добраться до Патагонии. Несколько месяцев они провели в Мексике, постепенно продвигаясь на юг, затем переехали в Гватемалу, а потом в Сальвадор. К этому времени Дуглас решил, что хватит с него экзотики, и купил себе обратный билет до Мадрида. Белокожий и светловолосый, он выглядел таким типичным американцем, что ему доставалось от местного населения больше, чем Каушику. Каушик не так выделялся среди смуглых, подвижных латиносов, поэтому ни солдаты, патрулирующие улицу с ружьями практически такими же длинными, как они сами, ни дети, с удовольствием позирующие перед его камерой, денег у него не вымогали и с оскорблениями не бросались. Нет, тоже бросались, конечно, но не так часто. После отъезда приятеля Каушик продолжал в одиночестве обследовать территорию Сальвадора – страны по размеру, если верить путеводителю, меньшей, чем штат Массачусетс. Он фотографировал гору-вулкан, нависающую над городом с запада, изрешеченные выстрелами стены домов, глубокие трещины, оставленные прошлогодним землетрясением.
Никогда он еще не был в стране, столь явно раздираемой внутренним конфликтом. В Гватемале, как им объясняли другие туристы, партизаны вели себя очень активно, в некоторые районы соваться было опасно. Однажды ночной автобус, в котором ехали они с Дугласом, остановили на дороге и всех пассажиров заставили выйти, чтобы пьяный патруль проверил у них документы. Один из военных жестом приказал Дугласу достать бумажник, вытащил оттуда всю наличность и, смеясь, бросил пустой бумажник ему в лицо. В Гватемале это было худшее, что они могли встретить, но в Сальвадоре ситуация была гораздо страшнее, опаснее, и туристы туда почти не ездили. В Санта-Ане Каушик подружился с голландским журналистом по имени Эспен, и они начали путешествовать вместе. Эспен посвящал Каушика в детали местных конфликтов, рассказывая бесконечные страшилки об «эскадронах смерти», о безголовых телах, разбросанных вдоль дороги, о подростках, повешенных на столбах со связанными за спиной руками и вырванными ногтями. Они видели, как военные самолеты бомбили территорию, где были расквартированы силы Фронта национального освобождения, вместе посещали лагеря беженцев по другую сторону границы с Гондурасом. И Каушик привык к страху, давно поселившемуся в душах всех без исключения жителей Сальвадора, к звуку пулеметных очередей, принял как жизненную данность то, что в любую минуту, при переходе улицы или ночью в кровати, его могли запросто убить. Застрелить, задушить, зарезать. И все же ему за себя не было страшно.
Однажды они с Эспеном сидели за столом в маленькой деревенской забегаловке и ели суп. Неожиданно они почувствовали небольшой подземный толчок, земля задрожала, стол покачнулся, и густая коричневая похлебка выплеснулась из мисок. К тому времени оба уже настолько привыкли к небольшим землетрясениям, что не обратили на это никакого внимания – просто стали есть быстрее. Через несколько мгновений мимо них по улице пробежала толпа людей, что-то возбужденно крича. Они с Эспеном решили, что, наверное, обрушилась стена какого-нибудь дома, и тоже побежали следом за толпой. Однако землетрясение оказалось тут ни при чем – за углом, прямо на улице, лежал молодой человек с простреленной головой. Ярко-красная кровь ручьем вытекала у него из дырки в районе виска, и Каушик тогда подумал: «Как странно, что одежда у него совершенно не запачкалась». Молодой человек лежал на земле, подтянув колени к подбородку; слабый, прерывистый хрип вылетал у него из горла, но стрелки на наглаженных брюках даже не смялись, а золотые часы ярко блестели на солнце.
Группа людей окружила раненого, они кричали друг на друга, требуя вызвать врача. Молодая женщина, то ли жена, то ли подруга, сидела рядом на камне и всхлипывала, засунув в рот кулак. Камера Каушика, как всегда, висела у него на шее, и Эспен громким шепотом приказал ему сделать снимки. Поскольку Каушик не взял с собой объективы для дальней съемки, ему пришлось подойти к этой сцене очень близко, чтобы фотографии получились качественными. Он все ждал, что его остановят, обругают, прогонят, но никто не обращал на него внимания. Когда Каушик вспоминал тот день, он помнил, как тряслись от волнения его руки, но вид предсмертной агонии его не смутил. Он сделал несколько удачных снимков, и, когда он закончил, врач был уже не нужен – раненый умер.
Каушик был единственным, кто задокументировал тот случай. Он не спас молодому человеку жизнь, однако где-то в душе считал, что совершил благое дело, поскольку сумел показать другим людям ужас смерти. Конечно, эти фотографии так и пропали бы, если бы Эспен не послал их нужным людям. И вот неделю спустя один из снимков опубликовала католическая газета, выходящая в Амстердаме. Каушик получил чек на небольшую сумму, а когда еще два снимка появились в одном из европейских изданий, сумма, которую он получил, была уже значительно больше. Вот так Каушик и начал зарабатывать на жизнь фотожурналистикой. Поначалу он работал в Сальвадоре, освещал местные выборы, забастовку транспортников, убийство шести служащих иезуитской миссии и их родственников. Он передавал фотографии Эспену, а тот пристраивал их в приличные издания. Каушик научился бесстрашно глядеть в лицо смерти – он специализировался в основном на мертвых телах: фотографировал трупы с лицами разбитыми прикладами и обезображенными до неузнаваемости, с перерезанными горлами и вырезанными пенисами. Он передавал снимки в агентство по правам человека, чтобы семьи погибших могли опознать своих исчезнувших близких. Спасибо Эспену, он начал работать как внештатный корреспондент Ассошиэйтед Пресс, и это позволило ему остаться в Южной Америке. Сначала он жил в Мехико, потом переехал в Буэнос-Айрес, работая на телевизионные новостные передачи и англоязычные газеты и журналы. Когда ему исполнилось тридцать, его приняли в штат «Нью-Йорк таймс» и послали вначале в Африку, а потом на Средний Восток. Он уже давно потерял счет сфотографированным им трупам: их лица, изъеденные разложением и оплывшие, не преследовали его по ночам, их забитые землей рты не бормотали проклятия, и лишь пустые глаза отражали бегущие в небе облака.
Специфика его работы не предполагала частых визитов в США, чему он был страшно рад – это избавляло его от необходимости наблюдать за счастливой семейной жизнью отца и его новой жены. Часто, когда Каушик приезжал в Штаты, чтобы докупить оборудование или встретиться в Нью-Йорке с редактором газеты, он даже не трудился сообщать отцу о том, что будет в стране. Для Каушика визиты к отцу до сих пор остались тяжелым испытанием, и это несмотря на то, что отец жил с новой женой уже дольше, чем с его матерью. Отцу было уже за семьдесят, и они с Читрой вполне безбедно существовали на его пенсию, играли в гольф, немного путешествовали. Из периодически получаемых от отца мейлов Каушик узнал, что Рупа, старшая дочь Читры, вышла замуж за американца по имени Питер и стала школьной учительницей. Ее младшая сестра Пью училась в медицинском колледже. Каушика приглашали на свадьбу Рупы, но, слава богу, из-за срочной поездки на Кубу он смог с чистым сердцем отказаться. Что же, хоть Каушик и не писал отцу, вести о нем все равно доходили до старика, хотя бы в виде его фамилии под снимками, периодически появляющимися в «Нью-Йорк таймс» – одной из газет, которые отец регулярно читал.
В Риме Каушик снимал маленькую квартирку на пьяцце Сан-Козимато; высокие окна ее единственной комнаты выходили на широкую террасу, откуда открывался вид на живописную аллею. В этом «логове» он отдыхал между заказами. Вообще-то в Италии Каушик обосновался из-за женщины – до Франки у него не было серьезных романов, он болтался по миру и практически не заезжал в Европу, однако за годы жизни в Южной Америке достаточно хорошо изучил испанский, чтобы быстро освоить азы разговорного итальянского языка. Семья Франки принадлежала к мелкому дворянству, и ее овальное лицо с правильными чертами и ясными светло-серыми глазами, опушенными черными ресницами, свидетельствовало об аристократическом происхождении. Он влюбился в нее с первого взгляда (они познакомились в Камеруне, где она работала в маленьком фонде поддержки бедняков), и его жизнь внезапно коренным образом переменилась. Теперь, вместо того чтобы скитаться с одной съемной квартиры на другую, он жил в доме Франки и на выходные ездил в Бергамо на семейный обед к ее бабушке, где подавали полентуи тушеного кролика, – там собирались все ее многочисленные родственники. Бабушка, проведшая последние двадцать лет за подготовкой приданого любимой внучке, одобряла ее выбор, в общем, все шло к свадьбе. Шло, да не дошло, и кончилось крайне некрасиво: он так и не сделал Франке предложения. Любовь вошла в противоречие с его страстью к бродяжничеству, а Франка не смогла заставить его позабыть обо всем на свете в ее объятиях, и в результате Каушик попросту сбежал из Милана, оставив за собой слезы, обиду и злость отвергнутой невесты. Он переехал в Рим, снял квартирку в тихом районе и решил недельку отдохнуть перед поездкой в Буэнос-Айрес, но тут началась вторая интифада, заказы посыпались как из рога изобилия, и он надолго задержался в Европе. Франка, впрочем, так и не узнала, что ее неверный возлюбленный не уехал, а по-прежнему живет в ее стране.






