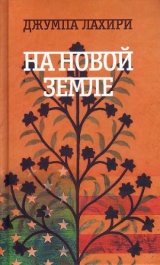
Текст книги "На новой земле"
Автор книги: Джумпа Лахири
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– А что, эти цветы Адам посадил? – спросил отец, выглядывая из окна в сад. В первый раз за свой приезд он произнес вслух имя ее мужа.
– Нет, они нам достались в наследство от предыдущих хозяев.
– Дельфиниумы давно пора полить.
– Дельфиниумы? Это которые? – Рума даже покраснела немного от смущения: ей-то в голову не пришло узнать, как называются цветы, что росли у нее на дворе.
Отец протянул руку.
– Вон те высокие, лиловые, видишь?
Руме пришло в голову, что отец, наверное, скучает без своего сада – он так любил копаться в земле, мог часами стоять согнувшись над грядками. Летом он бежал в огород, как только возвращался из офиса, и оставался там до поздней ночи. Отца не останавливали ни укусы мошек, ни ожоги крапивы. Он всегда возился в саду один: ни Рума, ни Роми особо не жаждали помогать, а он и не звал их. Мама ворчала, что ей приходится ждать ужина аж до девяти часов вечера. «Ну так и поужинай, чего ты мучаешься», – говорила Рума матери, но та лишь качала головой – подобные высказывания казались ей настоящим бунтом против основополагающего правила жизни: «сначала обслужи мужа, а лишь затем поешь сама». На небольшом участке земли отец раскопал место под огород и умудрялся выращивать не только примитивные помидоры, кабачки и баклажаны, но и более изысканные овощи, которые мать употребляла в готовке: китайскую дикую дыню, перец чили и круглые темно-зеленые кустики шпината. Хотя в повседневной жизни отец чаще всего игнорировал желания матери, в огороде он с удовольствием выполнял ее просьбы посадить то или иное растение.
Отец взглянул на суперсовременную плиту с блестящей варочной поверхностью и крупными красными ручками, а потом, не спрашивая, начал открывать дверцы шкафов.
– Что ты ищешь?
– У тебя есть чайник?
– Баба, я сейчас сама заварю чай.
– Да нет, надо полить твои дельфиниумы, боюсь, до завтра они не доживут.
Он забрал из ее рук чайник и набрал воды из-под крана. Затем он осторожно понес чайник к двери, ступая до смешного крошечными шажками, и Рума вдруг увидела, что, несмотря на ясный взгляд и чистую кожу, ее отец – уже совсем старый человек. Она встала у окна, глядя, как он льет воду под корни цветов, наклонившись вперед и высоко подняв нахмуренные брови. Вода ударяла о сухую землю сильной, ровной струей, и этот звук почему-то привел Руму в смущение – как будто отец мочился в ее присутствии. Даже после того, как вся вода вылилась, отец еще какое-то время стоял над дельфиниумом, выжимая из чайника последние капли. Акаш побежал за дедом наружу и теперь остановился немного поодаль, приоткрыв рот и с любопытством глядя на старика.
Акаш совсем не помнил свою бабушку. Она умерла, когда ему еще не исполнилось двух лет, и теперь, если Рума показывала Акашу фотографии бабушки в семейном альбоме, тот неизменно комментировал их так: «Она умерла», причем в голосе его звучало уважение, как будто он гордился дерзким и неожиданным поступком бабушки. Он не помнил, конечно, как мать Румы перебралась к ним на несколько недель после его рождения, как она баюкала его по утрам, давая дочери возможность подольше поспать. Она никогда не оставляла Акаша в колыбели, так и держала на руках, иногда по нескольку часов кряду. Помимо воспоминаний, от мамы остались лишь крошечные свитера, которые она когда-то связала своему первому внуку и которые теперь должны перейти по наследству следующему. Рума не взяла почти ничего из вещей матери, кроме ее украшений и любимых книг да еще недовязанной кофты с белыми звездами, которая до сих пор висела на спицах. Из двухсот восемнадцати сари она сохранила лишь три, убрала их в вышитый и надушенный мешок и засунула далеко в шкаф. Остальные сари разобрали подруги матери. На всю жизнь она запомнила, как мама переживала, что после ее смерти некому будет носить ее прекрасные сари – Рума предпочитала европейскую одежду и почти всегда ходила в брюках.
Он спустился вниз распаковать чемодан, две пары брюк убрал в ящик комода, четыре летние рубашки развесил в шкафу на плечики, надел домашние шлепанцы, которые предусмотрительно привез с собой. Пустой чемодан он закрыл и тоже убрал в комод, небольшой несессер с умывальными принадлежностями отнес в ванную. Да, этот дом несомненно порадовал бы жену-покойницу, она-то всегда переживала, что Рума и Адам ютились в квартире, где и комнаты свободной для родителей не было, спать приходилось в тесноте, на полу. Он выглянул в окно, с одобрением кивнув головой. Хороший участок, конечно, соседи окружают со всех сторон, но лужайка за домом закрыта от их взглядов. Отсюда ему не были видны ни горы, ни озеро, только кусок земли, отгороженный от улицы вечнозелеными растениями, которыми зарос весь Сиэтл.
Его дочь уже приготовила чай. Она сервировала стол на террасе, вынесла поднос с чашками, захватила сахар, молоко и вазочку с сухим печеньем «Найс», которое так любила его жена. Да, это печенье до сих пор ассоциируется с ней – крупные кристаллы сахара, чуть слышный вкус миндаля и кокоса, – у жены на кухне всегда хранилась лишняя пачка этого печенья «на случай гостей». Она всегда обмакивала его в чай, прежде чем отправить в рот, но ему никогда не удавался трюк, который жена проделывала с такой легкостью: почему-то, когда онмакал печенье в чай, оно неизменно растворялось и оседало на дне чашки неприятной на вкус серой взвесью.
Он вышел на террасу, чтобы раздать подарки. Акашу он привез небольшой деревянный самолет с красными пропеллерами и марионетку Пиноккио. Мальчик сразу же начал возиться с игрушками, немедленно запутал нити марионетки, расстроился, заплакал и стал капризно требовать, чтобы мать распутала их. Руме он привез в подарок графин для масла, расписанный вручную, с надписью «olio», а Адаму – шкатулку для хранения канцелярских принадлежностей. Вообще-то подарки выбирала миссис Багчи – хотя своих внуков у нее не было, она заставила его провести почти час в магазине игрушек. Он ничего не собирался рассказывать детям про миссис Багчи. Незачем их расстраивать, особенно Руму, она и так опять в деликатном положении. Ему пришло на ум, что, возможно, его дети чувствовали то же, что он чувствует сейчас, когда в молодости нарушали родительские запреты, тайком встречаясь с дружками.
В свое первое европейское путешествие он отправился по воле случая – это покойная жена собиралась ехать вместе с Румой. За год до смерти жена внезапно начала проявлять несвойственное ей беспокойство – она говорила, что хотя пролетела над Европой как минимум раз тридцать по дороге в Калькутту и обратно, но так и не повидала ни каналов Венеции, ни Эйфелевой башни, ни тюльпанов и ветряных мельниц Голландии. В то время высказывания жены вызвали у него лишь смутное раздражение: а ему-то казалось, что они давным-давно выработали единый жизненный подход ко всему на свете! В отношении путешествий, например, этот подход гласил: незачем садиться в самолет, если он не летит в Калькутту. Поэтому он лишь неодобрительно поднимал густые брови, даже не удостаивая жену ответом. Обычно заламывание бровей срабатывало безотказно, но в тот раз испытанный прием не помог – жена не умолкала. «По каналу путешествий показывают такие интересные программы! – без умолку щебетала она по вечерам. – Почему бы нам с тобой тоже не поехать? У тебя остался отпуск, ты никогда так его и не отгуляешь». Но ему было неинтересно ехать с ней, и он делал вид, что не слышит просьб. К тому же за все годы совместной жизни они никуда не ездили вдвоем ради удовольствия – поздновато было начинать.
В конце концов Рума сама решила вывезти мать в Европу, подарить ей поездку в Париж на шестьдесят четвертый день рождения. Рума купила двухнедельный тур на июнь и уговорила Адама отвезти на это время Акаша свекрови, которая, конечно, была рада посидеть с внуком, которого видела не часто. Она внесла залог, отправила матери цветные проспекты с описанием маршрута и даже диск с самоучителем французского языка. После этого в течение нескольких недель вечерами он слышал доносящийся из спальни голос жены, сосредоточенно, со смешным акцентом повторяющей французские слова. Жена научилась считать до ста, произносить простые фразы и объясняться на улице, в кафе и магазинах. Но тут у нее обострился хронический колит, и после обследования врач решил, что желчный пузырь давно пора удалить. Операция была назначена на апрель, и доктора заверили их, что шести недель будет достаточно, чтобы оправиться после такого в общем-то несложного хирургического вмешательства. В день операции Рума взяла отгул на работе и приехала в больницу вместе с Акашем, хотя он ее отговаривал. Сначала он рассердился на дочь, что не послушалась его и не осталась дома, потом на врачей – что они так долго копаются? А вот отрывистое сообщение хирурга, что его жена умерла, он едва расслышал. Тот что-то бормотал о побочных эффектах рокурония, который использовали для релаксации мышц, и о том, что такая бурная реакция встречается крайне редко и что они не смогли ее спасти. Еще он помнил, что они с Румой ходили прощаться в морг по очереди: кто-то должен был оставаться с Акашем. Тот день слился в один сплошной кошмар. А ведь в этой самой больнице Рума в школе подрабатывала волонтером, сюда он как-то привез Роми, когда тот сломал на футбольном поле ключицу. Несколько недель после похорон прошло как в тумане, пока один из коллег на работе не посоветовал ему взять отпуск, и тогда он вспомнил про купленный тур. Он спросил Руму, хочет ли она поехать, а когда она ответила «нет», попросил ее перебронировать билеты и гостиницу на его имя.
– Как тебе понравилась Италия? – спросила Рума.
Она посадила Пиноккио себе на колени, неумело перебирая запутавшиеся нити. Он хотел подсказать ей, что сначала надо распутать узел, который образовался посередине, но промолчал, и вместо этого начал рассказывать от красотах Италии, о приятном мягком климате этой страны, о старинных площадях и о том, что, в отличие от американцев, большинство итальянцев – худощавы и черноволосы. «И представляешь, практически все курят! Курят везде! Мне самому тоже ужасно захотелось покурить!» Он курил, когда Рума была маленькой, потом бросил в возрасте сорока лет. В детстве Рума делала ему выговоры за то, что он курит, почему-то ни Роми, ни жена не возражали против этой привычки. А девчонка, бывало, даже выкрадывала у него из кармана пачки «Уинстона» или выкидывала из пачки все сигареты и набивала ее папиросной бумагой. Одно время она даже плакала по ночам, когда учительница рассказала им про последствия курения: дочь была уверена, что отец вот-вот умрет от рака легких. Тогда он ничего не сделал, чтобы ее успокоить, продолжал себе курить, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на страхи дочери. Ему нравилось пускать дым в потолок, а еще у него была любимая медная пепельница в виде старинной туфли с загнутым вверх носком. Когда он бросил курить, он выбросил все пепельницы, но, к его удивлению, Рума забрала эту себе, вычистила ее и хранила среди своих игрушек. Он помнил, как она и ее подружки играли со старой пепельницей, называя ее хрустальной туфелькой Золушки, и периодически пытались надеть ее на пластмассовые ноги своих кукол.
– И что? – спросила Рума.
– Что «что»?
– Ты курил в Италии?
– О нет. Я уже слишком стар, чтобы снова начинать курить. – Его взгляд остановился на водной глади озера.
– Ну а чем вас там кормили?
А! Первый обед группы был в ресторане неподалеку от дворца Медичи. Он даже растерялся от разнообразия блюд, от бесконечных перемен. Если честно, чтобы наесться, ему хватило бы маринованных овощей, но официанты принесли равиолии следом за ними – жареное мясо. После такого обеда вместо экскурсии пришлось вернуться в гостиницу, он засыпал на ходу. Он заметил, что половина группы тоже не пошла на вечерний осмотр города, хотя все они были сильно моложе его. Просто объелись, хаха! На следующий день гид сказал им, что они могут пропускать обед, если не голодны, главное, чтобы не пропускали обзор достопримечательностей. Тогда-то они и начали бродить по итальянским улочкам с миссис Багчи, которой тоже не нравились семиэтажные обеды. Они заходили в маленькие кафе, пробовали всего понемножку, с удивлением признаваясь друг другу, что стали малоежками, а ведь бывали времена, когда осилить обед из семи блюд им ничего не стоило, в конце концов, в Индии еда тоже возведена в культ.
– Я ел пасту, – сказал он, отпивая глоток чая. – Но больше всего мне понравилась пицца.
– Что, две недели питался одной пиццей?
– Ммм, надо признать, итальянцы умеют готовить пиццу.
Рума потрясла головой.
– Что ты, баба, там же столько разнообразных деликатесов!
– Знаешь, я там снимал фильм, – сказал он, меняя тему разговора. – Хочешь, покажу тебе?
Они сели ужинать рано, Рума настояла на том, что отцу после долгой поездки надо хорошенько выспаться. Отец и сам не возражал, сказал, что не прочь отправиться на боковую пораньше, в конце концов, время на Восточном побережье опережает Западное на три часа. Последние два дня до приезда отца Рума провела на кухне, стараясь наготовить побольше разносолов, так что холодильник ее теперь был забит завернутыми в фольгу индийскими кушаньями. Она уже смотреть на них не могла. Конечно, Рума время от времени баловала Адама национальными деликатесами, но, по правде говоря, он все равно не понимал разницы, и поэтому она постепенно стала «халтурить», например, вместо настоящего чорчоримогла подать обычный салат. «Это что, все, что ты приготовила на ужин?» – один раз в ужасе спросила по телефону мать, узнав, что Рума подала мужу только дал срисом да салат. В такие минуты Рума особенно ясно понимала, насколько проще быть женой американца – мама всю жизнь должна была соответствовать индийским стандартам идеальной жены, которые, впрочем, она сама себе и поставила. Ее мамочка не терпела делать дело наполовину, даже живя в Пенсильвании, продолжала вести домашнее хозяйство так, как будто находилась под надзором бдительного ока свекрови. Готовила она превосходно, хотя отец никогда не хвалил ее стряпню, как будто и не замечал ее, и только иногда, возвращаясь домой из гостей, мог вскользь обронить, что за весь вечер так и не наелся… Лишь по таким редким замечаниям и можно было понять, насколько он ценит кулинарные способности жены. Рума, конечно, не обладала ни материнскими талантами, ни ее опытом, так что овощи получились у нее слишком мягкими, а рис переварился. Но отец с аппетитом съел все, что она положила ему на тарелку, не переставая нахваливать ее стряпню.
Она ела руками, как и отец, – наверное, в первый раз за многие месяцы, уж точно в первый раз с тех пор, как переехала в Сиэтл. Акаш сидел между ними на своем высоком стульчике и, увидев, как ловко они справляются, захватывая еду пальцами, тоже захотел попробовать. Рума не учила сына правильно брать пищу, так, чтобы ладонь оставалась чистой, поэтому очень скоро и руки и лицо Акаша оказались вымазаны в кукурузных хлопьях с молоком и бананом, которые она ему приготовила.
Руме не хотелось говорить о серьезных вещах, поэтому она не упоминала в разговоре ни о матери, ни о брате: несмотря на их абсурдно похожие имена, они с братом последнее время практически не общались. Они не обсуждали ее беременность и ее самочувствие, не сравнивали, насколько лучше или хуже она чувствует себя по сравнению с прошлым разом. С мамой они только об этом и говорили бы, снова вздохнув, подумала Рума. Они вообще почти не разговаривали, впрочем, отец всегда был молчуном и за столом не любил болтать. Мать часто жаловалась Руме на то, что с отцом невозможно жить – бывает, и словечка не скажет за целый день! Теперь Руме приходилось заполнять тишину вымученными замечаниями о погоде, о магазинах Сиэтла, о работе Адама.
– Странно, как на улице светло! – заметил отец, не поднимая глаз от тарелки. Он часто удивлял Руму подобными замечаниями, казалось, что он ничего не замечает по сторонам, и вдруг – на тебе!
– Да, летом солнце заходит только после девяти вечера, – сказала она. – Ох, извини, бегунисовсем развалились. Это потому, что я плохо прокалила сковороду.
– Да это не важно. На, попробуй. – Отец положил кусочек обжаренного в тесте баклажана на тарелку Акаша.
Последние несколько месяцев Акаш вдруг категорически отказался от любой индийской пищи и кроме макарон с сыром да хлопьев ничего на ужин не ел. Отец потыкал пальцем в тарелку Акаша.
– А чем это ты его кормишь? Это же все ненатуральные продукты, там сплошная химия. – Когда Акаш был поменьше, Рума по совету матери попыталась приучить его к традиционной индийской кухне, специально готовила тушеного цыпленка с овощами и специями. Теперь же Акаш больше всего любил замороженные полуфабрикаты.
– Я не люблю это. Фу, гадость! – с чувством произнес Акаш, хмурясь на тарелку отца.
– Акаш, нельзя говорить такие вещи! – строго произнесла Рума.
Несмотря на все ее усилия, сын рос типичным американским ребенком, вроде тех, от которых ее мать когда-то приходила в ужас: бледных, капризных, вечно сопливых детей с аллергией на все на свете. А вот когда Акаш был совсем маленьким, он с удовольствием ел бабушкины кушанья.
– Ты помнишь, как тебе нравилось то, что готовила дида? – спросила Рума. – Она жарила самые вкусные на свете бегуни.
– Я не помню дида, – сказал Акаш, отворачиваясь от нее. Он даже потряс головой, как бы отрицая сам факт существования своей бабушки. – Я не помню это. Она умерла.
Рума читала Акашу на ночь сказку, когда отец тихонько постучал в дверь спальни. Сквозь дверной проем он протянул ей телефонную трубку. Отец как-то неловко прижимал к груди правую руку, и Рума увидела, что она вся в мыльной пене.
– Адам тебе звонит.
– Баба, зачем ты? Я бы сама помыла посуду. Иди спать.
– Ничего, там была всего пара тарелок. – Отец по собственной инициативе взял на себя обязанности по мытью посуды – он говорил, что после еды ему обязательно надо постоять минут пятнадцать, чтобы пища лучше улеглась в желудке. Отец мыл посуду особым способом: он экономил воду и поэтому всегда выключал кран, пока намыливал тарелки и чашки. До тех пор пока все тарелки не были хорошенько намылены, единственным звуком на кухне был методичное шуршание щетки по фаянсу.
Рума забрала у отца мыльную трубку.
– Рум! – так звал ее муж. – Милая, как ты?
Она представила себе Адама в гостиничном номере в Калгари, наверняка скинул ботинки, развязал галстук и сел в кресло, задрав ноги на журнальный столик. В тридцать девять лет ее муж все еще сохранял озорное мальчишеское обаяние. У него были густые вьющиеся каштановые волосы, которые унаследовал Акаш, тренированное тело марафонца и высокие скулы, которым Рума втайне завидовала. Если бы не голос, что с годами стал на октаву ниже, и не очки, которые Адам начал носить с недавних пор, его можно было бы легко принять за атлетически сложенного, добродушно-веселого выпускника колледжа, каким он был пятнадцать лет назад.
– Папа приехал.
– Да, мы с ним поздоровались.
– И что он сказал?
– Да как обычно: «Как твои дела? Как родители?» – действительно, кроме этих вопросов отец практически ни о чем с Адамом не разговаривал.
– А ты поел?
За этим вопросом последовала пауза. Рума поняла, что Адам, должно быть, смотрит телевизор.
– Что? – сказал он наконец. – Ах да, я сейчас еду на встречу с клиентом, там и поужинаю. А как наш Акаш?
– Акаш здесь, у меня под боком. – Она приложила трубку к уху сына. – Скажи папочке «привет»!
– Привет, – пробормотал Акаш без энтузиазма.
Затем последовало молчание. Из трубки доносился бодрый голос Адама. Рума слышала, как он говорил: «Ну, что у тебя происходит, старичок? Весело тебе с даду?» – но Акаш не желал разговаривать с отцом, сидел молча, глядя на открытую страницу книги, так что ей пришлось забрать трубку назад.
– Да он устал, – сказала она. – Того и гляди заснет.
– Господи, как я ему завидую, – пробормотал Адам. – Я бы и сам не прочь…
Рума знала, что муж с утра носился по встречам и что даже вечером ему не удастся расслабиться из-за ужина с очередным клиентом. Однако сочувствия к нему она почему-то не испытала.
– Не представляю себе жизни под одной крышей с отцом, – сказала она нарочито жестким тоном.
– Ну, так мы и не будем жить с ним под одной крышей.
– Но ведь он здесь, так?
– Ты думаешь, этим он тебе на что-то намекает?
– Да.
– Так спроси его об этом прямо!
– А вдруг он согласится?
– Если согласится, так переедет к нам.
– Ты думаешь, мне следует его спросить?
Она услышала, как Адам нетерпеливо выпустил воздух из легких.
– Мы это обсуждали миллион раз, детка. Он твойотец, Рум, понимаешь? Значит, тебе и решать.
Рума перевернула страницу книги Акаша и промолчала.
– Ладно, мне пора идти, – произнес Адам после секундного молчания. – Я скучаю без вас, ребятки.
– Мы тоже скучаем без тебя, – пробормотала Рума неискренне.
Она нажала на кнопку отбоя и резко положила трубку на тумбочку рядом с фотографией, на которой они с Адамом в день свадьбы разрезают многоярусный белый торт. Она не могла объяснить этого, но после смерти матери что-то в ее семейной жизни неуловимо изменилось. В первый раз за всю историю их отношений она почувствовала, что между ней и мужем вырастает стена, а ведь они были практически неразлучны с тех самых пор, как впервые встретились, и произошло это, когда она заканчивала юридический факультет, а он получал степень МВА. Что же случилось?
Может быть, она ревновала к тому, что его отец и мать были еще живы, в то время как она уже пережила смерть самого близкого ей человека? Она знала, что не права, но мысль о том, что в жизни родителей Адама со смертью мамы ничего не изменилось, была ей оскорбительна. Впервые она почувствовала, что они – разные люди и что у каждого – свой собственный жизненный путь. Конечно, она и сейчас переживала по поводу его отъездов, но ей все чаще казалось, что сидеть дома в одиночестве даже приятнее, чем видеть Адама, вечно нависающего над ней с озабоченным видом. Рума начала уставать даже оттого, что ей приходилось все время улыбаться мужу, как будто доказывая ему, что она все еще счастлива.
Десять лет назад ее мать готова была лечь на рельсы, лишь бы дочь не вышла замуж за американца. Сколько раз она твердила Руме, что Адам бросит ее, что в конце концов он все равно предпочтет ей американку. Мрачные предсказания матери не сбылись, но Рума частенько мысленно возвращалась к их разговорам, удивляясь собственному мужеству: ей пришлось продемонстрировать силу характера, которой она в себе и не подозревала, чтобы противостоять открытому гневу матери и молчаливому неодобрению отца, которое она воспринимала еще более болезненно. «Да ты просто стыдишься, что ты индуска! – в запале кричала ей мать. – Хочешь смыть свои пятна, да? В этом все дело!» Конечно, Рума знала, что отчасти сама виновата: она до последнего дня держала их отношения с Адамом в секрете от родителей. У нее и до Адама были романы с мужчинами-американцами, само собой разумеется, родители о них даже не подозревали. Поэтому мать впала в такую истерику, когда Рума объявила о своей помолвке – эта новость ее как обухом по голове ударила. С течением времени мама переменила свое мнение об Адаме, успела даже полюбить его, как родного сына, особенно после предательства Роми, который переплюнул выходку сестры и вообще сбежал за тридевять земель. Позже мама с таким же рвением защищала Адама, как когда-то боролась против него, и бывало, по часу болтала с ним по телефону, если Румы не было дома, посылала ему время от времени мейлы, даже играла с ним в «Эрудит» по интернету. Когда родители приезжали в гости, мать непременно брала с собой охлаждающий термос, набитый приготовленными ею, истекающими сиропом мишти,этими покрытыми глазурью сладкими шариками, наполненными легким кремом, которые Адам обожал.
А после рождения ребенка отношения Румы с матерью стали просто идеальными, статус бабушки трансформировал ее, принес радость и успокоение, подарил позитивную энергию, которой раньше Рума у нее не замечала. Казалось, мать простила ей, наконец, все ошибки ее молодости, все прошлые ожидания, которые дочь не оправдала. Теперь Рума сама часами болтала с матерью по телефону, ждала возможности рассказать ей о том, как прошел ее день, похвастаться успехами Акаша. А мама помолодела, подтянулась, стала делать зарядку и бегать по утрам, надевая для этого старый тренировочный костюм Роми. Ей нужно держаться в форме, говорила она, ведь она хочет поплясать у внука на свадьбе. Иногда Рума чувствовала, что после смерти мама стала ей еще ближе, ее образ постепенно идеализировался, поднимаясь все выше. Но конечно, она понимала и то, что образ этот был иллюзией, обманом, миражом и что расстояние между ней и матерью, по крайней мере до ее собственной смерти, было бесконечно далеким.
Помыв посуду, он вытер ее полотенцем, а потом протер щеткой металлическую мойку и хорошенько ополоснул водой. Он аккуратно завернул недоеденные блюда в фольгу и отправил в холодильник. Он затянул шнур на мешке для мусора, вынес его наружу и сложил в большой черный пластмассовый ящик, стоящий в начале гравиевой дорожки, ведущей к дому, потом проверил, все ли двери заперты. Потом еще немного посидел на кухне, решив починить кастрюлю, у которой отваливалась ручка. Для этой работы ему нужна была отвертка, но он не нашел ее и в конце концов смог прикрутить ручку, используя острие кухонного ножа. Закончив свои занятия, он заглянул в комнату Акаша: мать и сын, обнявшись, крепко спали. Несколько секунд он постоял на пороге, вглядываясь в лицо дочери, – она стала настолько похожа на его покойницу-жену, что весь день он не мог взглянуть на нее без дрожи. А когда она вышла встречать его, держа за руку Акаша, у него аж дыхание перехватило. Ее лицо постарело, и черты его стали отчетливее, волосы начали седеть на висках, как у жены когда-то, и так же, как и она, Рума носила их собранными сзади в небрежный хвост, перетянутый цветной резинкой. Но до чего ж они похожи! Дочь становилась точной копией матери – вплоть до полного совпадения разреза и цвета глаз, вплоть до ямочки на левой щеке, появлявшейся, когда она улыбалась.
Несмотря на разницу во времени и усталость после перелета, ему не спалось. Мешали незнакомые тени, посторонние звуки, вроде моторных лодок, время от времени тарахтевших на озере. Он сел в кровати, полистал журнал, который забрал с собой из самолета, затем открыл путеводитель по Сиэтлу, предусмотрительно оставленный на тумбочке около кровати. Он внимательно и скрупулезно перелистал страницы проспекта, пересмотрел фотографии. Сиэтл ничем его не поразил, но все же он послушно прочитал о новых, только что открывшихся магазинах и кафе, о среднем количестве ежемесячных осадков, нахмурился, увидев фотографию огромного лосося, лежащего во льду на витрине рыбного магазина, удивился, узнав, что снега здесь практически не бывает. Он развернул карту и еще больше поразился тому, как далеко они находятся от Тихого океана. Почему-то ему казалось, что они должны быть рядом с побережьем, а оказалось, что от океана их отделял массивный горный хребет. Несмотря на то что он перелетел через всю Америку, он не чувствовал себя здесь чужим, как всегда случалось, стоило ему увидеть аккуратно нарезанные квадратики земли Старого Света. Да, тяжело ему пришлось в те первые годы эмиграции – тогда он и языка-то толком не знал, лишь понимал отдельные слова, да и местные деньги казались ему ужасно сложными в обращении. Как давно это было! Он взглянул в окно – стало совсем темно, рамы были открыты, сетка опущена, и в нее периодически бились насекомые, привлеченные светом лампы. Один особенно большой жук с такой силой врезался в сетку, что он даже вздрогнул.
Он обвел взглядом просторную комнату, обставленную неброско, но со вкусом. Когда ему было под сорок, они с женой и детьми жили в маленькой квартирке в Гарден-Сити, штат Нью-Джерси. Им пришлось переделать кладовку в детскую для Роми, а потом и для маленькой Румы. Дом, в котором они жили, ему совсем не нравился, кварталы вокруг были неспокойные, бандитские, даже камера слежения, висевшая при входе, внушала ему скорее тревогу, чем уверенность в своей безопасности. Но в то время он еще работал над диссертацией в области биохимии и ничего другого позволить себе не мог. Жена готовила на газовой плитке – запахи разносились по всей квартире, а потом не выветривались из комнат часами. Они жили на четырнадцатом этаже, жене приходилось сушить свои сари на узеньком балконе – трудновато, если учесть, что на каждое сари пошло по меньшей мере двадцать футов шелка. Ха! Жена и ее сари. Спальня, в которой были зачаты и Роми, и Рума, представляла собой унылую комнату, большую часть которой занимала кровать, однако до сих пор он вспоминает ее с ностальгической нежностью. Та жизнь осталась в прошлом, прошла безвозвратно, канула в небытие его молодость, и не вернется назад ни смех жены, ни топот босых ножек по утрам, ни шаловливые, тонкие детские голоса. Эта часть жизни принадлежит только им, его жене и ему самому, дети не могут ее помнить. Они вспоминают большой дом, который он купил много позже, и окружавшие его огромные ивы, и просторные комнаты, и заваленную игрушками гостиную. Но с тем, как Рума живет сейчас, тот дом не идет ни в какое сравнение. В старом деревянном доме он панически боялся пожара – все могло вспыхнуть от одной спички. Теперь, когда он остался один, ему время от времени приходила в голову мысль, что, может быть, стоит перебраться к дочери. Даже миссис Багчи несколько раз заводила об этом разговор. Но они сами воспитали детей по американскому образцу, не привили им чувства ответственности за родителей, типичного для индийской культуры. Рума жила своим умом, сама принимала решения, вот, поглядите, вышла замуж за американца. Он не ждал, что она предложит ему переехать к ней, и не мог ее за это винить. Потому что сам-то он что сделал, чтобы облегчить старость своим родителям? Да ничего, ровным счетом ничего, в этом-то все и дело. Когда отец умер, матери было уже под восемьдесят. Он не мог перевезти семью обратно в Индию; такой вариант даже не обсуждался. И везти престарелую мать в Америку не представлялось возможным. В результате за его больной матерью ухаживала его родня, пока она тоже не умерла. Да, многие умерли, что и говорить.
Если бы он ушел первым, жена тотчас бы переехала к Руме, ни на минуту не задумалась бы. Его жена не была создана для одиночества, она не могла жить одна, подобно тому как утренний вьюнок не может нормально развиваться в тени. Даже в окружении семьи, живя в большом доме, она чувствовала себя одинокой, постоянно жаловалась, что не знает соседей и что ей не с кем поболтать с утра. А он наслаждался жизнью в пригороде, ему не нужно было лишнее общение, в этом они с миссис Багчи сходились, как и во многом другом. После выхода на пенсию он выполнял кое-какую волонтерскую работу для Демократической партии, в основном рассылал письма из дома. Такая немудреная работа плюс поездки за границу – и ему вполне хватало, чтобы не чувствовать себя обделенным вниманием. Какое все-таки облегчение, что ему больше не надо косить лужайки, и стричь кусты, и закрывать окна ставнями на зиму, а весной вставлять сетки от комаров! Он был рад, что перебрался в другое место, начал жизнь с чистого листа, хотя и не слишком далеко уехал от родового гнезда. В старом доме некуда было бы деваться от воспоминаний, от друзей, от вечеринок, от бесконечных звонков встревоженных его молчанием знакомых, от их доброты, от мисок с карри, которые они завозили ему после работы, или от их неожиданных визитов воскресным утром, когда он меньше всего на свете желал их видеть. Н-да.






