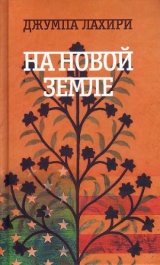
Текст книги "На новой земле"
Автор книги: Джумпа Лахири
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
– Оставьте дада в покое, дайте ему поесть, – сказала им Читра. Она, не колеблясь, назвала меня «дада» – старший брат, – и это мне не понравилось.
– Можете называть меня Каушик, – сказал я быстро, что вызвало у них очередной приступ безудержного веселья. Теперь они прикрывали рты обеими руками.
– А как насчет КД? – спросил отец.
Мы с удивлением повернулись к человеку, из-за которого, собственно, все здесь и собрались.
– Это сокращенно от Каушик-дада, – объяснил отец.
Я не знал, пришло ли ему это в голову в тот момент, или он придумал это имя раньше, на случай, если я отвергну вариант Читры. Вообще-то он всегда любил играть со словами, даже писал стихи на бенгальском языке, которые читал маме вслух. Из ее смешков и комментариев я понял, что стихи были юмористического плана и довольно остроумные. Мы не афишировали тот факт, что мой отец, инженер-строитель, в свободное время изображает из себя поэта. Я, конечно, не спрашивал его об этом, но почему-то был уверен, что после маминой смерти он больше не писал стихов.
– Хорошо придумано, – сказала Читра, впервые в моем присутствии обращаясь к отцу напрямую. Она говорила поощрительным голосом, даже немного снисходительно, как будто гладила по голове послушного ученика, и я вспомнил, что в своей прошлой жизни она работала школьной учительницей. – Да, КД звучит гораздо лучше.
Мне это прозвище показалось совершенно бессмысленным, но мой отец явно им гордился, и к тому же оно было все же лучше дурацкого «дада».
– Ну а как мне вас называть? – спросил я моих сводных сестер.
– Я Рупа, – сказала более высокая девочка таким же хрипловатым, как у матери, голосом.
– А я Пью, – чирикнула младшая, у которой не было зуба.
– Мы очень рады, что ты разрешил нам жить в твоей комнате, – добавила Рупа. Она говорила несколько деревянным голосом, как будто повторяла выученное стихотворение. – Мы так тебе в этом благодарны.
Они обращались ко мне по-английски, с тяжелым индийским акцентом – наверное, я говорил с таким же, когда мы, как беженцы, приехали в ваш дом. Я знал, что очень скоро акцент станет менее заметен, а затем и вовсе исчезнет, так же как и их уродливые свитера и дурацкие прически.
– Рупа и Пью очень хотели бы посмотреть Аквариум и сходить в Музей естественных наук, – сказал отец. – Может быть, ты мог бы сводить их туда, Каушик?
Я не стал отвечать ему и вместо этого сказал:
– Спасибо, все было очень вкусно. – Я произнес на бенгали эту вежливую фразу, которой научила меня мама, – так благодарят хозяев в гостях после формального приема пищи. Я поднялся, чтобы отнести тарелку на кухню.
– Но вы же еще не поели, – сказала Читра, пытаясь перехватить у меня тарелку, но я крепко прижал ее к груди и прошел на кухню, чтобы налить себе виски, который мой отец всегда держал в шкафчике над посудомоечной машиной. – Что вам надо? Я принесу, – бормотала Читра, торопливо следуя за мной, и внезапно меня охватило отвращение от ее вида на нашей кухне.
Конечно, когда мы переехали в этот дом, мама уже почти не готовила, но все равно кухня была ее территорией, ее присутствие ощущалось здесь сильнее, чем в других комнатах. Вот и ее растения до сих пор живы и здоровы и цветут на окне, и часы в форме солнечного диска с лучами все так же отстукивают время. Хотя она редко мыла посуду, в основном в то время посудой занимался я, мне показалось, что я и сейчас вижу ее тонкие руки, открывающие кран, ее легкое, исхудавшее тело, прижатое к раковине. Сжав зубы, стараясь не смотреть на Читру, я подошел к шкафчику, чтобы вынуть стакан и бутылку скотча, но все, что я обнаружил там, были коробки с кукурузными хлопьями и крупами, пакетики со специями и стеклянные банки с сахарным песком.
Мой отец тоже вошел на кухню.
– А где скотч? – спросил я его сквозь зубы.
Он взглянул на Читру, и после нескольких секунд безмолвных переговоров женщина повернулась и вышла.
– Я убрал его, – сказал отец, когда мы остались одни.
– Почему?
– Я больше не пью. Теперь я лучше сплю по ночам.
– С каких пор?
– С недавних пор. К тому же я не хотел пугать Читру.
– Пугать ее?
– Она немного старомодна. – Он подвинул табуретку, которая всегда стояла за холодильником, влез на нее и открыл шкафчик в самом дальнем углу. Туда и с табуретки было сложно дотянуться. Он достал початую бутылку виски и тяжело слез на пол.
Я хотел спросить моего отца, что заставило его жениться на девушке в два раза моложе его и к тому же старомодно воспитанной, но промолчал, просто забрал из его рук бутылку.
– Надеюсь, ты не рассердишься, если я немного напугаю ее.
– Просто не надо обсуждать этот вопрос, особенно в присутствии девочек.
Мои родители в жизни своей не скрывали пристрастия к «Джонни Уокеру» – ни передо мной, ни перед кем бы то ни было. После маминой смерти – мне тогда исполнилось восемнадцать лет – я не раз составлял отцу компанию, сначала выпивая за вечер один сильно разбавленный стакан виски, потом второй, чтобы отец смог заснуть. Вообще-то мне не нравился виски, в колледже я его никогда не пил, предпочитая пиво, но, когда бы я ни приезжал домой, меня начинало безумно тянуть на виски. Наверное, он ассоциировался у меня с мамой, я всегда вспоминал о ней при виде бутылки «Джонни Уокера», даже если видел его в рекламной брошюре.
– Может быть, завтра, пока я буду на работе, ты сможешь выбрать дерево? – спросил отец. – Они продаются неподалеку, надо только немного проехать по сто двадцать восьмому шоссе. Может быть, и девочки захотят к тебе присоединиться. Они так ждут Рождества!
Я в недоумении уставился на него. До сих пор голове у меня как-то не укладывалось, что отец собирается проводить эти дни на работе, а я должен буду в это время развлекать Читру и ее детей.
– О каком дереве ты говоришь? О елке, что ли?
Последние три года мы не праздновали Рождество дома, а вместо этого мы принимали приглашения друзей и знакомых. Мы приезжали к ним утром, празднично одетые, и чинно сидели на кухне, пока наши хозяева потягивались и вылезали из кроватей в пижамах. Вечером я доставал из-под елки неизменный свитер или рубашку и смотрел, как дети, визжа от восторга, вскрывают дюжины подарков. В Бомбее мама всегда устраивала на Рождество грандиозный праздник, развешивала по всей квартире цветные огоньки, за неимением елки прятала подарки под кустом гибискуса. В это время года она с удовольствием вспоминала Кембридж, твою семью и других друзей, оставленных в Америке, говорила, что без снега, холода, разукрашенных магазинов и рождественских открыток праздник получается неполноценным.
– Полагаю, надо купить подарки, – добавил отец. – У нас есть еще несколько дней. Сильно тратиться не стоит.
Я знал, что Читра и девочки, скорее всего, сидели сейчас в гостиной, тесно прижавшись друг к другу, и жадно ловили каждое наше слово, однако все же не удержался, чтобы не спросить:
– Я в два раза старше этих детей, ты что, хочешь, чтобы я с ними нянчился?
– Я ни о чем не прошу тебя, – сдержанно ответил отец.
Его не смутил резкий тон моего замечания, может быть, он даже почувствовал облегчение оттого, что я наконец-то явно высказал свое неодобрение. Значит, можно было больше не притворяться, что все прекрасно и что я с первого взгляда полюбил своих новых родственников. Как будто отец так много раз прокручивал в уме эту сцену, что успел устать от нее. – Я только спрашиваю, можешь ли ты выбрать для нас елку.
Я не стал отвечать ему. Вместо этого я повернулся к кухонному столу, взял чистый стакан и бутылку виски, которую достал мой отец, и плеснул себе изрядную порцию. Я добавил в виски один кубик льда, как всегда делала мама, и выпил залпом. Затем налил себе еще одну порцию.
– Легче, легче, – сказал отец.
Я взглянул в его сторону. После смерти матери его лицо непостижимым образом изменилось, черты застыли в гримасу, которая с тех пор не покидала его. Она выражала даже не грусть, а скорее плохо сдерживаемое раздражение, такое выражение появлялось раньше на его лице, когда я случайно ронял на пол чашку или когда в день пикника небо затягивали тучи. Это выражение впервые появилось на его лице, когда он вышел ко мне из палаты матери в день ее смерти, и с того времени каждый раз, когда я приезжал домой из колледжа, он встречал меня все с той же мучительной гримасой. Порой мне казалось, что она направлена против мамы, как будто он не мог простить ей того, что она так страшно умерла. Но сейчас на его лице этой гримасы больше не было. Не было!
– Не легче! – произнес я дрожащим голосом, всматриваясь в черную пустоту окна и качая головой своему неясному отражению. – Мне не легче, отец.
Когда я проснулся на следующее утро, отец уже ушел на работу. Некоторое время я продолжал лежать в постели, не представляя, который сейчас час, и поначалу даже не мог понять, каким образом я оказался в гостевой спальне. Потом до меня долетел шелест детских голосов и приглушенный смех, раздававшийся откуда-то сверху. Гостевая спальня находилась на первом этаже дома в отдельном крыле, в которое можно было попасть через коридор, выходящий из кухни. Я занимал двуспальную кровать, матрас был уложен на низкой платформе посередине комнаты, напротив нее, за раздвижной стеклянной дверью, располагался бассейн, на зиму закрытый толстым черным брезентом. Когда мы впервые въехали в этот дом, мама почему-то посвятила кучу времени отделке именно гостевой комнаты, долго выбирала покрывало (в результате выбрала ярко-зеленое – цвета саранчи), занавески для окон, часы-будильник на тумбочке, даже держатели для полотенец и мыла в ванной стали предметом долгих размышлений. По ее просьбе над комодом я повесил большую розово-фиолетовую картину в стиле росписей мадхубани. Не знаю, кого она ждала в то время к нам в гости, но мы с отцом безропотно выполняли все ее прихоти, особенно если у нее от них улучшалось настроение. Сейчас я был так благодарен ей за ту заботу, так рад, что мне не пришлось ночевать в моей старой комнате, расположенной рядом с родительской спальней. Слушать каждую ночь хриплое мамино дыхание, ее стоны, ее удушливый кашель было ужасно, но не менее ужасно было бы сейчас слышать разговоры отца с молодой женой, зная, что их тела соприкасаются под одеялом.
До меня единственной, кто останавливался в гостевой комнате, была сиделка миссис Гарибьян, которая жила у нас какое-то время, когда мы с отцом уже не могли обеспечить маме полный уход, а она еще не приняла окончательного решения умереть в больнице. Миссис Гарибьян, высокая женщина средних лет с короткой стрижкой и певучим южным акцентом, была замужем за армянином и умела превосходно готовить всевозможные армянские блюда. Этому ее научила свекровь. Она всегда приносила миски с отбивными из барашка или долмой—фаршированным мясом, завернутым в виноградные листья, так что теперь эти блюда напоминали мне о времени маминого угасания. Мама тогда уже почти ничего не ела, так что миссис Гарибьян ставила свои миски в холодильник, чтобы мы с отцом могли перекусить вечером, и еще без напоминания покупала нам молоко и хлеб. Вначале она уходила по вечерам домой, но потом на две недели поселилась у нас, чтобы дежурить по ночам, – к тому времени мама не могла жить без уколов морфия, и ее постоянно тошнило. Миссис Гарибьян вела записи маминого состояния – чего-то чиркала в своей объемной записной книжке в матерчатом переплете, похожей на поваренную. Ее благодушная внешность, ее уверенность, спокойная, но бодрая манера внушали мне надежду, что она если и не излечит маму, то, по крайней мере, сможет удержать ее по эту сторону смерти.
– Это время – самое плохое, – сказала она мне как-то раз. – Ты зажмуриваешься от страха перед тем, что будет потом, но поверь мне, мальчик, – потом станет легче, и тебе и ей.
В то время ее слова меня не утешили, я не мог представить себе ничего хуже того времени, когда мама уже не сможет вдохнуть воздух в свои измученные легкие, когда закроет усталые глаза навсегда. Я не мог представить себе жизни без мамы: я не знал, как мне жить, не видя ее лица, изуродованного болезнью, но по-прежнему прекрасного, не слыша ее тихого голоса, говорящего мне слова любви и сожаления. Однако после ее смерти я понял, чтоименно миссис Гарибьян имела в виду: действительно, самым страшным было ожидание смерти, а не собственно смерть, и те глухие, черные, тяжелые месяцы – яркое тому подтверждение.
Я накинул свитер, приоткрыл дверь и закурил сигарету. Неубранные осенние листья метались по двору, подгоняемые ветром, то взметались вверх, то оседали на черной поверхности бассейна. Бассейн позволял мне легче переносить визиты домой, но прошлым летом, которое я, кстати, провел в квартире с одним приятелем, чьи родители уехали в Европу, отец забыл наполнить его водой, а за ужином, когда все все-таки сели за стол, вскользь заметил, что фильтр не в порядке. Когда мы переехали сюда, мама поначалу плавала в бассейне каждый день с религиозным фанатизмом – сорок раз туда и обратно. Но на следующее лето она была уже так слаба после химиотерапии, что только сидела около него и болтала в воде ногами, и то если погода позволяла. В конце того лета она умерла.
Из дома доносились звуки телевизора – я увижу моих новых родственников, как только пройду через кухню. Что же, этого все равно не избежать. Я натянул джинсы, злясь, что нельзя ходить по дому в трусах, и пошел в ванную умыться. Долго брился и плескал себе в лицо водой, потом отправился на кухню. Я не хотел завтракать, только выпить чашку крепкого кофе. Вчерашний ужин поразил меня кошмарной чопорностью. Во-первых, блюд нам было подано штук сто. Во-вторых, Читра так и не села с нами за стол – она поела уже после того, как все поужинали. Так делали наши служанки в Бомбее. Теперь я ожидал, что мне приготовлена еще одна тарелка с горой индийской еды, но стол на кухне был совершенно пуст. Я прошел в гостиную – Читра и ее дочери сидели на диване и смотрели сериал по телевизору. В нашей гостиной с ее высоченным потолком и стеклянной стеной, через которую лились лучи утреннего солнца, они выглядели маленькими и какими-то бесцветными. Девочки были одеты, но Читра все еще сидела в халате с красно-желтым цветочным орнаментом. Без косметики и золотых украшений она казалась еще моложе, чем вчера. Читра пила чай из большой чашки, держа ее обеими руками. На журнальном столике рядом с ней стояла круглая жестяная коробка с маминым любимым печеньем.
– Доброе утро, – сказал я.
– Доброе утро, – откликнулись Пью и Рупа, мимолетом сверкнув на меня глазами и снова отвернувшись к телевизору.
– Сейчас я сделаю вам чай, – предложила Читра, делая попытку встать с дивана. – Я вам не приготовила. Ваш папа сказал, что обычно на каникулах вы спите очень долго.
– Да все нормально, – сказал я. – Пожалуйста, не вставайте. Я не хочу чая.
Она обращалась ко мне на бенгали, я отвечал по-английски. Я думал, что мое нечеткое американское произношение окажется непонятным для ее уха, но вроде бы она понимала все, что я говорил.
Читра нахмурилась.
– Как это – не хотите чая? – спросила она. – Вы не пьете утренний чай?
Девочки тоже повернулись ко мне, наверное, чтобы получше рассмотреть такое уникальное создание.
– Нет, просто я хочу кофе. Я люблю кофе, понимаете? Всегда пью кофе у себя в колледже. Я привык к кофе.
– Но у нас нет кофе. По крайней мере, я не нашла кофе на кухне.
– Ничего страшного, я куплю себе кофе в «Данкин Донатс». – Не успела она спросить, как я добавил: – Это место, где продают донатсы. А донатсы – это такие булочки с дыркой посередине.
– Это место далеко?
– Да нет, всего в паре минут езды.
– Езды? Туда надо ехать на машине?
Я кивнул, и она разочарованно покачала головой.
– Здесь никуда не сходить без машины?
– Вообще-то нет. А вы водите машину?
Она опять помотала головой.
– Да это не сложно. Я уверен, что вы сможете научиться.
– О нет, – сказала Читра таким тоном, будто езда на машине была ниже ее достоинства. – Я не хочу учиться.
– Ну ладно, я скоро вернусь, – сказал я. Девочки так и впились в меня своими черными глазами, и, помедлив, я спросил их: – Хотите поехать со мной?
– О да, очень, – выдохнули они одновременно и повернули головы к матери. Читра кивнула, и их как ветром сдуло с дивана.
Я пошел назад в гостевую комнату взять ключи от машины и кошелек, а когда вернулся, девочки уже стояли в холле, одетые в одинаковые красные парки, которые, видимо, купил им по приезде отец. Толстые молнии и ярко-красный нейлон курток совершенно преобразили их – теперь они выглядели как нормальные американские дети. Они залезли на заднее сиденье, пытаясь расчистить себе место среди пустых банок из-под колы, газет, книг и кассет.
– Прошу прощения за бардак, – пробормотал я, перегнувшись через них и сметая весь мусор на пол.
Я помог им застегнуть ремни безопасности, разогнулся и увидел Читру, которая стояла на крыльце, озабоченно глядя на нас. Она вверяла своих драгоценных детей мне, совершенному незнакомцу, не зная ни куда я их повезу, ни что ей делать, если мы не приедем назад. И все же она выдавила из себя улыбку. Я уже отжал сцепление, собираясь развернуться, как вдруг Читра снова высунулась из-за двери.
– А со мной все будет в порядке?
– То есть как?
– Ну, здесь безопасно оставаться дома одной?
– Ну конечно! – сказал я, понимая, что она остается в доме одна в первый раз. Я чуть не рассмеялся. – Наслаждайтесь свободой.
– Она не позволяет нам выходить из дома, – сказала Пью. – Не позволяет выходить одним.
– Она боится, потому что здесь нет соседей, – добавила Рупа.
– И она боится, что мы упадем в бассейн.
Я не знал, как реагировать на такие глупости, поэтому ничего не сказал, просто развернул машину и повел в сторону города. Ближайший «Данкин Донатс» был в пятнадцати минутах езды, но, когда мы подъехали к нему, мне показалось, что девочки еще не накатались. Да и самому мне было неохота останавливаться, поэтому мы пролетели мимо него к следующему городку, куда мы с мамой ездили на пляж, когда она чувствовала себя лучше обыкновенного. Для этого надо было выехать на шоссе, и я хорошенько разогнался на пустынной дороге, отчего мне стало немного легче. Девочки не задавали вопросов, просто смотрели каждая в свое окно и, похоже, не чувствовали дискомфорта от нашего молчаливого путешествия. Я въехал в город и свернул на дорогу, с которой была видна серая лента океана. Я указал на нее Рупе и Пью, но они ничего не ответили.
– Ну что же, мы можем или заехать на «драйв-ин», – сказал я, – или пойти внутрь. Как вам больше нравится?
– А как лучше? – спросила Рупа.
– В «драйв-ин» я возьму себе кофе, не выходя из машины, и выпью по пути домой. А можем просто зайти в кафе и посидеть там.
Рупа проголосовала за «драйв-ин», Пью – за то, чтобы зайти в кафе.
– Ну ладно, тогда сделаем так, – предложил я, – сначала давайте зайдем в кафе, а по дороге назад заедем в «драйв-ин». Идет?
Похоже, девочкам понравилось, что они смогут побывать и там и там, и они вылезли из машины и, взявшись за руки, пошли через парковку к стеклянным дверям. «Данкин Донатс» был частью торгового центра, построенного вокруг небольшой площади, служащей парковкой. Здесь был винный магазин, небольшая гостиница и еще один магазинчик, где продавали игрушки и пиротехнику. Парковка была забита машинами, видимо, предпраздничная суета уже охватила Америку. Однако в кафе было совсем пусто, лишь играла рождественская музыка, непривычная для ушей Рупы и Пью. Я заказал себе кофе и спросил девочек, что им купить. Обе встали на цыпочки, у Рупы от напряжения даже открылся рот, а язык чуть-чуть свесился набок, как у собаки. Все равно им снизу витрина была не видна, и я предложил взять Пью на руки. Когда я сказал это, она просто подняла руки кверху, чтобы мне удобнее было поднять ее, не отрывая взгляда от заветных пончиков. Она оказалась тяжелее, чем я думал, и я посадил ее на прилавок.
– А тебе какой д-о-н-а-т-с больше нравится, КД?
– «Бостонские сливки».
– Тогда я тоже такой буду.
– И я, и я, – страстно зашептала Рупа.
– Тогда дайте нам три, – сказал я девушке за прилавком.
Мы устроились за столиком у окна, я – с одной стороны стола, мои сводные сестры – с другой. Они с энтузиазмом принялись за пончики, не останавливаясь, пока не съели все до крошки. В то же время они беспрерывно болтали с набитыми ртами, обмениваясь впечатлениями, которых мне было не понять, хихикали, вертелись и подталкивали друг друга локтями. Я тоже съел свой донатс, удивляясь, насколько их рты меньше моего, насколько дольше им пришлось жевать вязкое тесто. Я смотрел на этих двух индийских девочек и думал о том, что, с одной стороны, у меня с ними нет ничего общего, но с другой – мы с ними очень похожи. Дело даже не в моем отце и не в его женитьбе на их матери. Просто они тоже не по собственной воле приехали в США в сознательном возрасте, когда невозможно не испытать шок от полной перемены образа жизни. Может быть, они не так ясно запомнят это время, как я запомнил те два ужасных месяца, что мы провели в вашем доме, но тем не менее они не забудут его. Это – во-первых. Во-вторых, они, как и я, потеряли одного из родителей и теперь вынуждены мириться с заменой, которая им, возможно, не нравится. Мне стало интересно, помнят ли они своего покойного отца, ведь, когда он умер, Пью, должно быть, было лишь около пяти лет. Даже я стал забывать маму, тысячи дней, проведенных вместе, постепенно сузились до дюжины оставшихся в памяти привычных картинок. И мне повезло больше, все-таки мама пробыла со мной почти до восемнадцати лет. Это знание смерти, пережитое сильное горе явно присутствовало в обеих сестрах, просто сложно выразить словами, в чем именно. Что-то в настороженной манере держаться? Или в молчании, в их странно-заторможенных реакциях? Они были отмечены той же печатью, что и я, хоть и не разучились смеяться.
– Ну что, понравилось? – спросил я.
Они с энтузиазмом закивали головами, а Пью вдруг сказала:
– Еще один зуб шатается. – Она открыла рот и подвигала языком крошечный нижний зуб, измазанный шоколадом.
Кофе был слишком горяч, поэтому я снял крышку с бумажного стакана и поставил его на стол остудиться. Пью смотрела в окно на снующие по парковке машины. Рупа не сводила глаз с выставленных на витрине пончиков, взгляд ее блуждал по огромным термосам с кофе прозрачным емкостям, в которых бурлил охлажденный пунш.
– Может быть, еще по одному?
Она отрицательно покачала головой, смущенно отводя взгляд. Рупа была более сдержанна в проявлении эмоций, чем ее младшая сестра.
– Я бы хотела купить один для ма.
– Да, купи вон тот, с цветными шариками наверху, – закричала Пью, вставая на колени на стуле и показывая пальцем на витрину.
– А мне нравится другой, который как будто снегом покрыт.
– Вот, возьмите доллар, – сказал я, вытягивая бумажник из заднего кармана и доставая купюру. – Купите два, или сколько вам надо.
– Нам нельзя трогать деньги, – сказала Рупа.
– Да ладно тебе! Даже если ты потеряешь этот доллар по пути к кассе – ну и фиг с ним.
– Фиг с ним? —Брови Рупы недоуменно сдвинулись.
– Ну, то есть я хотел сказать – это не важно.
Девочки вылезли из-за стола и промаршировали к прилавку, держа купюру за углы, как будто несли знамя на параде. Я сидел спиной к прилавку, но повернулся, чтобы не пропустить такое зрелище. Я увидел, как Рупа молча махнула рукой один раз, потом еще раз, а затем они с сестрой бережно положили банкноту на прилавок. Девушка-продавец завернула верх бумажного пакета и немного поколебалась, не зная, кому из девочек отдать его. В результате она так и оставила пакет на прилавке, и его забрала Рупа.
– А почему ты ничего не сказала? – спросил я, когда раскрасневшиеся от пережитого приключения сестры вернулись к столу.
Рупа протянула мне сдачу и взглянула исподлобья.
– А разве я что-то сделала не так?
– Ну, ты могла бы сказать продавщице, какие именно донатсы ты хочешь купить, а не просто тыкать в них пальцем. Это, знаешь ли, не очень прилично. И ты могла бы поблагодарить ее. А для начала не мешало бы и поздороваться.
Рупа покраснела и опустила глаза.
– Извини.
– Да ладно, не извиняйся. Я просто что хочу сказать – не надо стесняться, старайтесь как можно больше разговаривать по-английски. Ведь чем больше вы будете говорить на этом языке, тем быстрее привыкнете, верно? Вы и сейчас хорошо говорите по-английски.
– Не так, как ты, – сказала Рупа. – Надо мной будут смеяться в школе.
– Я боюсь идти в школу, – сказала вдруг Пью тоненьким голосом и закрыла глаза ладонями.
По правде говоря, у меня не было ни малейшего желания возиться с этими девчонками, но тут я действительно их немного пожалел.
– Слушайте, – сказал я, – я ведь знаю, каково вам сейчас. Ну, допустим, кто-то и посмеется в первые дни, ну и что? Наплевать! Надо мной тоже смеялись. А я приехал сюда, когда мне было уже шестнадцать, всю жизнь пришлось перестраивать из-за этого. Правда, я здесь родился, но все равно, когда я вернулся сюда, я уже ничего не помнил из прежней жизни.
– Это было, когда умерла твоя мама? – спросила Пью. Она произнесла эту фразу с благоговейной грустью, как будто знала маму, а может быть, любая смерть вызывала у нее такие чувства, не знаю.
Я кивнул.
– А какая она была?
– Она была… Она была моей мамой, что еще сказать?
Вопрос застал меня врасплох. Внезапно я почувствовал, что эти девочки, с которыми я и знаком-то толком не был, видят меня насквозь и понимают лучше, чем многие из моих друзей по колледжу. Да, четыре года назад я мог бы сидеть в этом кафе с мамой после одной из наших пляжных прогулок. Она бы куталась в платок, прихлебывала маленькими глотками чай и жаловалась, что он совершенно безвкусный.
– У тебя есть ее фотография? – спросила Рупа. На секунду ее глаза встретились с моими.
– Нет, – солгал я, не желая показывать им ту единственную фотографию мамы, что я всегда носил с собой в бумажнике. Она была сделана много лет назад на вечеринке в Бомбее, с такого расстояния, что мамино лицо было не слишком-то видно. После ее смерти я обрезал фотографию по размеру и вложил в бумажник, но за три с половиной года так ни разу и не взглянул на нее.
– А почему у вас дома нет ее фотографий? – спросила Рупа.
– Отец не хочет.
– Ма искала их, – задумчиво сказала Пью, – так долго искала. Она везде искала, везде, но так и не смогла найти.
Когда мы подъехали к дому, Читра сидела на подоконнике и высматривала мою машину. Лицо ее было встревоженным, но она не спросила, почему мы так задержались. Пью и Рупа наперегонки бросились к ней, как будто не видели ее много дней, тряся перед ее носом пакетом с донатсами и наперебой рассказывая, как мы здорово прокатились, и какой я был добрый, и как они сами заплатили за покупки. Было очевидно, что девочки от меня в восторге, и из-за отношения дочерей Читра, похоже, тоже решила сделать все возможное, чтобы полюбить меня. Но я устал от их компании, мне хотелось побыть одному, а расположение дома было таковым, что в нем практически невозможно было ни слушать музыку, ни смотреть телевизор в одиночестве. Пришлось ретироваться назад в гостевую спальню, и я уселся на пол, листая «Глоуб» и поглядывая сквозь стеклянную дверь на бассейн. Потом я переоделся и с удовольствием пробежал пять миль по холодным, ветреным дорогам. Когда я вернулся, Читра с дочками уже ели обильный бенгальский обед, склонившись над тарелками с даломи остатками вчерашнего ужина. Я отклонил приглашение Читры присоединиться к ним, размотал телефонный шнур, внес аппарат к себе в комнату и позвонил Джессике.
– Приезжай ко мне, хочешь? – предложила она.
И я действительно с удовольствием так и сделал бы, но я не мог вот так взять и уехать из дома. Тогда не мог. Когда я вернул телефон на место в прихожей, в гостиной никого не было, и я понял, что все они поднялись наверх, чтобы поспать после обеда, – истинно индийская черта. Наконец-то в моем распоряжении была вся гостиная. Я растянулся на диване, включил телевизор и сам не заметил, как тоже уснул. Когда я проснулся, они были внизу, сидели рядом со мной, но вели себя так, как будто меня в комнате не было. За окном темнело, высокий изогнутый торшер освещал журнальный столик, в телевизоре бубнило очередное ток-шоу. Читра расчесала девочкам волосы, заново заплела им косы, потом занялась своими волосами. Она распустила их по плечам – тяжелую, блестящую массу, доходящую ей до пояса, и прочесывала ее пальцами, распутывая колтуны. Вид ее волос вызвал у меня волну отвращения, мне сразу вспомнилось, как мамины волосы вылезали клочьями после химиотерапии и как ей пришлось носить тот ужасный парик, который она не снимала до последнего дня, и как этот парик под конец выглядел более здоровым, чем ее тело.
Рупа села на стул за спиной Читры и стала массировать голову матери, изредка выдергивая седые волоски, а Читра запрокинула голову назад и закрыла глаза.
Я понял, что так они обычно проводят свободное время, как обезьяны, что вычесывают друг у друга блох. И я лежал на диване и наблюдал за ними, представляя себе, как волосы Читры в один прекрасный день поседеют, как она состарится рядом с моим отцом так, как должна была состариться мама. Эта мысль напомнила мне, за что я так сильно ненавижу эту женщину, и в этот момент Читра подняла веки и встретилась со мной глазами. Она даже подскочила, когда увидела, что я смотрю на нее, быстро собрала волосы в кулак, поднялась и вышла на кухню, а через несколько минут вернулась, неся на подносе чайник и чашки с какао. В вазочки она насыпала по крайней мере два вида чаначура,а на маленькую тарелку положила разрезанный на четыре части донатс.
– Ну а теперь вы выпьете с нами чая? – спросила она.
Я согласился, поднял с подноса уже наполненную чашку – конечно, она насыпала туда слишком много сахара и налила подогретое молоко.
– Этот чаначуриз Халдирама, – сказала Читра, передавая мне вазочку. – Лучший в Калькутте.
– Нет, спасибо.
– В комнате так холодно, – сказала она. – Дует из окон. Почему у вас нет занавесок?
– Потому что из-за занавесок не было бы видно прекрасного пейзажа.
– И ступеньки такие скользкие. – Читра показала рукой на изящную лестницу, ведущую на второй этаж. – И перил нет. Я боюсь, что Рупа и Пью упадут.
Я повернулся и посмотрел на толстые, тяжелые ступени, прикрепленные прямо к стене и напоминающие подвешенные полки, на воздушную конструкцию, как будто летящую вверх. Мама до последних дней поднималась и спускалась по этой лестнице без единой жалобы. Чего хочет от меня эта женщина?
– Почему нет перил? – спросила Читра.
– Потому что так нам больше нравилось, – отвечал я, стараясь говорить спокойно. – Потому что так красивее.






