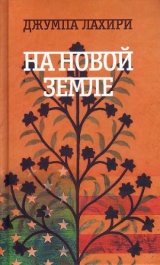
Текст книги "На новой земле"
Автор книги: Джумпа Лахири
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Больше нам нечего было сказать друг другу. Мы сели перед телевизором и стали смотреть идиотскую программу, Читра что-то вязала крючком, а я думал, как мне пережить еще четыре недели в ее обществе. Мы все ждали моего отца, ждали, чтобы он объяснил нам, пусть даже самим фактом своего присутствия, почему мы должны сидеть в одной гостиной и вместе пить чай? Наконец отец приехал и с порога попросил меня помочь, оказывается, он купил елку, и теперь ему было не развязать веревки. Я был рад выскочить на холод в одном свитере и без перчаток, иголки кололи мне пальцы, ледяной ветер обжигал лицо. Мы втащили елку в дом и прислонили к стене в углу гостиной, рядом с камином. Читра и девочки собрались вокруг, рассматривая елку.
– Но ведь у вас полно таких деревьев снаружи, – нерешительно сказала Читра, указывая рукой на окно.
– Нет, там другие, – терпеливо объяснил я. – Там растут сосны, а это ель.
Отец сказал, что где-то в подвале хранится коробка с елочными украшениями и гирляндами, оставшимися с первой зимы, когда мы еще праздновали Рождество вместе с мамой, и я удивился, что он не выбросил ее. Отец попросил меня спуститься вниз и поискать коробку. В подвале не было обычного беспорядка – мы слишком недолго жили в доме как полноценная семья, а все оставшиеся годы мама была мертва, а я находился в колледже. Все же в одном углу громоздилась пирамида коробок: пустые коробки из-под телевизора и стереоцентра и другие, заклеенные скотчем, явно привезенные из Бомбея и так и забытые за ненадобностью.
Я вытащил ключи от машины и использовал острый конец ключа, чтобы поддевать липкий скотч.
В одной коробке я обнаружил старые книги отца по инженерному делу, в другой – наш старинный сервиз, упакованный в газеты, белый, с орнаментом из оранжевых шестиугольников по краю тарелок. Я нашел лупу, пинцет, набор подносов и запечатанные бутылки с фиксажем, оставшиеся с тех дней, когда я начал увлекаться фотографией. Иногда мама приходила ко мне в темную комнату и тихонько сидела рядом, пока я проявлял пленки и печатал черно-белые фотографии. Мы вместе вдыхали запахи химических реактивов, кисловатые, резкие, и я думал, что могу защитить от них свои руки, в то время как ее бедное тело совершенно беззащитно перед болезнью. Она отслеживала вместе со мной время, требующееся для проявки, и даже подсказывала, когда наступала пора вытащить пинцетом кусочек бумаги из одной ванночки, чтобы прополоскать в другой. Мы оба знали, что надо купить таймср.
– Вот так я это себе и представляю, – произнесла она однажды задумчиво, сидя в идеально тихой, замкнутой и непрозрачной черноте маленькой комнатки. Я сразу понял, что она имела в виду, – что так она представляет себе смерть. – По крайней мере, я хочу, чтобы она выглядела именно так.
Коробка, которую я искал, называлась «Р-ство» и была подписана маминой рукой сбоку, а не сверху, так что я с трудом разглядел надпись. У меня не было сентиментальных воспоминаний о старых елочных игрушках, но я внезапно понял, что не хочу видеть, как Читра дотрагивается до них, достаточно того, что она трогала чайник, ложки и тарелки, что пользовалась телефоном, когда звонила отцу. Когда мама умерла, отец спрятал или выбросил так много ее вещей, что я даже упрекал его в том, что дом приобрел слишком безликий вид. В ту минуту я пожалел, что он не спрятал все.
– Я не нашел их, – сообщил я, возвращаясь в гостиную.
Отец ничего не сказал, не предложил пойти самому поискать. Рядом с Читрой он вел себя иначе, не раздражался по пустякам, даже не хмурился. Я предложил съездить в ближайший магазин и купить елочных игрушек, довольный, что у меня есть еще один повод выйти из дома. Когда я вернулся, мы с отцом установили елку, а Читра с девочками наблюдали за нами с дивана. Мы разложили по ветвям гирлянды из разноцветных огоньков, и я украсил елку. Я купил самые простые украшения – коробку ярко-синих шаров с серебристой отделкой, серебряный «дождик», но девочки пришли в полный восторг и заявили, что никогда в жизни не видели ничего красивее. Отец ушел наверх и вернулся нагруженный свертками, упакованными в одинаковую зеленую с золотом бумагу и перевязанными красными лентами – наверняка купил их все в одном магазине.
– Ну вот, здесь по два подарка на каждого, – сказал он всем нам. Рупа и Пью подошли к елке и осмотрели свертки, пораженные, что на них надписаны их имена.
– А можно сейчас развернуть? – спросила Пью Читру, как будто та могла знать ответ.
– Нет, до утра после Рождества разворачивать запрещается, – сказал я. – Можно только смотреть. Ну а если совсем невтерпеж – легонько потрясти.
– Как мило, – сказала Читра, наконец-то до нее дошло, что рождественская елка – красивое зрелище.
– Каушик, может быть, сфотографируешь нас? – предложил отец.
Я покачал головой. Я не взял с собой фотоаппарат, ту старую «яшику», которую когда-то купил мне отец.
– Но ты же всегда возил его с собой! – Гримаса раздражения, которая появилась после маминой смерти и исчезла с появлением Читры, вновь промелькнула на его лице.
– Я забыл взять его, – сказал я. Я действительно всегда привозил с собой свой старенький фотоаппарат, даже когда мы с отцом не планировали выходить на улицу вообще, но в этот раз я точно знал, что мне не захочется документировать происходящее.
– Я не понимаю тебя, – беспомощно произнес отец.
– Я тоже, – сказал я. – Ты не хотел фотографироваться уже сто лет как.
– Это неправда.
– Нет, это правда.
Мы говорили спокойно, как будто приводили друг другу факты, но на самом деле это был жаркий спор, глубину которого могли понять только мы с отцом. Я вышел на кухню, чтобы налить себе виски, и принес его в гостиную, а через несколько минут Читра объявила, что ужин готов. Во время еды все молчали, а когда мы поели, Читра собрала тарелки и унесла их на кухню, как и прошлым вечером, чтобы мы с отцом могли спокойно посидеть после ужина. В последние годы маминой жизни мы не могли позволить себе вот так сидеть и беседовать – ведь тогда споласкивать тарелки и загружать посудомойку входило в наши обязанности. Я уселся на диван, потягивая виски, а Рупа и Пью сели чуть в стороне от меня и снова уставились в телевизор. Отец сел в кресло и раскрыл газету – я увидел, что он открыл страницу с рекламой фотоаппаратов и, вооружившись красным фломастером, начал отмечать понравившиеся ему объявления.
Через два дня наступил канун Рождества, отец не пошел на работу и предложил нам всем вместе проехаться по центру Бостона, чтобы показать Читре город. Я не успел придумать никакой отмазки, поэтому мне тоже пришлось поехать. Я сел на заднее сиденье между девочками, почему-то ужасно взволнованный – такая короткая и вроде бы незначительная поездка показалась мне вдруг исполненной глубокого смысла. В последние два года маминой жизни все наши путешествия свелись к поездкам в больницу и обратно, только временами я вывозил ее на пляж. Последним подобием семейного отдыха стала наша короткая остановка в Риме, а Бостон я так толком и не видел – сначала машины не было, а потом стало не до этого.
Отец начал экскурсию с Кембриджа, чтобы мы могли осмотреть Гарвард и Технологический институт, и Читра спросила, почему я не пошел в один из местных колледжей. Я проигнорировал ее вопрос, так же как игнорировал все предыдущие, но отец сказал:
– Он хотел уехать подальше от дома.
Я думал, что мы будем выходить из машины и гулять, осматривая достопримечательности, но Читра сказала, что ей холодно, и отец согласился с этим. Мы несколько раз объехали вокруг Кендалл-сквер, переехали через мост Масс-авеню и повернули на Коммонвелт-авеню, украшенную лампочками и светящимися венками, а затем прокатились вокруг городского сада. Отец показал Читре золотой купол Капитолия и чудесные дома, выстроенные вдоль узких, уходящих вверх улочек Бикон-хилл. За домами находилась Массачусетская клиническая больница, куда мы с отцом так часто ездили последние месяцы перед маминой смертью. А однажды утром нас разбудил телефонный звонок, и мы сразу же помчались в больницу, приехали туда с первыми лучами солнца, когда рассвет только пробивался сквозь тучи, постепенно окрашивая небо в оранжевый цвет. Мама выглядела в точности так же, как и накануне вечером, только в комнате было совершенно тихо – все приборы были отсоединены от ее тела и выключены. Ввалившиеся глаза ее были закрыты, а щека на ощупь была прохладной, как будто она только что вернулась в комнату с холодной улицы. Но в тот момент, когда я взглянул на окна больницы, отец сказал Читре:
– А вот тут живут богатенькие американские брахманы, – и засмеялся своей шутке, а Читра повернулась к нему и улыбнулась так, что я увидел, как сильно она влюблена в него.
На Рождество отец подарил мне свитер и рубашку, а чуть позже выдал конверт с десятью стодолларовыми купюрами.
– Бери, пригодятся, – сказал он мне, когда я стал возражать, что он дает слишком много.
Мой отец также заказал гостиницу в Диснейленде на пять дней – это был его подарок девочкам в дополнение к игрушкам, которые они нашли под деревом.
– Хочешь, поехали с нами! – предложил отец рождественским утром, когда мы завтракали, но я отказался, придумал, что мне надо готовиться к зимней сессии. Мой отец не уговаривал меня, но Рупа и Пью страшно расстроились.
– Ну почему ты не хочешь поехать, КД? Ну почему? – приставали они ко мне.
Тут я признался, что вообще ни разу не был в Диснейленде, чем привел девочек в полное замешательство. Конечно, я понимал, что был нужен им в качестве провожатого и старшего брата, да и я тоже нуждался в них – особенно теперь, когда я видел, что отец и Читра влюблены друг в друга. Мое присутствие, по крайней мере косвенно, доказывало существование моей матери, как присутствие девочек доказывало, что и у них когда-то был отец.
– А вам не будет скучно остаться одному в этом доме? – спросила меня Читра, но мне казалось, что она, как и отец, была скорее обрадована, чем опечалена моим решением. Конечно, заниматься я и не собирался, я просто до смерти хотел побыть один.
Когда стало ясно, что вскоре я, хоть и не надолго, избавлюсь от их тоскливой компании, я почувствовал большее расположение к девочкам и сводил их в Музей естественной истории, а на следующий день – в Аквариум. Оба раза они вели себя безупречно, не хныкали, не капризничали, с интересом разглядывали все экспонаты, а когда я купил им в подарок по дешевому резиновому осьминогу, чуть не завизжали от счастья. После музея мы пошли съесть мороженого в кафе на Гарвард-сквер, а я зашел купить пластинку к «Херрелу», и тут Пью обнаружила, что у нее выпал зуб. Крошечный зубик застрял в хрустящем вафельном конусе, и я вытер кровь с ее губ, завернул зуб в салфетку и положил в карман, а по дороге домой рассказал им про зубную фею. И в тот момент, хоть мне был только двадцать один год, я подумал, что, наверное, неплохо иметь детей, особенно если они будут такие же милые, как эта Пью. Я не сердился, что девочки стали называть отца «дэдди», на американский манер. Они никогда не вспоминали своего отца, но однажды ночью я проснулся от криков Пью, которая, не в силах освободиться от ночного кошмара, жалобно звала «Баба! Баба!».
За несколько дней до Нового года отца и Читру пригласили на праздник в дом одного из друзей моих родителей. Отец появился на лестнице элегантный как всегда, только теперь у его левого плеча стояла Читра. Она осторожно спускалась вниз в красивом темно-зеленом сари и гранатовом ожерелье, а отец шел следом, а потом встал рядом – теперь он постоянно стоял рядом с ней – аккуратно причесанный, в твидовом пиджаке, которого я не видел на нем уже лет сто. Меня на вечеринку не пригласили, но девочки собирались ехать. Они нарядились в одинаковые красно-черные клетчатые платья, а волосы скрепили черными бархатными обручами. Но в последнюю минуту, когда отец Читрой уже надевали пальто, Рупа вдруг повернулась к матери и спросила:
– А можно мы останемся дома?
– Конечно нет, – отрезала Читра. – Это будет очень невежливо.
– Но ведь КД не едет?
– Вообще-то им наверняка там будет скучно, – сказал отец. – Не думаю, что там вообще будут дети их возраста.
– Но ведь я не приготовила им ужин, – возразила Читра. – Они ничего не ели.
– А мы закажем пиццу, – сказал я и подмигнул с дивана Руле и Пью. – Устроим здесь свою вечеринку.
Девочки от восторга захлопали в ладоши. Читра велела мне уложить их спать не позже девяти вечера, а потом они с отцом застегнули пальто и отправились веселиться. В первый раз в жизни они вышли куда-то вдвоем – думаю, я оказал им гораздо большую услугу, чем Рупе и Пью. Девочки сняли выходные туфли и как были, в колготках и нарядных платьях, уселись перед телевизором. Мы быстро прикончили пакет чипсов, передавая его по кругу, а потом я позвонил в пиццерию, сделал заказ и встал, чтобы поехать и забрать его. Рупа и Пью уставились на меня круглыми глазами.
– Ты куда? – спросила Рупа.
– Забрать наш ужин.
– Ты что, оставишь нас в доме одних?
– Господи, да это же на десять минут. Не успеете оглянуться, как я уже вернусь.
Они ничего не сказали, но так побледнели, что мне стало их жалко. Я разозлился на Читру – зачем она пугает детей?
– Ладно, поехали вместе, если хотите.
В результате мы съели нашу пиццу прямо в ресторане. Я выпил пива, выкурил несколько сигарет, а Рупа и Пью, делая друг другу большие глаза, пили колу через соломинку из высоких бокалов. Они опять начали приставать ко мне, чтобы я поехал в Диснейленд, и я сказал, что подумаю, просто чтобы они оставили меня в покое. Это расплывчатое обещание совершенно их успокоило. Когда мы вошли в дом, зазвонил телефон. Звонила Джессика, так что я налил себе виски и забрал телефон в гостевую комнату. Я рассказал Джессике об отцовских планах, и она тут же предложила приехать ко мне, пока дома никого не будет. Я скучал по ней, думал о ней и желал ее, но не мог представить ее в родительском доме. Я, конечно, не сказал ей этого, но она почувствовала, что я не спешу ее приглашать, и мы впервые поссорились. Странный разговор у нас получился, полный туманных намеков и обиженных пауз, он вымотал меня, так что в конце концов я сказал ей то же самое, что и девочкам: «Я подумаю» и повесил трубку.
Когда я вышел на кухню, чтобы налить себе еще виски, я увидел, что Рупы и Пью нет в гостиной, хотя я оставил их там перед телевизором. Я окликнул их, но они не отзывались, и тогда я пошел наверх, в свою бывшую комнату. Я посмотрел на часы – было уже около десяти вечера, и в комнате было тихо, так что я даже подумал, что они легли спать. Я приоткрыл дверь и в первый раз со времени моего приезда заглянул внутрь. Свет горел, моя кровать стояла на том же месте, что и раньше, но теперь к ней вплотную был придвинут низкий диванчик, служащий спальным местом второй из девочек. Они не тронули мои постеры «Роллинг Стоунз» и Джимми Хендрикса – даже знаменитая фотография Пола Стрэнда «Слепая» [15], которую я когда-то вырвал из журнала, так и висела в углу. Раздвижная дверца в стенной шкаф была открыта, а рядом с ней стояла табуретка, как будто девочки лазали туда. Я не увидел практически никаких следов пребывания в комнате Рупы и Пью – за исключением стопки игрушек, аккуратно сложенных в углу, да приставного дивана, комната выглядела точно так же, как когда я в ней жил. Девочки сидели на полу спиной ко мне, согнувшись над темно-серым ковровым покрытием пола, и рассматривали что-то, чего я не мог видеть от двери.
– Ой, посмотри, а здесь она такая грустная! – прошептала на бенгали Пью, а Рупа сказала:
– Видишь? У них с КД одинаковая улыбка.
– Что вы тут делаете? – спросил я, пытаясь прочистить пересохшее горло.
Услышав мой голос, они отскочили друг от друга, и тогда я увидел на полу, на сером ковре, разложенную, как карты в пасьянсе, дюжину маминых фотографий, видимо вытащенных из коробки, которую мой отец спрятал после ее смерти. Даже издалека мне было непереносимо видеть запретные изображения: мама в купальнике около бассейна в нашем клубе в Бомбее, мама держит меня на коленях, сидя на бурых ступенях старого дома в Кембридже, мама с папой, совсем юные, играют в снежки около заснеженной изгороди.
– Какого растреклятого черта вы тут делаете? – спросил я.
Рупа взглянула на меня круглыми от ужаса глазами, а Пью сразу заплакала. Я вошел в комнату, собрал фотографии, одну за другой, и положил их на комод лицевой стороной вниз. Затем я подошел к Рупе, скорчившейся от страха на полу, схватил ее за хрупкие плечи и несколько раз сильно встряхнул. Ее тело обмякло, тонкие ноги в дурацких черных колготках стучали по ковру. Я тряс ее изо всех сил, я хотел швырнуть ее об стену, но вместо этого подвел к дивану и заставил сесть.
– Где вы это нашли, а? – спросил я грозно, наклоняясь близко к ее лицу.
Теперь и Рупа заплакала и показала пальцем на стенной шкаф. Я направился к шкафу, но Пью, все еще всхлипывающая на ковре, сказала:
– Ее там больше нет!
Она на четвереньках подползла к дивану, на котором сидела ее сестра, и вытащила из-под него черную коробку из-под обуви, обтрепанную по краям в тех местах, где скотч оторвали вместе с верхним слоем картона. Теперь я ухватил Пью, оттащил ее как можно дальше от коробки, как будто она могла испачкать фотографии, и отшвырнул ее в сторону.
– Как вы посмели… как вы смеете смотреть на нее? – выдохнул я. – Это не ваше, вы понимаете?
Они могли только кивать, Рупа вся тряслась, как от холода, а Пью крепко сжала губы. Слезы текли по их лицам, но я продолжал произносить слова, которые нельзя было говорить вслух, нельзя было даже думать.
– Ну что, теперь вы довольны? – сказал я. – Теперь вы сами увидели, как красива была моя мама. Да, она была веселая, образованная и милая, не то что ваша. Ваша мать – ничто по сравнению с моей, просто служанка, способная лишь готовить моему отцу обед и стирать его носки. Теперь вы поняли это? Она здесь только для этого, и вы тоже.
Девочки больше не плакали, сидели, опустив блестящие черноволосые головы, глядя в ковер, не двигаясь и не говоря ни слова. Я собрал мамины снимки, положил их в коробку и вышел из комнаты, захватив ее с собой. Мне надо было увезти мамино лицо как можно дальше от этого дома. Я вернулся в гостевую комнату, торопливо зашвырнул свои вещи в рюкзак и бросился к машине, повторяя себе, что отец с Читрой вернутся домой уже очень скоро. Я не обдумывал свои поступки – скорее, действовал по наитию, заставляющему меня спасать маму от уродливой правды жизни, но, наверное, подсознательно я понимал, что уезжаю надолго. Рупа и Пью так и не вышли из комнаты, не спросили, куда я еду, а когда я завел машину, не выбежали на улицу, умоляя не оставлять их в доме одних.
Я не представлял, куда мне ехать, но каким-то образом оказался на шоссе, ведущем в северном направлении. Очень быстро я пересек границу штата Массачусетс, проехал по небольшому отрезку НьюТэмпшира и по высокому мосту въехал в Мэн. Приближаясь к Портленду, я свернул на более узкую дорогу в две полосы, которая время от времени приближалась к морю. Пустынные, темные участки дороги временами прерывались поселками: силуэты церквей, мерцающие вывески ресторанов, кое-где – освещенные окна домов. Я не видел океана, но знал, что он где-то рядом: даже сквозь закрытые окна машины внутрь врывался его соленый запах, а порывы ветра завывали так, что казалось – где-то бушует пожар. Сначала я хотел ехать всю ночь, но к утру глаза мои стали слипаться, и я понял, что пора искать место для ночлега. Сделать это оказалось не так-то просто: большинство отелей и мотелей закрывались на зиму, а те, что не закрылись, не работали по причине позднего времени. Я уже подумал припарковаться где-нибудь на обочине и вздремнуть часок, но тут впереди мелькнула вывеска круглосуточного мотеля.
На следующее утро меня разбудил крик чаек. Я сел на старой кровати с продавленным матрасом, спустил ноги на пол и взглянул в маленькое, похожее на иллюминатор окно – я еще подумал тогда, что сам мотель напоминает корабль – океан находился всего в нескольких шагах. Вода была вся покрыта мелкой рябью, серая, неприветливая, немного темнее затянутого тучами неба, – мне показалось удивительным, что океан всю ночь плескался рядом со мной, я и не подозревал об этом. Комната оставляла желать лучшего – сырая и полутемная, белые с синими якорями обои кое-где отклеились, пустой шкафчик в ванной по краям покрылся ржавчиной. Дежурный администратор сообщил мне, что ресторан находится в нескольких милях дальше по шоссе и что я доехал до залива Пенобскот-Бей.
После завтрака я пошел гулять по маленькому городку, дошел до пристани, рассматривая пустые дома, которые заполнятся отдыхающими только летом. Большую часть времени я провел в мотеле – сидел в кресле, глядя на океан, потом спустился в бар и пил там до вечера. Я чувствовал себя ужасно – как из-за неумеренного потребления алкоголя, так и из-за того, что я наделал. Мне было стыдно за себя и немного страшно, что я мог превратиться в такое чудовище. Перед глазами стояли опущенные головы девочек, их скорченные от ужаса тела – им пришлось выслушать слова, которые я побоялся произнести в лицо отцу и Читре. Я оставил их в доме одних, хотя они до смерти этого боялись. Я представлял себе, как расстроен был, наверное, отец, когда вернулся домой и не застал меня там. Наверное, Рупа и Пью все ему рассказали – сделали за меня всю черную работу, так сказать. Почему я так обидел их? Разве они были в чем-то виноваты? Я знал, что я не смогу загладить перед ними свою вину, что теперь, что бы я ни сделал, сказанные мной слова всегда будут стоять между нами.
Ближе к вечеру я нашел телефон-автомат и позвонил отцу на работу.
– Да, сын, я знаю, что тебе нелегко, знаю, что ты недоволен новой ситуацией, – сдержанным тоном сказал отец, как будто и мое исчезновение не слишком удивило его. – Но почему же ты не дождался утра? Почему даже не попрощался? Это как-то некрасиво, сынок.
Я не стал ничего объяснять – да и что я мог сказать? Вместо этого я спросил, как себя чувствуют девочки.
– Они спали, когда мы вернулись, – сказал отец, – так что, наверное, даже не заметили твоего отъезда. Но зачем ты же оставил их в доме одних, да еще в такое позднее время? Читра очень переживала. Ей показалось, что она обидела тебя чем-то, поэтому ты и сбежал. Не сердись на нее, сын. Она старается, как может.
Тогда я понял, что девочки ничего им не рассказали. Читра не знала, что я орал на ее дочерей, что я тряс их и швырял на пол, что я напугал их до полусмерти.
– Через два дня мы уезжаем во Флориду, – произнес отец. – Ты вернешься до нашего отъезда?
– Не думаю.
– А в колледж ты успеешь вернуться?
– Да.
– Что же, поговорим через несколько недель.
Он повесил трубку, даже не спросив меня, что я намерен делать.
На следующее утро я опять сел в машину и снова поехал куда глаза глядят. Так я провел все каникулы: колесил по дорогам, тянущимся вдоль побережья, не зная ни куда я еду, ни зачем. Да это было не важно. Когда я хотел есть, поблизости всегда находилась какая-нибудь забегаловка, а если я уставал, то брал комнату в мотеле. Деньги у меня были – та тысяча долларов, что отец подарил мне на Рождество. На заправке служащий сказал мне, что если я буду и дальше ехать в этом направлении, то вскоре достигну канадской границы. Иногда дорога приближалась к океану – я видел небольшие острова, полосатые маяки, крошечные мысы, выступающие над поверхностью моря. Стоял жуткий холод, так что вылезать из машины не хотелось, но иногда я все-таки предпринимал попытки исследовать побережье. Оно совсем не походило на привычный для меня пейзаж Северного берега. Даже небо было другим – бесцветное, низкое, угрожающее, готовое в любой момент прорваться снеговой бурей. Оно не прощало ошибок, в нем не было ни капли жалости. Но, пожалуй, самой суровой, неумолимой частью пейзажа был океан. Вода – темная, почти черная, холодная настолько, что даже минутное погружение в нее грозило смертью, – набрасывалась на берег с яростью первобытного зверя. Огромные волны методично обрушивались на лишенные песка пляжи. Чем дальше я ехал, тем более суровым становился пейзаж, но, видимо, именно из-за этого он притягивал и завораживал меня – чувство, которого я уже очень давно не испытывал.
Большинство рыбачьих домов пустовало, опрокинутые лодки стояли на берегу, сети были убраны под крыши домов. Иногда я жалел, что не взял с собой фотоаппарат, – столько получилось бы прекрасных снимков, – но от того периода у меня не осталось никаких документальных свидетельств. Еда в основном была отстойной – однако, когда я вспоминаю те дни, у меня до сих пор текут слюнки при мысли о чудовищно жирных яичницах, жидком, но горьком тепловатом кофе и размякших вафлях, утонувших в кленовом сиропе. Та еда полностью соответствовала обстановке, и ничего другого мне не требовалось. Бары – единственное место, где встречались признаки жизни, – напоминали комнаты частных домов: вместо пепельниц на столах стояли половинки морских раковин, а на стенах висели старые сети. Мне нечего было сказать угрюмым рыбакам с лицами наполовину заросшими бородой и с желтыми от никотина пальцами, да и они не проявляли по отношению ко мне никаких эмоций – ни дружеских, ни враждебных. Я понимал, что выделяюсь из общей массы, но это мне не мешало – я ни с кем не разговаривал, смотрел телевизор, как все, заказывал виски, как все. До этого раза я никогда не путешествовал в одиночку, и теперь понял, что мне это нравится. Мне не хотелось ни с кем общаться, и никто в мире не знал, где я нахожусь. Это немного напоминало мне смерть или жизнь после смерти и немного приближало меня к непостижимому искусству полного и безвозвратного исчезновения, которое обрела моя мама.
Пять дней я ехал в сторону Канады, пока не достиг границы, а потом повернул обратно. Я потратил все отцовские деньги до последнего пенни. В какой-то из дней настал Новый год – я заметил это только потому, что одном из баров мне налили бесплатную порцию виски. Я почему-то был уверен, что мама оценила бы суровую красоту этого края. Если бы она побывала здесь, то уговорила бы отца купить одну из рыбачьих хижин на берегу – их были здесь сотни, а многие стояли на островах довольно далеко от берега. Во всех барах валялись проспекты с предложениями о продаже – от ветхих развалюх до трехэтажных коттеджей. Как жаль, подумал я, что мы не купили дом в этой местности, когда вернулись из Бомбея. Вот здесь я чувствовал бы себя полностью в своей тарелке. В эти дни я почему-то вспомнил тебя и те недели, что мы провели в доме твоих родителей.
Наверное, в то время ты была уже студенткой колледжа, но я представлял тебя маленькой девочкой, чуть старше Рупы. Я вспомнил, что однажды в лесу я тоже сказал тебе что-то, что заставило тебя залиться слезами. Может быть, я обидел тебя так же, как обидел Рупу и Пью? Не знаю. Я ненавидел каждый час, каждую минуту пребывания в твоем доме, и тем не менее в те дни я вспоминал об этом периоде с ностальгией. Этот дом был последним местом, где мы еще чувствовали себя полноценной семьей. Даже то, что мы притворялись, что мама не больна, давало нам туманную надежду, что она будет жить и дальше. Когда мы переехали в новый дом, все мгновенно изменилось. Оттуда мы могли звонить врачам, не стесняясь, что нас услышат, и постепенно пузырьки с лекарствами, шприцы и прочие свидетельства маминой болезни неумолимо вползли в наш дом и заполнили его до самого последнего уголка. Несмотря на все усилия, которые мама потратила на обустройство дома, и на все отцовские деньги, мы так и не смогли как следует обжить его. Просто не успели. И мы не были счастливы в том доме – он был для нас просто тем местом, откуда моя мама готовилась совершить последний переход в место, откуда не возвращаются.
В один из дней недалеко от канадской границы я набрел на изумительно красивый пляж около залива Бей-ов-Фанди. По дороге я видел указатель, на котором прочитал, что нахожусь в самой восточной точке национального заповедника. Идти до пляжа было нелегко, ноги проваливались в глубокий снег, а по бокам узкой тропы стояли огромные сосны, их нижние ветки запорошены снегом. Ледяной ветер, как обычно, рвал хвою с сосен и острыми иглами впивался мне в лицо, но к тому времени я уже привык к выходкам этой дикой природы. Океан тоже бушевал – я долго смотрел, как волны накатывали на острые выступы утесов, с грохотом обрушивались на них, разбиваясь на миллионы мелких брызг, взметая в воздух клочья белой пены, а затем, ворча, отползали назад. Этот бесконечный круговорот воды успокоил меня до такой степени, что, несмотря на холод, мне не хотелось уходить с берега. На следующий день я вернулся на то же место, неся под мышкой коробку с мамиными фотографиями. Я сел прямо на замерзшую землю и открыл коробку. Я стал перебирать фотографии, как будто проверял почту на своем компьютере и как будто это были письма, чтение которых я откладывал на потом. Но их было слишком много, этих фотографий, и через пару минут я понял, что не смогу досмотреть все до конца. А что, если я слегка разожму пальцы и позволю им улететь в небо? Ветер пронесет кусочки бумаги над океаном, и они тихонько лягут на его поверхность, как когда-то лег мамин пепел? Но я понял, что и этот вариант мне не подходит – слишком сильно заболел живот в ответ на эту мысль, и тогда я закрыл коробку и решил похоронить ее прямо на берегу моря. Я нашел острый камень и начал раскапывать замерзшую почву. Я долго бил, колотил и царапал землю и в конце концов сумел продолбить в ней углубление, достаточное для того, чтобы поставить в него коробку. Я засыпал ее камнями и выкопанной землей. Когда я закончил, день давно погас и на небе светила луна – светила мне, когда я шел назад к машине.
Через несколько недель после окончания колледжа отец позвонил мне, чтобы сказать, что они с Читрой решили продать дом и переехать куда-нибудь поближе к центру. Читра хотела общаться с бенгальцами, которых в Бостоне жило предостаточно, к тому же ей нужно было ходить по магазинам, и для нее это было важнее всей модернистской архитектуры вместе взятой. Я не приезжал к отцу в его новое жилище – в те дни я собирался в путешествие по Южной Америке. Никто так и не узнал, что произошло в то Рождество, – девочки по-прежнему хранили молчание. Они с Читрой присутствовали на моей выпускной церемонии, вели себя вежливо, хлопали в нужных местах и позировали рядом со мной для торжественных снимков. Они были безупречно корректны со мной и относились уважительно к моему празднику, но ни разу не обратились ко мне первыми. Таким образом они и защищали, и наказывали меня. Единственным связующим воспоминанием между нами остались события той ночи, все остальное рассеялось как дым, испарилось. Их акцент и манера поведения становились все более американскими, и тем не менее сейчас мои сводные сестры были гораздо дальше от меня, чем в первые дни нашего знакомства.






