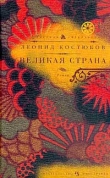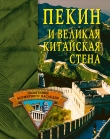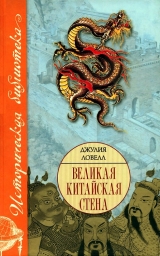
Текст книги "Великая Китайская стена"
Автор книги: Джулия Ловелл
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Применение европейцами дипломатии канонерок поставило традиции и ценности цинского Китая с ног на голову. В условиях, когда самые священные места империи осквернили, разграбили и разрушили варвары, все прежде закрытое теперь вскрыли силой. С 1840 по 1860 год Китай оказался последним и, вероятно, самым упрямым уголком земного шара, который предстояло насильно обратить в веру безгранично свободной торговли. «Огромные орды населения, – восклицал журнал «Иллюстрейтед Ландон ньюс» по завершении первой «опиумной войны», – вырываясь из невежества и предрассудков, которые столетиями опутывали их, выйдут теперь на свет дня и воспользуются свободой более широкой цивилизации, получат неизмеримо лучшие перспективы». Действия европейцев, помимо всего прочего, зеркально перевернули исторические функции границы, превратив Серединное Царство в поле боя с варварами и вынудив императора бежать в 1860 году на север, за стену, чтобы укрыться в Джехоле.
Реакция Флеминга на Китай, судя по его запискам о своем путешествии 1863 года, «Путешествия верхом на лошади в страну маньчжурских татар», оказалась настолько пренебрежительно враждебной, что читатель в первую очередь не может не задаться вопросом, зачем он туда поехал да еще потратил много месяцев на трудное путешествие от Тяньцзиня в Маньчжурию. Как и Энсон до него, Флеминг счел невыносимым практически все: китайская каллиграфия «гротескна», язык – нить «резких горловых звуков», а музыкальные инструменты – «орудия пытки». Когда Флеминг начинал описывать китайские стандарты гигиены, его практически невозможно было остановить: запахи Китая в лучшем случае «мерзкие», в худшем – «до отвращения гадкие», деревни – «захудалые», ветры – «противные и лихорадочные». Говоря о поселении городского типа, он утверждает: «Ничто живое, я уверен, не могло существовать рядом с ним, кроме китайцев и помойных крыс». Попадавшиеся на пути свинарники были «так ужасающе грязны», что они отвратили его от колбас (или «пахучих кишок», как их называют в Китае) на все оставшееся время. Несколько хороших слов он приберег для опиума – британского импорта, направляемого в Китай в огромных количествах, – который, как он отмечал, был «очень тихим и ненавязчивым способом опьянеть до беспамятства». Лучшим комплиментом, который у него нашелся для китайцев, было то, что они являются самой «способной к совершенствованию из всех восточных наций, если им это позволить… увидеть блеск современного мира и новой цивилизации и вступить в связь с новой расой людей, примерно на двадцать столетий моложе и все же более прогрессивной во всем, что относится к понятию человеческого величия». «Китай, – писал он в заключение, – не оказал сколько-нибудь заметного влияния на видоизменение или направление прогресса ни в древнем, ни в современном мире».
Однако тон Флеминга радикально изменился, когда в десяти километрах от Шаньхайгуаня ему открылась картина «прославленного на весь мир препятствия, о чьих чудесах столетиями говорили на Западе… Теперь мы без колебаний могли утешить себя за перенесенные невзгоды». После спора с местными властями из-за дозволения взойти на стену устрашающего вида мускулистый Флеминг, намного обогнав своих слабосильных, задыхавшихся китайских увещевателей, стал взбираться по «жутко отвесным» скалам к одной из башен стены. Примерно в полдень он «одолел желанный пик и завершил подъем, взгромоздившись на вершине небольшой разрушенной башни» и ощущая «несказанное удовольствие… когда стоял на вершине этой горы, где еще не ступала нога европейца, куда не могли мечтать попасть даже самые дерзкие из обитателей равнины и где, вероятно, человека не видели в течение долгих веков». Стремясь оправдать свою туристическую прогулку путем дилетантской демонстрации благочестивого научного исследования, он торопливо достал барометр и термометр, собираясь сделать несколько небрежных замеров, а затем позабыл обо всем, восхищенно взирая на «этот известный во всем мире памятник… которому немногим меньше двух тысяч лет», на его атлетические изгибы, повороты, нырки и подъемы («Я ощущал, будто смотрю на огромное чудовище, когда стена начинала свой подъем к небесам»), когда стена «уходит прочь, оборачиваясь вокруг холма и спускаясь в долину… словно тело всадника, когда его конь перепрыгивает череду жестких препятствий». Восхищение Флеминга «окаменевшим поясом» было таково, что он начал пересматривать свое общее отвращение ко всему остальному, что связано с Китаем и китайцами, восславив взамен «геркулесовы усилия великой нации в прошедшие столетия, чтобы предохранить себя от вторжения и подчинения». «Даже для человека Запада, видевшего кое-что из триумфальных достижений XIX века в строительстве… кажется практически невозможным, чтобы какой-либо народ мог взяться за работу такой чудовищной сложности».
Нацарапав на стене башни отметку о своем визите, Флеминг начал головокружительный спуск. Преданный науке викторианец, он решил тащить на себе барометр вместо воды. Когда он спускался вниз – воды ни капли, солнце в зените, – одна его рука цеплялась за камни, уступы и щели не толще волоса, которые не порадовали бы верный глаз и еще более верные ноги серны… другая была занята неудобным для переноски барометром». Сгоревший, получивший солнечный удар, совершенно потерявшийся – несмотря на компас, или, скорее, благодаря его наличию, так как тяжесть груза инструментов вынудила его срезать путь и спускаться по незнакомой тропе, – и с растяжением голени, он блуждал в течение часа или около того. В конце концов, на закате, сделав «почти сверхчеловеческое усилие над телом и разумом», неукротимый Флеминг доковылял до каких-то китайских рабочих, показавшихся ему «лучшими в мире крестьянами», так как они предложили ему еду и воду. Нечего и говорить, его презрение к китайцам вернулось, как только ушли голод, жажда и усталость. На следующий день, как обычно, условия пребывания для него оказались уже «мерзкими и ничтожными», чиновники «ребячливыми и излишне дотошными», и так далее и тому подобное на протяжении всего полного невзгод пути в Маньчжурию.
Флеминг – самый первый европейский турист, воспользовавшийся обстоятельствами, предоставленными Тяньцзиньским договором для паломничества на Великую стену. Годом раньше ему предшествовал Генри Рассел, очередной энергичный викторианский путешественник, прибывший сюда с другого направления, двигавшись на юг из Сибири и Монголии. Рассел, ничуть не менее Флеминга империалистически настроенный субъект, слазил на стену, пострелял из револьвера, отмечая свой триумф, и собрал камни, намереваясь поместить их в музеях по возвращении в Европу, где он описывал Великую стену тем, кто ею интересовался, как «извивающуюся по местности подобно ленточному червю». В «Путешествиях верхом» Флеминга, однако, сформулирована стандартная для середины – конца XIX века реакция европейцев на Китай и его Великую стену, и книга впоследствии стала вдохновляющим руководством для будущих паломников к стене.
Флеминг – типичный путешественник Викторианской эпохи, путешественник, которого создали победы британской дипломатии канонерок и их открытие замшелого Китая свежим морским ветрам международной свободной торговли. Его успешный бесстрашный штурм могучего символа закрытости Китая, Великой стены, вопреки воле местных чиновников, стал возможным благодаря разрушению англичанами и французами обнесенных стенами комплексов святая святых императора, Летнего дворца, и, по духу, встал в один ряд с ним, как бы повторив жестокую, унизительную победу британского империализма в Китае.
Претензии Флеминга на научные исследования создавали видимость объективности, придавали интеллектуальный лоск пренебрежительному расизму, чем грешили путевые заметки британских поклонников высокомерного империализма. Основание в 1840 году Королевского географического общества, объявившего о приверженности «научным путешествиям», укоренило моду на путевые отчеты «научного характера», которые оправдывали себя применением и продвижением научных (в географии, садоводстве, этнографии и тому подобное) знаний. Отсюда и решимость доктора Флеминга произвести на стене барометрические и температурные измерения, и то, как он отчаянно цеплялся за солидные по размерам инструменты, несмотря на то что они его едва не прикончили. Чувство морального и интеллектуального верховенства, к которому толкало технологическое превосходство Британии над застывшим в научном развитии Китаем, отражало и питало бездумное пренебрежение Флеминга почти ко всему встречавшемуся ему на пути. Подобно многим западным современникам в Китае, Флеминг был одержим вопросом гигиены у китайцев – или ее полным отсутствием, – поскольку прибыл из Европы, где новая отрасль науки, санитария, становилась показателем цивилизации, а грязь – символом социальной, расовой и нравственной неполноценности.
Принимая во внимание отвращение Флеминга ко всему китайскому, нам, вероятно, следовало бы удивиться его восторгам в отношении Великой стены. Почему, оказавшись перед массивным воплощением китайского изоляционизма, древним (во всяком случае, он так считал) кирпично-каменным антиподом современной свободной торговли, у него не возникло стремления телеграфировать себе в полк, стоявший в разоренном Тяньцзине, и призвать его поспешить на север со всеми самыми большими пушками, чтобы разрушить крупнейший опорный пункт Китая, как предлагал столетие назад Дефо?
Викторианские империалисты могли быть истыми христианами, но они не были пуританами. Совсем наоборот: они обожали напыщенность и в зрелищах (вспомните Бриллиантовый юбилей 1897 года, пятидесятитысячную процессию войск – включая канадцев, гонконгцев, малайцев, ямайцев и киприотов, – прошедшую через весь Лондон под предводительством самого высокого человека в британской армии), и в архитектуре (подумайте о готических соборах, внезапно вырастающих из имперских пейзажей Индии, Австралии и Канады, массивные стены правительственных зданий в Бомбее). Грандиозность Великой стены, символа имперского величия, оказалась созвучной с любовью британцев девятнадцатого столетия к монументальности.
Кроме того, разрекламированный по всему миру как очень древний, не подвергавшийся изменениям в течение двух тысяч лет и являющийся единым комплексом на протяжении тысяч километров памятник, стена дала Флемингу и тем, кто последовал за ним, основание запереть Китай во всемирный сундук древних этнографических диковинок, принимая во внимание следующий неоспоримый факт: Китай представлял собой не более чем почтенное ископаемое в сравнении с имперскими хозяевами современного мира, британцами. Можно было спокойно восхищаться очевидными успехами китайцев, достигнутыми два тысячелетия назад, ощущая еще большую расслабленность при виде деградации современных китайцев и их неспособность сравняться – а уж тем более перегнать – со своими дальними предками.
Историческая функция стены, построенной для защиты Китая от монголов, также отвечала утилитарным вкусам викторианских империалистов, выступая в самом выгодном свете в сравнении с тем, что Флеминг называл «бессмысленным, [а потому] уродливым», – египетскими пирамидами. В то же время Великая стена, в конечном счете «оказавшаяся бессильной против столь бесстрашных варваров», не могла поколебать у британцев комплекс превосходства. Ее неспособность устоять перед кочевыми завоевателями – монголами Чингисхана, маньчжурскими Цинами, – полная тщетность ничтожной, рабской покорности китайских рабочих своим имперским архитекторам демонстрировали фундаментальные изъяны изоляционистского стеностроительства как стратегии и китайцев как расы и давали аргументы для утверждения о неизбежной повсеместной победе свободной торговли. Как говорил другой человек, побывавший в Китае в начале 1860-х годов, «когда осознан факт, что на протяжении тысяч миль это необычное произведение строительного искусства струится своим извилистым путем, все остальные так называемые чудеса света меркнут в сравнении с вечным напоминанием о безрассудстве деспота и подневольном труде покорного народа».
Последователи Флеминга еще более крикливо вторили его связанным с Китаем и китайской стеной настроениям. При всех претензиях империалистического туризма на научную объективность, практически каждый визитер молча проглатывал, повторял, а частенько и раздувал ошибочные и непроверенные сведения о стене: о ее протяженности (у одних она составляла полторы, у других – две тысячи миль), о ее возрасте (самое меньшее – две тысячи лет), о строителе (Цинь Ши-хуанди), о скорости постройки (между пятью и пятнадцатью годами) и о ее однообразии (большинство выводили свое безграничное восхищение стеной из посещения построенных из кирпича отрезков к северу от Пекина; очень немногие удосуживались взглянуть на ее иную наружность к западу). В статье в «Нэшнл джиогрэфик» за 1923 год нагромождался вымысел за вымыслом: «Самая Мощная Преграда, Когда-либо Построенная Человеком, Двадцать Веков Стоит На Страже Страны Чинь… По данным астрономов, единственным рукотворным сооружением, которое должно быть видимым с Луны для человеческого глаза, является Великая китайская стена… КОТОРУЮ ПОСТРОИЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ». Лести, однако, сопутствовало удовольствие, с которым муссировался тяжеловесный, каменный символизм Великой стены как Великой аномалии: несмотря на впечатляюще «громадную протяженность» своей стены, институты Китая «за более чем двадцать пять столетий… никогда не менялись и не разнообразились… так что [китайцы] демонстрируют единственный в своем роде пример в истории рода человеческого, когда развитие постоянно задерживалось в своем процессе».
И все же интересно узнать, не стоит ли за напряженной зацикленностью Запада на Великой стене, за осуждением ее бесполезности некоторая нервозность. Не слишком ли порой западный турист переигрывает в высказывании своего неприятия. Когда в 1924 году – два десятилетия после того, как воинственные индусы превратили Индийский национальный конгресс в радикальную партию, модернизированный японский флот нанес поражение русским при Цусиме и антиимпериалистические, националистические партии стали вырастать как грибы по всей Африке и Азии, – некий визитер из Америки назвал Великую стену «надгробием… имперскому тщеславию». Трудно поверить, что отголоски упадка империи могли остаться не услышанными теми, кто его читал.
Во многих из сотен книг, опубликованных после 1860 года западными путешественниками в Китай (не принимая во внимание бессчетного количества статей, напечатанных в периодических изданиях вроде «Макмилианс мэгэзин» и «Уанс-энд-уик»), рассказы о поездках на Великую стену со стандартными зарисовками и фотографиями валов и башен, украшавших горные хребты, стали таким обыденным делом, что писавшие о путешествиях, озабоченные тем, как выделиться из общей толпы, начинали искать еще более пышные риторические инструменты для приукрашивания своих описаний или диковинные подробности, стремясь отделить свой визит от массы отчетов на тему «Я-Видел-Стену». По мере того как всемирное искательство приключений эволюционировало в массовый туризм, а к бесстрашным путешественникам добавились сонмы организованных туристов «Томаса Кука», обычных походов пешком, верхом или в повозке и криков «изумительно» и «удивительно» становилось недостаточно. Можно ощутить именно это отчаянное желание выделиться у Луиджи Барзини, итальянского журналиста, который, сопровождая аристократа принца Боргезе, собиравшегося выиграть большое автомобильное ралли «Пекин – Париж» 1907 года, проехал через Великую стену на (тогда) еще новом транспортном средстве – автомобиле. Для Барзини стена явилась «слегка иззубренным, словно это нечто с зубами… громадным архитектурным шаблоном… фантастической причудой земли, подброшенной вверх какой-то могучей, неизвестной силой природы», ее башни «словно цепочка гигантов на своих наблюдательных постах». Для излишне возбудимого итальянца символизма тарахтенья на автомобиле через стену оказалось немного чересчур:
«Мы испытываем опьянение победы, восторг триумфа… Мы чувствуем, словно нарушаем покой тысячелетий, словно мы первые, кто одним быстрым пролетом подает сигнал пробуждения от продолжительного сна. Мы чувствуем гордость за цивилизацию и расу и понимаем, что представляем нечто большее, чем просто самих себя… Великие стремления западной души, ее сила, настоящая тайна всего ее прогресса сводится к одному короткому слову – «Быстрее!». Нашу жизнь преследует эта жестокая страсть, эта ненасытность, это гордое помешательство – «Быстрее!». Здесь, в сердце китайской неподвижности, мы действительно несем с собой суть нашего лихорадочного движения вперед».
* * *
Тринадцать лет спустя некий американский турист воскликнул: из стены «получилось бы эстакадное шоссе… если бы мистер Форд взял несколько миллионов и купил эту старую штуку ради своих будущих покупателей в Китае».
По-настоящему пресытившиеся попросту отказывались описывать поездки на Великую стену. Уже в 1880 году некий британский армейский капитан по пути в Тибет вскользь упомянул: «Сюда нет нужды включать… экскурсию на Великую стену». В 1921 году один из путешественников по дороге в Монголию отметил: «Чудо света, Великая стена извивается подобно серой змее по горам хребет за хребтом… Я все это уже видел раньше… Все было слишком близко, а железная дорога сделала это обычным делом».
Попытки составителей путевых описаний перещеголять друг друга почти не повлияли на туристов, жаждавших лично увидеть прославленную Великую стену. С тех пор как в самом конце XIX века туристический бизнес достиг Китая, Великая стена является для иностранцев главной достопримечательностью, обязательным мероприятием при поездках на север. По мере того как напыщенные империалистические поучения понемногу выходили из моды, не в малой степени противоречившей утверждавшемуся современному китайскому национализму, западные визитеры начали прикрывать свое двойственное отношение к стене как к впечатляющему, но ветхому символу оборонительной беспомощности, тем самым уничтожив последнюю тень критики, осложнявшей восхваление ее истории. Великая аномалия стала просто Великой.
В течение стремительных лет поклонения стене очень небольшое число западных посетителей ссылались на подлинно Великую аномалию стены: на то, что подобная одержимость иностранцев никоим образом не отражала заинтересованности самих китайцев. Описывая трудности, с которыми ему пришлось столкнуться при получении разрешения посетить стену, Джордж Флеминг отмечал: ставившие препоны бюрократы говорили не только о том, что «солнце очень печет, что нет дорог, что горы находятся далеко», но и что «китайцы никогда туда не поднимаются». Флеминг отправился в экспедицию на свой страх и риск, поскольку его прагматичные китайские увещеватели не хотели рисковать жизнями, чтобы тащиться на вершины гор, где проходила стена, в отличие от их сумасшедшего повелителя дьяволов (Флеминг, конечно же, с готовностью отмел их нежелание «взбираться… на почти неприступные скалы как очередной пример физической слабости китайцев» и больше об этом не думал). Но в начале XX века китайцы, которых сначала ставила в тупик страсть варваров к стене, начали постепенно менять свою точку зрения, поддаваться убеждению со стороны тех, кто стал причиной их международного унижения, со стороны страшного Флеминга и других подобных ему. Когда Китай после десятилетий набивания шишек при встречах с незваными гостями с Запада принялся восстанавливать национальное самоуважение, Великая стена стала самым очевидным обломком империи, за который следовало держаться.
Глава двенадцатая
Перевод Великой стены на китайский язык
В теплый весенний полдень 4 мая 1919 года города Китая вспыхнули пожарами. В час дня примерно три тысячи протестующих студентов собрались перед Запретным Городом в Пекине под двумя огромными белыми траурными транспарантами. Хотя на транспарантах были начертаны имена двух особенно непопулярных членов пекинского правительства, собравшихся зажигало чувство того, что они справляют траур по чему-то намного большему: по самому Китаю. Несколькими днями раньше до страны дошли печальные известия. За тысячи километров, в Версале, американский президент Вудро Вильсон, британский премьер Дэвид Ллойд Джордж и его французский коллега Жорж Клемансо в знак признательности Японии за поддержку военным флотом в борьбе против Германии в только что закончившейся I Мировой войне решили наградить ее, передав ей прежние территориальные права Германии в Шаньдуне, большом куске территории на северо-востоке Китая. Представители пекинского правительства на парижских мирных переговорах – делегация, опиравшаяся на коррумпированных китайских военных диктаторов и скупленная на корню японскими займами, – свинтили с ручек колпачки и готовились ставить свои подписи.
От Тяньаньмэнь студенты направились на восток, в сторону посольств, отелей, банков, магазинов, церквей, борделей и поля для поло, расположенных в городском квартале иностранных представительств, который державы выкроили для себя в первые годы столетия. Когда иностранная и китайская полиция перекрыла им движение через ворота в стене по периметру квартала, толпа повернула к дому одного из самых ярых в правительстве сторонников Японии. Обнаружив, что его обитатель скрылся от них, перебравшись через заднюю стену двора, протестовавшие сожгли дом и до потери сознания избили другого члена правительства.
В течение восьмидесяти лет после поражения в первой «опиумной войне», иностранные державы, по выражению возбужденных протестовавших, «кромсали Китай, как дыню»: размещая канонерские лодки, разрушая до основания дворцы, выжимая контрибуции, насаждая принцип экстерриториальности и отхватывая «сферы влияния», чьи огромные территории, разработку и использование природных ресурсов они провозглашали своими преимущественными правами. В те же самые восемьдесят лет китайские правительства топтались в нерешительности перед вызовами Запада, мечась между желанием встречать империалистов (и, возможно, бить их) их собственными методами с помощью современных канонерок и оружия и страхом, что такой курс может сбить китайскую культуру на варварский путь.
Унижение версальских решений стало катализатором для китайского национализма, спровоцировавшим взрыв культурных и политических протестов в китайских городах, известных как движение Четвертого мая. Несколько десятилетий китайские реформаторы с разной скоростью подходили к неприятному выводу: традиции правительства и общества империи – превозношение старины и Конфуция, неспособность к развитию науки и техники западного стиля – представляют собой исторический тупик. И до и даже в большей степени после 1905 года, когда тысячелетнюю конфуцианскую систему экзаменов наконец отменили, молодые люди стали откладывать в сторону классические учебники и двинулись в военные и технические академии – многие из них за границу, во Францию, в Японию и Англию, – чтобы изучать способы генерирования богатства и мощи, применяемые современным Западом, осваивать военные и промышленные технологии, обучаться медицинской науке и учиться политической активности и единству, порождаемым чувством национальной принадлежности. Тревоги насчет капитуляции перед ценностями варваров в теоретическом плане отметались краткой формулой «ти-юн» (сущность-практика), которая являлась подпиткой культурного консерватизма в конце XIX века и предполагала, что китайская «сущность» (этические и философские ценности) может усилиться, а не оказаться под угрозой при выборочном использовании западной «практики» (науки и техники).
Охваченные усилившимся в результате версальских договоренностей чувством национального кризиса и отчаянным стремлением к оживлению государства, участники движения Четвертого мая более не могли терпеть прежних полумер, разработанных для сдерживания империалистической угрозы. Отбросив требования по гармоничному примирению современных западных и традиционных китайских ценностей, философы, писатели и участники манифестаций движения Четвертого мая решили: пришло время полностью порвать с загнившим, отсталым прошлым, которое привело Китай к катастрофическому настоящему – с его классическим китайским языком, закрытой конфуцианской системой управления, мышлением и общественными отношениями, с его комплексом превосходства и врожденным недоверием ко всему иностранному, с его благоговением перед старостью и пренебрежением молодостью. Главная задача, провозглашал Чэнь Дусю, один из интеллектуальных вождей движения Четвертого мая, «заключается в том, чтобы импортировать основу западного общества, которая заключается в новой вере в равенство и права человека. Мы должны полностью осознавать – конфуцианство несовместимо с этой новой верой, с новым обществом и новым государством». Открытость провозглашалась ключом к выживанию, изоляционизм старого образца – путем к гибели. «Будьте космополитами, а не изоляционистами, – призывал Чэнь. – Тот, кто строит телегу, закрыв ворота, обнаружит, что она не подходит к колее за воротами». На улицах городов, в лекциях, в памфлетах и печатных изданиях по всему Китаю молодые интеллектуалы громко требовали замены древней автократии Конфуция на современную западную науку и демократию.
Годом раньше, в 1918 году, пятидесятидвухлетний китайский джентльмен по имени Сунь Ятсен поселился на вилле по адресу: улица Мольер, 26, – на одной из самых тихих улочек среди тенистых бульваров французской концессии в Шанхае. С мая по июнь 1919 года за стенами его тихого приюта город погружался в хаос: вероятно, четвертая часть всех работающих приняли участие в забастовке с импровизированными антиимпериалистическими демонстрациями и спектаклями, разыгрывавшимися прямо на улицах. Однако, как многие китайцы-горожане, кому за пятьдесят, Сунь, похоже, активно не участвовал в движении Четвертого мая, где преобладали студенты. Он проводил рабочее время в научной деятельности, переделывая и редактируя свои работы. В свободное время он отдыхал, играя с женой в крикет на лужайке перед виллой или развлекая друзей за обедом.
Но во всем остальном Сунь был кем угодно, только не обычным китайским горожанином среднего возраста. В 1919 году он стал бывшим вождем революции и президентом Китайской республики. Спустя несколько десятилетий, уже после смерти, на него прольется бальзам китайского политического внимания – бесконечно далеко от сонного кабинетного бытия на улице Мольер, – и правительство Тайваня, и правительство Китайской Народной Республики признают его «отцом современной китайской нации».
Как и демонстранты движения Четвертого мая, Сунь Ятсен был одержим вопросом китайского национального возрождения. В отличие от своих молодых коллег к 1919 году данный вопрос мучил его уже много лет. После почти трех десятилетий сбора денег за рубежом, чтения лекций, встреч, приветствий и демаршей от имени китайских антидинастических сил революции Суня наградили, пригласив после национальной революции 1911 года (преждевременно вспыхнувшей от взрыва наскоро собранной бомбы) на пост президента новой Китайской республики. В 1913 году, едва пробыв на посту год, Сунь уступил президентство Юань Шикаю, бывшему цинскому генералу и военной опоре революционного режима. Юань сразу же начал игнорировать новую конституцию: он стал принимать иностранные займы без одобрения парламентом, расправился с премьер-министром и, наконец, 1 января 1916 года провозгласил себя императором. После сего акта страна моментально оцепенела. В том же году, когда провинции одна за другой начали выступать против тучного усатого императора и за независимость от Пекина, Юань занемог – вполне вероятно, с ним случился удар, вызванный приступом ярости, – и умер. Вслед за смертью военного властителя, по крайней мере объединявшего армии страны, если не ее надежды на республику, единый фасад нового режима развалился и началась борьба между местными военными диктаторами.
Пока те, кто жаждал власти, делали смотры собственным армиям, вся остальная страна катилась в ад. Хотя у революционеров, свергнувших Цинов в 1911 году, не существовало ясности по многим общим вопросам организации управления, их в первую очередь объединяла одна тема: потребность в сильном национальном вызове покушениям империалистических держав. Ни одна иностранная держава не была столь неутомима в утверждении своих интересов, как Япония на северо-востоке: после столкновений с Китаем и Россией Япония к 1910-м годам водворила себя в качестве доминирующей силы в Маньчжурии. В полной мере воспользовавшись послереволюционным хаосом, царившим в Китае, в 1915 году японское правительство выставило перед Юань Шикаем «двадцать одно требование», утверждавшее всеобъемлющий японский экономический и политический суверенитет над районами Маньчжурии и Монголии. После нескольких месяцев переговоров Юань капитулировал. Спустя четыре года в Версале, несмотря на то что Китай внес вклад в военные усилия союзников сотнями тысяч китайских рабочих, решение американцев, британцев и французов показало: дело государственного суверенитета Китая получило очередной мощный негативный импульс.
Именно в данный критический момент развития современного Китая Сунь Ятсен удалился в тихий уголок Шанхая и готовился перегруппировать силы. В 1917 году, после утверждения моды на военных диктаторов, он отправился на юг, в Кантон, и короткое время пытался вышагивать в полном военном маскарадном облачении (шлем с перьями, эполеты с бахромой, белые перчатки) и называть себя Великим маршалом. Не видя перспектив оставаться маршалом без сколько-нибудь солидной армии – Сунь в лучшее время своего командования мог насчитать примерно двадцать батальонов и одну канонерскую лодку, – он сменил обшитую галунами форму на традиционный халат китайского ученого и приступил к работе над планом национального возрождения. Собравшись с силами перед очередной попыткой воплотить в жизнь мечту о едином, республиканском Китае, революционный заправила начал трансформироваться в политического теоретика и принялся противопоставлять собственную схему реформ радикальным воззрениям Четвертого мая.
Сунь не соглашался с канонизацией подходов Четвертого мая, опасаясь, что полное отречение от китайской традиции разорвет психологические связи с прежней политической культурой и сделает невозможным восстановление единого государства как преемника старой имперской модели. Он искал пути возрождения полезных компонентов этой традиции в современных схемах модернизации. Это было и в определенной степени остается центральной, болезненной дилеммой современного Китая: как распорядиться огромными накоплениями опыта и достижений, сделавшими Китай самой мощной в мире страной до XVIII века, а через сто лет оставившими практически беспомощным против империалистического Запада. В глазах встревоженных патриотов ответственность за страшные неприятности Китая лежала на китайской истории, однако именно она и делала Китай XX века – «больного человека Азии» – заслуживающим спасения. Страстно желая быть сильными и современными, как Запад, китайские модернизаторы при каждом повороте с беспокойством оглядывались через плечо на прошлое, чтобы убедиться – они по-прежнему «китайцы».