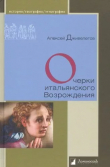Текст книги "12 Жизнеописаний"
Автор книги: Джорджо Вазари
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
При такой занятости его интерес к переделке первого издания «Vite» был больше платоническим, чем деятельным. По оказиям, при поездках, он рассматривал произведения, сравнивал мастеров, кое-что записывал, кое-что запоминал, кое с кем знакомился, кое-кого выспрашивал, словом, скорее обеспечивал возможности двинуть вход машину переиздания, когда и если это понадобится, нежели на самом деле обрабатывал материал. Новое издание стало принимать первые контуры лишь в 1562 году, а подошло к действительному осуществлению через два года, в 1564 году, и только спустя еще четыре года появилось в свет. Все эти восемь лет вокруг Вазари и на Вазари работал аппарат, подготовленный за пустое десятилетие. Правда, это было меньше подготовлено им самим, чем славой, сопутствовавшей первому изданию «Vite». Она переросла его намерения. Он готовил книгу развлечений, а она вышла книгой истории. Его конструкторский талант поборол его литературное модничание. Общеисторическая композиция книги взнуздала и объединила биографическую анекдотику. Вазари был уже знаменит знаменитостью классика историографии не только в Италии, но oltramontani, по ту сторону гор, в Европе, когда рынок дал знать, что готов принять новое издание.
Помощь друзей и споспешественников проявила себя сразу. Она была настолько ревностна и обширна (Вазари сам в многочисленных страницах работы говорит о «soccorsi di molti…e veri amici» – "помощи многих добрых и верных друзей, которые помогли ему «di notizie ed awivi e kusconti di cose› – ‹сведениями, данными и проверками разных вещей), что даже несколько заслонила самого Вазари. Во всяком случае, обвинение в плагиате, выдвинутое против него еще прижизненными врагами, пошло по всем трем столетиям и разбирается даже поныне. Однако оно беспредметно Злобствования современников, вроде Челлини, и их потомков в веках исторически, конечно, занимательны, но по существу они говорят лишь о том, что на нынешнем языке называется сотрудничеством и иногда – редактурой. Роль Боргини, его друга и первого советчика, сочтена той же Academia del Disegno, опытного литератора и испытанного знатока искусства, – действительно крупна в окончательной отделке книги он сглаживал, выправлял, утрясал и, наконец, благословлял к печати. Однако это был все же помощник, а не соавтор, о нем надо упомянуть, но не ставить рядом. Остальные же были изредка судьями вкуса, чаще корректорами сведений и обычно поставщиками материала. Их роль мала в раздельности, хотя и достаточна в совокупности
VI
Они были носителями того фактицизма, который стал отличительной чертой нового издания Основной прием переработки «Vite» 1568 года – прежде всего расширение материала. Это – добавки по жизнеописаниям и добавки по хронологии. Это новые произведения новые мастера, новый размер всей книги. Анекдотика идет уже вторым планом в сравнении с насыщением фактами. Действительность сообщения теперь приобретает для Вазари такую же драгоценность, как раньше убедительность вымысла. Выросшим опытом он понял, что они лишь крепят друг друга. Недаром к каждой из старых «Vite» он подмешал долю исторических сведений недаром также, в отличие от прежнего издания, он решился присоединить целую серию биографий своих современников и выразительно назвал их уже не «Vite», a «Descrizione delle opere» – «Описанием произведений».
Его источники чрезвычайно разрослись. Это относится столько же к тому, что внес он сам, сколько к тому, что нанесли ему другие. Его осведомленность выросла географически, хронологически и объемно. Количество биографий дошло до 161, против 133 первого издания. Легендарная часть «Vite", биографии тречентистов, получила хотя и кое-какой, но все, же фактический материал. Четыре города – два важнейших, Флоренция и Рим, и два побочных, Болонья и Ареццо, на которые опирался личный зрительный опыт Вазари в эпоху, первого издания, – теперь покрыты обширностью путешествий и многообразием виденного. Если это и не означало еще «ricercare di nuovo tutta l'Italia», как похваляется Вазари, то, во всяком случае, это составило уже внушительный перечень мест Пиза, Лукка, Пистойя, Сиена, Сан-Джимаииано, Вольтесара, Перуджа, Ассизи, Равенна, Анкона, Римини, Монтоливетто, Болсена, Прато, Эмполи, Каррара, Кортона, Венеция, может быть – Феррара, Мантуя, Верона, Падуя и так далее.
Архивно-историческая документация «Vite» возросла до меньшей степени, чем зрительный материал, но и она возросла значительно. Не существенно, сам ли Вазари рылся в «хронологической пыли бытописания земли», или только использовав присланное и готовое, – важно укрепление документального фундамента второго издания, которое он ревностно проводил. Тут были и новоиспользованные чужие труды, в первую голову – флорентийская историческая хроника Джованни и Маттео Виллани, лангобардская хроника Павла Диакона, «Istorie fiorentine» Макиавелли, «Жизнеописание папы Николая V» Манетти, хроники сиенские и венецианские, – но также и то, чем он гордился, о чем, в противоположность остальному, любил упоминать и, что особенно свидетельствовало о пробудившемся вкусе к историзму – извлечения из монастырских архивов: Санта-Мария Новелла, Сан-Марко во Флоренции, Сан-Доменико в Прато и так далее. В особой мере возросло количество реалий: литература надгробий, эмблематика гербов и прочее. Наоборот, и это столько же характерно, работы художественного порядка, как историко-бнографичсские, так и технологические, взяты скупо, можно сказать, неохотно, обычно приемом умолчания, ради исправления какой-нибудь ошибки или подкрепления какого-нибудь умозаключения; так проходят «Trattato dell'Architettura» Филарети, «Биография Микеланджело» Кондиви, «Трактат о живописи» Ченнини, «Падуанские древности» Скардеоне, «Веронские древности» Торелла Сараино и другие.
Новым приемом для обработки второго издания «Vite» имеются запросы, которые Вазари рассылал в разные углы Италии местным людям, художникам, их родственникам, их наследникам, владельцам их произведений. Эти «анкеты» многочисленны. Иных из своих адресатов он помянул сам, другие явно подразумеваются в числе тех, кого он знал лично и сам вел переписку; среди первых – Джироламо да Карпо, Франческо да Сиена, Леонардо Буонарроти, племянник Микеланджело; среди вторых – художники Ридольфо Гирландайо, Сангалло Триболо и др.; местные люди – Просперо Фонтана, Пеллегрино, Тибальди, Марко да Равенна; ученики Вазари, осевшие по разным местам, вроде Томазо ди Стефани, наконец, ученики его моделей, вроде Микеле дельи Альберти и Фелицано да Сан Вито, выходцев из мастерской Данииле да Вольтерры, о котором он писал благосклонно.
VII
Инфляция материалов дала двойственный итог: один – для исторической значимости «Vite», другой – для литературной. С одной стороны, она сообщила изданию 1568 года ценность величайшего памятника истории итальянского искусства, первоисточника, незаменимого в течение трех столетий, единственного хранилища сведений, чьи начальные корни уже утрачены и невосстановимы, – своего рода труднейшего задачника для проницательности и чутья позднейших историков и исследователей, которые и поныне еще разузнали и уточнили далеко не все. Это ноше издание «Vite» ввело в обиход длинный ряд впервые названных имен художников, неизвестных ранее произведений, атрибуций, хронологических и локальных данных. Оно чрезвычайно распространило и то, что в начальном издании 1550 года было лишь обозначено, заменив простое и оголенное перечисление работ описанием и характеристикой. Более того, на основе накопленного материала Вазари отваживается намечать манеру, смены периодов творчества у отдельных мастеров, – подлинную основу формально-логической науки будущих поколений историков искусства.
Но с другой стороны, это прагматическое насыщение второго издания резко отразилось на художественной цельности «Vite». Фактицизм вступил в борьбу с новеллистикой. Однако он ни одолел, ни подчинился. Он лег рядом с ней целыми пластами самостоятельного значения. Одно и другое просто сосуществуют. Вазари точно выразился, говоря, что он мог «не столько исправлять, сколько прибавлять» – «non tanto ho potuto corrigere, quanto accescere tante cose». Он и его соредакторы исправляли отдельные даты, названия, имена – и перечень таких корректур немал, а для отдельных «Жизнеописаний» даже решителен (quasi rifatte vi nuovo); это особенно заметно у мастеров треченто, а равно не флорентийских художников. Но все эти переделки не посягнули на основной новеллистический материал первой редакции «Vite». Вазари все также продолжал хотеть «разом развлекать и поучать» – «di giovare e insiemente dilettare», как выразился он в заключении ко второму изданию. Художник рассказа сплошь да рядом по-прежнему берет верх над собирателем фактов. Там, где между ними происходят столкновения, он с готовностью решает в пользу Dichtung, Он приспосабливает или меняет, или утаивает новые данные, чтобы не мешать живописности своего повествования. Каллаб говорит даже, что Вазари делает это «mit der Kuhnheit eines bewussten Falschers» – «с отвагой заведомого фальсификатора». Не в морали, опять-таки, здесь суть, а в двойственном требовании развлекательного историзма со стороны тех illusstrissimi miei signori, i quali servo, и их окружения.
Этим была создана стилистическая пестрота второго издания. Оно лишено литературной цельности «Vite» 1550 года. В нем три словесных стихии. Одна – у вступительных абзацев отдельной биографии, излагающих нравоучительную основу последующего изложения; другая – у бытовой новеллистики, разукрашивающей «Жизнеописания» анекдотическими забавностями; третья – у историко-фактического материала. Начала биографий написаны сложной и ученообразной риторикой, модной и обязательной, путающейся в складках собственной пышности, в которой Вазари едва передвигает ноги, со всеми признаками величайшего усилия как-нибудь добраться до точки. Этот Вазари – последыш гуманистического красноречия: оно звучит для нынешнего читателя всегда архаично, изредка забавно, чаше – нестерпимо. Второй элемент повествования, зато блистательно жив и свеж. Здесь Вазари проявляет себя превосходным, нередко – первоклассным мастером рассказа. Он легко находит оттенки, легко лепит фигуры, свободно играет их разговорами, движениями, склонностями; тут его приемы реалистичны, и реализм тем сочнее, чем гуще Вазари захватывает бытовой материал. Шутки, ссоры, соленые словца выведенных в «Vite» лиц являются вершиной вазариевского искусства. Он может не исследовать Боккаччо или Сакетти, которые служили ему образцами и которых он при случае поминал: подать красочный анекдот он умеет не хуже их. Можно сказать, какая-то площадная, простонародная, крепкая струя бьет и играет в житейских сценках «Vite». Наконец, третью группу – перечней и описаний произведений – делало перо профессионала: художника, использующего технологию своего ремесла, и историографа, окружающего материал комментариями. В сравнении с риторикой и анекдотизмом, стиль Вазари здесь сух, жесток, однообразен, нередко – утомительно сер. Он способен простовато нанизывать одно название на другое, беря соединительными звеньями лишь слова: «кроме того», «вслед за этим он написал», «а еще сделал он» и так далее. Обычно Вазари ограничивается тремя данными: указанием местонахождения, описанием сюжета и подчеркиванием технических качеств или пороков произведения; он применяет тут критерии и термины человека, который сам работает в искусстве; до известной степени ему нравится даже пускать в ход профессиональный жаргон (типичный пример – многостраничное описание дверей Гиберти), который, видимо, вызывал упреки у высоко – родных читателей его книги из герцогской или папской челяди, – недаром в заключительном обращении Вазари счел нужным оправдать эти «vocaboli proprie delle nostre Arti».
Однако изредка его аннотации поднимаются до наглядности и точности, которые напоминают естествоиспытательские описания следующих столетий, какую-нибудь зоологическую беллетристику золотого пера Бюффона. Высочайшим образцом этого рода является вазариевская характеристика «Моны Лизы», заставляющая нас навсегда запомнить «блеск и влажность глаз», красноватые отсветы и волоски ресниц», «биение пульса в выемках шеи» на знаменитом произведении Леонардо.
VIII
Стилистический разнобой отражает разладицу более важных сфер художественных воззрений Вазари. Исследователи единодушны: «Vasaris Kunstanschauungen erscheinen nicht als ein geschlossenes System» – «взгляды Вазари на искусство не представляют собой целостной системы», – говорит Оберниц («Vasaris allgemeine Kunstanschauungen». 1897); «man darf die theoretischen und kunsttheoretischen Anschauungen Vasaris nicht als ein System betrachten» – «не следует рассматривать эстетические и художественно-теоретические взгляды Вазари как некую систему», – вторит Каллаб («Vasaristudien». 1908); «Von einem durchgebildeteri System bei Vasari selbstverstandlich nicht die Rede sein kann» – «о какой-либо продуманной системе у Вазари не может быть речи», – резюмирует Шлоссер (Die Kunstliteratur». 1924). Более того, сегодняшняя ценность «Vite» прямо пропорциональна частностям и обратно пропорциональна обобщениям. Это соответствует собственным тяготениям Вазари. Он прежде всего практик и профессионал и лишь затем – эстетик и историк. Он говорит об отдельном мастере искусства, метче, чем о целой эпохе, а об отдельном произведении вернее, чем обо всем художнике. Непосредственное чутье ведет его к оценкам, которые не умещаются в рамках философствующего обозрения исторических судеб искусства. Концы с концами здесь не всегда свяжешь. Вазари умеет противоречить себе и даже не оглядываться.
Суммируя и обобщая, надо свести его художественные взгляды к двум группам. С одной стороны, у него две категории долженствования художника – отношение к природе (naturale) и отношение к прекрасному (bello). С другой – две категории формообразования искусства – рисунок (disegno) – и композиция (invenzione). Между обеими группами можно до известной степени установить следующий закон соответствования: naturale: disegno = bello: invenzione.
По количеству и авторитетности высказываний ведущее начало «подражания природе» у Вазари словно бы бесспорно: «Io so che l'arte nostra e tutte imitazione della natura principalmente» – «Я знаю, что наше искусство есть, прежде всего, подражание природе» (I, 122, Mil.). Историческое развитие искусства есть овладение способами точно передать природу. Это – постепенное приближение к натурализму, как сказали бы мы теперь, в той его крайней форме, которая ставит себе задачей дать иллюзию настоящего предмета. Художникам надлежит работать так, чтобы их вещи «non paiono dipinte, ma si dimostrano vive e di rilievo fuor dell'opera loro» – «не казались бы написанными, но выглядели бы живыми и выпуклыми, словно бы вне произведения» (I, 174, Mil.). Похвалы и порицания, которые Вазари раздает, подтверждают это; термины одобрения у Вазари – «figure che paiono vive», «vive-…, «vidissime», «vive с naturali», «veramente naturali e vivissi– Фигуры должны казаться говорящими, движущимися, ожившими. Анекдот о Донателло, якобы во время работы над… лис кричавшем своей статуе: «favella, favella!» – «да говори же говори!» – определяющ. Сентенция об устрашающем ля «чудовище на щите» юного Леонардо такова же – «qu opera a serva per quello, ch'ella e fatta» – «эта вещь и дает тот вид, ради которого она делалась». У Андреа дель Сарто св. Франциск и евангелист Иоанн написаны так, «che pare si» – «словно бы взаправду движутся». У Фра Бартоломео и «Обручение младенца Христа со св. Екатериной» один роков, поющий, изображен столь естественно, что «chi I ala non puodiseredarsi di non avere a sentir la voce» – «всякий взглянувший на него не может отделаться от впечатления, будто слышит его голос».
Подобных высказываний можно привести в потребном количестве, и не только в отношении людей; так, о цветах в произведениях Джироламо деи Либри говорится, что они Misi veri, belli e naturali, che parevano ai riguardanti vivi» – столь живы, прекрасны и естественны, что кажутся зрителю настоящими»; о драгоценной утвари у Джулио Романо сказано: «tanto lustranti, che paiono di vero argento e oro» – так сверкают, что кажутся из настоящего серебра и золотыми. Похвальная характеристика перспективных изобретений Паоло Уччелло покоится на том же. Завершением этих аналогий можно считать внимание Вазари к натуралистически страшному: например, о «Мученичестве» Лоренцо ди Биччи сказано, что оно все полно «di questi affetti che fa diversamente natura a colore che con violenza sono fatti morire» – «исказительств, которые запечатляет в разном виде природа на тех, кто умирает насильственной смертью», а в «Потопе» Учелло подчеркнут фрагмент с мертвецом, которому выклевывает глаза ворон, и младенец, у которого тело разбухло от воды, и напоминает раздувшийся мех.
Однако на этот последовательный и программный натурализм наступают, с другой стороны, шаг за шагом, требования доброты». Пометки этого рода многочисленны, настойчивы и разбросаны по мастерам и произведениям. «Bello», «bello", «grazia», «dolcezza», «leggiadria» co всеми произведениями всех сочетаниях входят в вазариевские характеристическое взаимоотношение с naturale смутно и невыдержанно. Это снова скорее сосуществование, нежели сочетание. Противоречивостей, как всегда, Вазари не боится. Прекрасное совмещается в предмете с натуральным, как факт, как данное. Таково большинство оценок. Все же в нескольких случаях Вазари высказывает суждения, которые позволяют наметить более высокую связь. Не важно, что это чужие мысли, важно, что он их присваивает. Они утверждают, что красота имеет всегда дело с природным миром, но, соприкасаясь с ним, она его преобразовывает. Задача художника состоит именно в том, чтобы выбрать у разных предметов наилучшие черты и создать прекрасную вещь, «il piu belle delle cose della natura» – «более прекрасную, нежели творения природы». Вазари не был бы выкормышем гуманизма, ежели бы невидел осуществления этой заповеди в античности. Воздавая хвалу Микеланджело, он говорит, что тот «победил и превзошел не только природу, но и этих самых знаменитейших древних» – «quelli stessi famosissimi antichi», и еще раз повторил это утверждение почти дословно в письме к Козимо I из Рима в 1560 году. Требование превзойти природу оказывается столь же императивным, как требование уподобиться ей. Рафаэль и Корреджо побеждают природу своим колоритом, а в «Описании произведений Тициана» сказано даже, что искусство вообще есть нечто отличное от природы.
Источник этих суждений явен. Вазари опирается на готовое, достаточно давнее и высокоавторитетное высказывание. Оно стало уже общим достоянием, когда он присвоил его. О красоте, очищающей природу и совершенствующей ее сочетанием лучших элементов в новое единство, говорил еще Рафаэль в дни вазариевской юности. В знаменитом письме 1516 года к Кастилионе значилось: «Чтобы написать прекрасную женщину, надобно было бы мне видеть множество прекрасных женщин… Однако так как прекрасных женщин и истинных ценителей мало, то я беру в вожатые себе определенную идею (celta idea), пришедшую мне на ум. Я не знаю, какова ее художественная ценность, но с меня довольно и того, что я обрел ее». К середине чинквеченто, и тем более к концу его этот принцип стал настолько ходовым, что Вазари мог уже без труда переписать сжатую мысль Рафаэля своим словоохотливым почерком: «Рисунок, отец трех наших искусств… извлекает из множества вещей общую мысль (un giudizio universale), являющуюся подобием некой формы или, точнее, идеи всех вещей природы (simile a uba forma ovvero idea di tutte cose della natura), которая во всех своих соотношениях проявляет закономерность. Отсюда проистекает то, что не только в телах людских и животных, но также и в растениях, в строениях, в скульптуре и в картинах познается взаимная пропорциональность как целого и частей, так и частей между собой и в общей их совокупности; а так как из такого познавания рождается некое суждение, которое образует в уме то, что, будучи позднее выявлено руками, именуется рисунком (che poi es con le mani si chiama disegno), то отсюда можно умозаключить, что этот самый рисунок есть не что иное, как наружное выражение и проявление того представления (concetto), которое коренится в душе и которое сложилось в уме и образовалось в идее (nella mente imaginate efabricato nella idea)».
IX
Столкновение форм, фрагментарность суждений, разноречивость заимствований – признаки социальной промежуточности писателя. Вазари – действительно явление переходного времени. Его отношение к борьбе сил в художественной культуре чинквеченто, его позиции между стариной и новизной шатки и непоследовательны. Erwin Panofsky говорит о нем: «… bereits von den Gedankengengen der neuen manieristischen Kunstlehre nicht unbeeinflusst, wenngleich seiner ganzen kunsttheoretischen Einstellung nach stark retrospectiv perichtet» – «… уже явно тронут идейными веяниями нового эстетического учения маньеризма, хотя все его художественно-теоретические представления еще сильно связаны с прошлым» («Idea». 1924). Это означает, что противоречия Вазари лежат не на поверхности. Они составляют сущность его мышления и мироощущения. Менее всего позволительно изображать Вазари одной краской. Недостаточно назвать его маньеристом. Это правильно, но это слишком общо. Антиклассическая реакция маньеризма сама есть выражение кризиса. Поэтому она настолько емка, что вмещает явления различных социально-художественных сущностей. Среди трех основных течений маньеризма Вазари принадлежит к тому, которое было наименее новаторским (Walter Friedlander). Die Entstehung des antiklassischen Stiles in der italienischen Malerei um 1520. Rep. f. K. 1925.). Он очень далек от обеих экстремистских групп: ему нечего было делать среди ломбардо-венецианского течения, перемещавшего географический центр тяжести итальянской живописи на северо-восток и утверждавшего ту специфическую живописность – колорита и света, – которая своей эмоциональностью представляла протест против флорентийско-римской гегемонии с ее рассудочным, контурным, расцвеченным disegno; он не находил себе места и среди маньериетического течения в собственном смысле слова, которое, взяв классицистическую традицию кватроченто, неистово вывертывало ее наизнанку, складывая подлинное протобарокко. Вазари был с теми, у кого прошлое сидело на плечах едва ли не крепче, чем будущее. Он был самым переходным человеком самой промежуточной из групп маньеризма. Практика и теория Леонардо и Альберти, Микеланджело и Рафаэля были для него более живым и направляющим опытом, нежели творчество молодых современников. В его искусстве это сказывалось столь же явно, как и в его писательстве. В патриотических фресках Палаццо Веккьо заимствования у «Битвы при Ангиари» Леонардо выдают себя живее, чем маньеристическая переработка (см.: Wilhelm Suida, Leonardo und sein Kreis. 1929), a в римском (Cancellaria) «Благословении Павлом III чужих народов» заимствования у Микеланджело и Рафаэля сильнее черт нового стиля. Если хулительные оценки живописи Вазари, которые дает новейший исследователь маньеризма, N. Pevsner (Die Italienischc Malerei vom Ende der Renaissance bis zum Ausgchen des Rokoko. 1928.), и не обязательны, то существо его характеристик объективно: «Das ist Manierismus im altbblichen Sinne, bbernahme schwieriger Motive ohne inhaltlich sinnvolle oder decorativ reizvolle Verwendung» – «Это маньеризм в вульгарном смысле, перенимание трудных мотивов без их внутренне-осмысленного или декоративно-прекрасного применения»; Вазари – «ein ausserordentlich bezeichnender Vertreter der verkniffelten Concetti des Manierismus» – «незаурядный по своей показательности представитель спутанных концепций маньеризма». С точки зрения подлинного и развернутого течения, носящего это имя, антагонист Вазари прав: наш художник действительно путался в ногах набегающей эпохи.
X
В общем замысле «Vite» этот процесс выразился двойственностью исторических обобщений. С одной стороны, Вазари опирается на традиционную гуманистическую схему смены трех периодов культуры; античности, средневековья, Возрождения. Вазари повторяет ее применительно к изобразительным искусствам, вставляя в ее своеобразную диалектику свои величины: у него «maniera antica» эллино-римской древности уничтожается «maniera vecchia» средневековья, которую в свою очередь преодолевает «maniera modertia нового времени, возрождающая античность; чтобы выразить эту последнюю фазу, Вазари впервые применяет знаменитый термин «Rinascita» – «Возрождение».
С другой стороны, Вазари снабжает свою историко-художественную триаду неожиданным добавлением: «tempi nostri» «наши дни». В то время как для чинквеченто «возрождение античности» – это уже горькая страница о возвращенном и потерянном рае, и над униженной, истерзанной, опять цивилизованной Италией горят слова Микеланджело: «non non sentir» – «не видеть и не чувствовать», – у Вазари обстоит как нельзя более благополучно. У него искусство da uno umile principio vadino poco a poco migliorando e finallente pervenghino al colmo della perfezione» – «от низкого, начального состояния, мало-помалу улучшаясь, достигает в конце концов вершины совершенства». Эта вершина совершенства есть как раз искусство его, вазариевской, эпохи, «ella a salita tanto alto che piu presto si abbia a temere dell calare a asso, che sperare oggimai piu augmento» – «оно взошло на такую высоту, что следует скорее опасаться, как бы оно не пошло на убыль, нежели надеяться, что оно поднимется еще выше». Однако именно это столь парадное добавление выдает социальную тайну его оптимизма. Здесь ключ к нему. Оно празднично внешне и пессимистично по существу. Его политико-художественный смысл состоит в том, чтобы включить в схему прогресса эпоху и деяния тех «светлейших моих государей, коим я служу». Дальше же, после них, можно дать место общему, охватившему всех, но государственно-опасному, чувству декаданса. Вазари не столько разрушает, сколько перемещает границы пессимизма. Он позволяет ему качаться в хронологически безопасной зоне.
Это все та же роль «слуги двух господ», промежуточная позиция промежуточного человека. Доказать цветение искусства в 1550– 1570-е годы ему трудно. Для настоящей эпохи Ренессанса у него есть критерии прогресса, а здесь – голое утверждение. В подлинном Ренессансе приближение к «naturale» – «естественности» и овладение «maniera» – «художественным умением» ведут вперед развитие мастерства, так что простое расположение художников в хронологическом порядке, как это и сделано в «Vite», становится изображением завоеваний искусства. Схема Вазари тут стройна и логична: первая «eta» – детство разбуженных вновь к жизни художеств, их еще робкое высвобождение из tenebre, мрака средних веков: это первые шаги к природе от Чимабуэ, Пизани, Джотто, Арнольфо до конца треченто, этому соответствует и первая часть «Vite»; вторая «eta» (она же вторая часть «Vite») – юность, от Кверча, Мазаччо, Донателло, Гиберти, Брунеллески до конца кватроченто: здесь завоевание naturale достигается овладением анатомией и перспективой, а художественное умение – установлением закономерности приемов (regole, ordine, misura); однако все это еще не согласовано между собой, и искусство этой эпохи жестко, резко и сухо (maniera secca e cruda e tagliente). Наконец, третья эпоха (третья часть «Vite») – расцвет, вершина, подлинное возрождение, «maniera perfetta» – «совершенная манера», полное овладение природой и многообразием техники, «eta d'oro» – «золотой век», где оправдано самое понятие «ренессанс», ибо великие открытия антиков – Лаокоона, Аполлона Бельведерского, торса Геракла и так далее – питают соревнование множества талантов, с великой троицей мастеров в центре – Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, среди которых последний есть вершина вершин, отец трех искусств, «божественный», «divino».
Казалось бы, куда же дальше идти после золотого века, как не вспять? Но тут-то и совершается перестановка межевых знаков: Вазари присоединяет еще четвертую «eta», «дни нашей жизни», но присоединяет по инерции поступательного движения своей схемы. Ни величиной мастеров, ни возвышенностью произведений, ни охватом творчества, ни значительностью техники Вазари уже не может, мало сказать, превзойти предшествующую эпоху, как это ему нужно, но хотя бы приравняться к ней. У него стало еще меньше слов для определений, и его обобщения сделались еще беглее и неопределеннее. Ибо, что такое вазариевское «tempi nostri»? Это Перина дель Ваго, Даниеле да Вольтерра, Россо, Сальвиати – это он сам, Джорджо Вазари, и кое-кто еще, поменьше. Правда, это мог бы быть также Понтормо, но все же только Понтормо, да и Вазари отнесся к нему с таким непониманием, что в своей игре «за наши дни» использовать не сумел. Он не сумел большего: оценить значимость Тинторетто, единственно подлинно великого мастера маньеризма, который мог поддержать плечом его схему. То, что Вазари написал и есть руготня, свидетельствующая, что критериев для четкой «eta» у него, в сущности, не было. la bella maniera dei tempi nostri» это – эклектизм как цель виртуозность как средство; это – Рафаэль в маньеристическом толковании: «Studiando le fatiche dei maestri vecchi о e dei moderili, prese da tutti il meglio» – «Изучая труды старинных мастеров или нынешних, взял он у всех наилучшее это – соединение пышности композиции, invenzione, пестротой исполнения, facilita; так-де он сам, Вазари, в где-нибудь сорок два дня написал в Ареццо фреску «Искушения Эсфири», двенадцати локтей длиной. Если присоединить к этим критериям второстепенные: преизбыточное истолкование ракурсов nudo – нагого тела и «влечение, род…та» к странным формам – «cosa strana», этим зародыши будущих барочных неистовств и чудачеств, – маньеристская программа Вазари будет исчерпана. Ока далека от повернутого, даже философски обосновываемого маньеризма типа Цуккари. Вазари довольствуется тем немногим, что позволяет ему кое-как оправдать точку зрения официального благополучия: мудрые государи правят, искусства по-прежнему цветут, все спокойно в Италии, а неприятности ежели и будут, то лишь apres nous.
Это неустойчивое равновесие противоречий – двустанчество Вазари – сказывается всюду, где ему приходится вы – сказывать сколько-нибудь принципиальное мнение. Так, с одной стороны, он – флорентийско-римский патриот и всю схему своих оценок строит на первенствовании disegno – рисунка линейно – иллюминованной тосканской живописи; с другой – он общеитальянец, новый тип конца чинквеченто, дающий понятие tutta l'Italia, и поэтому чувствует необходимость воздать хвалу сугубой живописности, колоризму школ верхней Италии, венецианцам, и прежде всего Тициану. Но он делает это с оговорками, экивоками, двусмысленностями, свидетельствующими, что свести концы с концами он не может, да и не собирается. Точно так же, с одной стороны, он великий ценитель всякого мастерства, добротного художества; с другой – он проводит деление между высоким искусством, то есть живописью, скульптурой, архитектурой, зиждущимися на «ingegno alto» – «возвышенном помысле», и «художественными ремеслами» – «arte piu basto, artes mechanicae», искусствами низкими, искусствами прикладными, и с ними обходится с высокомерием маньериста, для которого даже в размерах произведения заложена его качественность и небольшая картина уже в принципе хуже большой: так, малые вещи Понтормо, говорит он, были бы хороши, ежели бы были фресками.