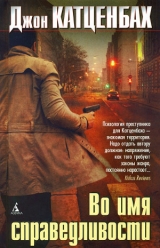
Текст книги "Во имя справедливости"
Автор книги: Джон Катценбах
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
Глава 2
Обитатель камеры смертников
Кауэрт остановил взятую напрокат машину на подъезде к Центральной тюрьме штата Флорида и стал разглядывать высившиеся на другой стороне поля массивные мрачные здания, заключавшие в своих стенах самых страшных преступников штата. На самом деле Центральная тюрьма состояла из двух частей, разделенных маленькой речкой: Союзной исправительной колонии с одной стороны и Рейфордской тюрьмы – с другой. На зеленом лугу паслись стада, и там, где группы заключенных трудились в полях, поднимались облачка пыли. По краям стояли сторожевые вышки, и Кауэрту показалось, что он видит блеск оружия в руках охранников. Он не знал, в каком именно здании находятся камеры смертников и где стоит электрический стул штата Флорида, но ему сказали, что все это где-то в отдельном здании. Поверху двойной ограды из металлической сетки высотой в двенадцать футов извивалась колючая проволока, блестевшая на утреннем солнце. Выйдя из машины, Кауэрт заметил на краю дороги несколько стройных зеленых сосен, вознесшихся в чистое голубое небо, как перст обвинителя. В соснах шумел прохладный ветерок, приятно холодивший виски. Влажная дневная жара еще не наступила.
Журналисту легко удалось убедить Уилла Мартина и других членов редакционной коллегии отпустить его расследовать обстоятельства, повлекшие за собой смертный приговор Роберту Эрлу Фергюсону. Мартин, конечно, что-то фыркнул со скептическим видом, но Кауэрт не дал ему заговорить.
– Неужели ты не помнишь Питтса и Ли? – спросил он Уилла.
Фредди Питтса и Уилберта Ли приговорили к смертной казни за убийство работника бензоколонки на севере Флориды. Оба они сознались в преступлении, которого не совершали. Одному из лучших репортеров «Майами джорнел» пришлось писать о них много лет, прежде чем их освободили. За это ему присудили Пулицеровскую премию. Именно об этом в первую очередь рассказывали каждому молодому репортеру, поступившему на работу в отдел новостей.
– Это совсем другое дело.
– Почему?
– Их приговорили в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году. Тогда здесь все было как сто лет назад. Но с тех пор многое изменилось.
– Неужели? А как насчет того парня в Техасе, которого вытащил из камеры для смертников режиссер-кинодокументалист?
– Это тоже совсем другое дело.
– Так в чем же отличие?
– Хороший вопрос! – рассмеялся Мартин. – Благословляю тебя, сын мой! Поезжай и сам найди на него ответ. И не забывай о том, что, наигравшись в репортера, ты можешь вернуться к нам как в дом родной и снова запереться в башне из слоновой кости, – добавил он и помахал Мэтью рукой.
Кауэрт сообщил в отделе городских новостей о своих планах. Ему пообещали всемерную помощь, если в таковой возникнет необходимость. Кауэрту показалось, что журналисты отдела завидуют ему, потому что потенциальная сенсация свалилась прямо в руки ему, а не им. Кауэрт и сам понимал, что ему повезло: в отличие от сотрудников отдела городских новостей, он будет работать сам по себе. Отдел городских новостей послал бы целую журналистскую команду. В «Майами джорнел», как и в других газетах, и на многих телевизионных каналах, существовала специальная команда, занимавшаяся только журналистскими расследованиями. Обычно такие команды носили пафосные названия вроде «Группа быстрого реагирования» или «Команда журналистов-спасателей». Естественно, с расследованием деликатного дела они справлялись не лучше батальона парашютно-десантных войск, действующего при поддержке батареи полевой артиллерии… Кауэрт понимал, что никто не будет ставить ему конкретных сроков и никакой заместитель главного редактора отдела городских новостей не будет доставать его телефонными звонками и непрерывными вопросами о том, когда же наконец будет готова статья. Журналист мог спокойно все разузнать, обработать на свой вкус собранный материал и написать то, что он думает по этому поводу. Или – ничего не писать, если окажется, что дело не стоит и выеденного яйца.
Кауэрт цеплялся за эту последнюю мысль, подготавливая себя к возможному разочарованию, однако, по мере того как он подъезжал к тюрьме, пульс его учащался. По всей дороге были установлены плакаты, предупреждавшие, что лица, оказавшиеся в данной зоне, будут подвергнуты обыску и, при обнаружении у них огнестрельного оружия или наркотиков, им грозит тюремное заключение. В воротах охранник в серой форме проверил документы Кауэрта, нашел его имя в списке и неохотно позволил ему проехать на стоянку под вывеской «Посетители», где репортер вышел из автомобиля, прошел в административное здание и представился секретарше. Та смутилась, потому что явно засунула куда-то касающиеся его бумаги. Она долго рылась у себя на столе, тихо бормоча извинения, пока не нашла то, что искала. Потом Кауэрт терпеливо ждал в соседнем помещении сотрудника тюрьмы, который должен был проводить его туда, где ему предстояла встреча с Робертом Эрлом Фергюсоном.
Через несколько минут в комнату вошел немолодой седовласый мужчина со стрижкой и выправкой морского пехотинца. Протянув Кауэрту огромную мозолистую ладонь, он представился:
– Сержант Роджерс, дежурный по камерам смертников.
– Очень приятно.
– Мистер Кауэрт, извините, но существуют еще кое-какие формальности…
– Например?
– Мне нужно досмотреть вас. Кроме того, я должен осмотреть ваш магнитофон и ваш чемоданчик. А еще вам нужно подписать заявление на тот случай, если вас возьмут в заложники…
– Вы о чем?
– Там просто говорится, что вы входите в Центральную тюрьму штата Флорида по собственному желанию и, если вас здесь возьмут в заложники, вы не подадите за это на штат Флорида в суд и не будете требовать принятия чрезвычайных мер к вашему освобождению.
– Чрезвычайных мер?
Сержант Роджерс рассмеялся и взъерошил свои коротко остриженные волосы.
– Речь идет о том, что вы не требуете, чтобы мы рисковали ради вас своей жизнью, – пояснил он.
– По-моему, подписывать такой документ не совсем в моих интересах, – притворно поморщился Кауэрт.
– В тюрьму вообще почти никогда не попадают в собственных интересах, – улыбнулся в ответ сержант Роджерс. – Не считая тех лиц, которые после дежурства едут из нее домой.
Взяв протянутую ему бумагу, Кауэрт подписал ее и, оставляя широкий росчерк, усмехнулся:
– Вы меня почти запугали.
– Что вы! Ни о чем не беспокойтесь, – ответил сержант Роджерс, методично обыскивая чемоданчик журналиста. Он открыл магнитофон, осмотрел его внутри, включая отделение для батареек, чтобы убедиться в отсутствии там посторонних предметов. – Вы ведь к Роберту Эрлу Фергюсону, а он настоящий джентльмен и совсем не псих. Вот если бы вы пришли к Вилли Артуру или Спексу Уилсону – это те байкеры из Форт-Лодердейла, выпотрошившие девушку, которая попросила их подвезти ее домой, – или к Хосе Салазару, который прикончил двоих полицейских, помогавших ему сбывать наркотики, тогда другое дело. Кстати, вы в курсе того, что Салазар с ними сделал, прежде чем их убить? А точнее, что он заставил их сделать друг с другом? Поинтересуйтесь, и узнаете много о том, на что, оказывается, способны люди. У нас тут полно таких субъектов. Любопытно, что большинство из них из ваших краев, из Майами. С какой стати вы там друг друга так зверски убиваете?
– Я и сам этому поражаюсь…
Кауэрт подмигнул сержанту Роджерсу, а тот подмигнул в ответ, попросил поднять руки и промолвил:
– Да, без чувства юмора здесь хана…
С этими словами сержант профессионально ощупал карманы Кауэрта.
– Ну ладно, – сказал наконец Роджерс. – Послушайте правила поведения. Вы будете разговаривать с глазу на глаз. Я буду стоять прямо за дверью, на всякий случай. Если понадобится помощь – кричите. Но она вам не понадобится, потому что Фергюсон не псих. Вы будете общаться в апартаментах класса люкс…
– Где?!
– В апартаментах класса люкс. Так мы называем помещение для свиданий, куда пускают тех, кто отличился примерным поведением. Конечно, там есть только стол и стулья, на бар с напитками не рассчитывайте. Однако для встреч с хулиганами используется помещение, которое понравилось бы вам еще меньше… Фергюсон будет свободен. У него не будет даже цепей на ногах. Однако вы не должны вступать с ним в физический контакт…
– Что вы имеете в виду?
– Если хотите, можете угостить его сигаретой…
– Я не курю.
– Молодец! Вы можете взять у него бумаги, если он подаст вам какие-нибудь документы. Но если вы сами захотите ему что-нибудь передать, это нужно делать через меня.
– А что мне ему передавать?
– Не знаю. Например, напильник, ножовку по металлу и карту окрестностей.
Не веря своим ушам, Кауэрт вытаращил глаза на сержанта Роджерса.
– Да шучу я, шучу! – всплеснул руками тот. – Хотя об этом мы тут стараемся не шутить. В побеге нет ничего смешного. А ведь совершить побег из тюрьмы можно самыми разными способами. Сбежать можно даже из камеры смертников. Многие из заключенных думают, что встреча с журналистом – первый шаг к побегу.
– Они что, думают, что журналисты помогут им бежать?!
– Скорее, что журналисты способны вытащить заключенных отсюда. Каждый преступник хочет, чтобы газеты подняли шумиху вокруг его дела. Заключенные думают, что чем больше они будут выть и скулить, тем больше шансов, что их дело будет пересмотрено. А ведь так порой и бывает. Вот почему работники тюрьмы вроде меня не любят, когда сюда приезжают журналисты. Мы терпеть не можем ваши блокнотики, съемочные группы и осветителей. Все это мышиная возня, много шума из ничего. Часто думают, что заключенные в тюрьме страдают потому, что их лишили свободы. Ничего подобного. Больше всего они страдают из-за того, что им подают надежду, а потом их ожидания не сбываются. Для журналистов они – просто материал еще для одной статьи. А для заключенных это почти дело жизни или смерти. Они надеются, что вам достаточно написать про них всего одну статью так, как им нужно, и они тут же окажутся на свободе. Мы-то с вами прекрасно знаем, что так почти никогда не бывает, а заключенные переживают страшное разочарование, бесятся, сходят с ума. А у нас из-за этого бывает с ними столько хлопот, что вы и представить не можете. А хлопоты нам не нужны. Мы хотим спокойно работать. Нам не нужны несбыточные надежды заключенных. Нам не нужны их невероятные мечты. Мы хотим, чтобы завтра все было точно так же, как и вчера. Наверное, вы думаете, что нам очень скучно? Бывает. Но поверьте, бунт в тюрьме – сомнительное развлечение.
– Но ведь я приехал сюда просто проверить несколько фактов.
– Опыт подсказывает мне, мистер Кауэрт, что есть всего два факта – рождение и смерть. Но вы не волнуйтесь, я не такой зануда, как некоторые мои сослуживцы. Я даже люблю, когда происходит что-нибудь новенькое. В разумных пределах, разумеется. Но очень вас прошу: не передавайте ничего Фергюсону. Ему будет от этого только хуже.
– Что может быть хуже, чем сидеть в камере смертников?
– Постарайтесь понять, что даже в камере смертников жизнь может течь по-разному. При желании мы можем сделать так, что заключенный станет умолять, чтобы его завтра же посадили на электрический стул. Сейчас Фергюсону живется неплохо. Разумеется, его камеру тщательно обыскивают каждый день. После вашего милого разговора его разденут догола и тоже обыщут. Но сейчас ему разрешают гулять во дворе, читать книги и все такое прочее. Уверяю вас, даже в тюрьме заключенному есть что терять.
– У меня для него ничего нет. Но вот он может захотеть передать мне какие-нибудь бумаги или что-нибудь еще.
– Да ради бога! У нас тут полно ненужного хлама! – с чувством расхохотался сержант Роджерс. – Кроме того, вы должны сказать мне, сколько продлится ваш разговор.
– Понятия не имею.
– Ну и ладно. Я свободен все утро. Говорите сколько хотите. Потом я даже свожу вас на экскурсию. Вы когда-нибудь встречались со Старым Спарки? [3]3
Старый Спарки– прозвище электрического стула (от англ.spark – «искра»).
[Закрыть]
– Нет.
– Вы много потеряли, но познакомиться с ним никогда не поздно. – С этими словами сержант встал на ноги. Он был широкоплечим, дюжим мужчиной. По его манере держать себя можно было догадаться, что в жизни он не раз попадал в передряги, но всегда выходил из них победителем. – Знакомство со Старым Спарки заставляет о многом задуматься…
Кауэрт проследовал за сержантом Роджерсом, чувствуя себя пигмеем, прячущимся за его необъятную спину.
Репортера провели сквозь ряд запертых дверей и сквозь металлоискатель, за которым следил другой охранник, подмигнувший Роджерсу. Наконец они с сержантом оказались в самом центре напоминавшей колесо тюрьмы. Здесь сходились вместе корпуса, как бы служившие спицами этого колеса. Только сейчас Кауэрт понял, что уже довольно долго слышит типичные тюремные звуки – непрерывную какофонию из громких голосов и металлического лязга открывавшихся и тут же снова захлопывавшихся и запиравшихся железных дверей. Где-то по радио звучала музыка в стиле кантри. Где-то по телевизору шел сериал. Кауэрт слышал голоса актеров и навязчивую музыку рекламных роликов, от которой было никуда не деться даже в тюрьме. Репортеру казалось, что вокруг снует множество людей, что он захвачен их потоком, как сильным речным течением, но на самом деле рядом с ним почти никого не было, кроме сержанта Роджерса и еще двоих охранников в небольшой будке в самом центре помещения. Внутри будки журналист заметил пульт, лампочки на котором отмечали открытые и закрытые двери. На телевизионных мониторах мелькали передаваемые прикрепленными на потолке камерами серые изображения со всех этажей, на которых находились камеры. Кауэрт обратил внимание на пол, покрытый безупречно чистым, но изрядно потертым бесконечной вереницей прошедших по нему ног желтым линолеумом. Какой-то человек в синем спортивном костюме остервенело драил грязной серой шваброй один и тот же давно чистый угол.
– Это корпуса «Q», «R» и «S», – объяснил сержант. – Здесь находятся камеры смертников. Надо сказать, что им у нас уже начинает не хватать места. Это кое о чем говорит, правда? Электрический стул установлен вон там. Внешне тут все так же, как и в других корпусах тюрьмы, но это только кажется.
Кауэрт стал разглядывать длинные коридоры с высокими потолками. Слева высились камеры в три этажа. С обоих концов на каждый этаж вело по лестнице. На противоположной стене было три ряда грязных окошек, которые открывались на проветривание. Между камерами и стеной с окошками зияла пропасть. Людям, сидевшим в этих маленьких камерах, был виден только маленький кусочек неба в окошки напротив. До этих окошек было футов тридцать, которые в данном случае ничем не отличались от сотен тысяч миль. При мысли об этом Кауэрт содрогнулся.
– А вон и мистер Фергюсон, – сказал сержант.
Обернувшись, репортер увидел, что Роджерс показывает пальцем на камеру в дальнем конце этажа, похожую на маленькую клетку. Четыре человека, сидевшие в клетке на металлической скамье, смотрели на журналиста. На троих были такие же синие спортивные костюмы, как и у уборщика со шваброй. На четвертом был ярко-оранжевый спортивный костюм. Этот человек сидел дальше всех, и Кауэрту его было плохо видно.
– Если вас нарядили в оранжевый костюмчик, это значит, что ваши дни сочтены, – негромко пояснил Роджерс.
Репортер направился было к клетке, но сержант сжал его плечо железными пальцами:
– Не туда. Помещение для свиданий вон там. Если к заключенным приходят, мы обыскиваем их и составляем список всего, что у них имеется при себе. У них бывают бумаги, своды законов и так далее. Потом заключенных изолируют в этой клетке. Потом их отводят на свидание. После свидания их снова обыскивают и выясняют, что у них пропало, а что появилось. Все это очень долго, но безопасность – прежде всего. Мы не желаем рисковать.
Кауэрт кивнул, и его провели в помещение для свиданий – с белыми стенами, стальным столом в центре и двумя старыми обшарпанными коричневыми стульями. На одной из стен висело зеркало. На столе стояла пепельница. Больше в помещении ничего не было.
– Вы будете видеть нас сквозь это зеркало? – спросил Кауэрт.
– Разумеется, – ответил Роджерс. – Вы не против?
– Нет… Кстати, вы уверены, что это и есть апартаменты класса люкс? – улыбнулся репортер. – Признаться, у нас в Майами такого рода апартаменты выглядят чуть более роскошно.
– Я в этом не сомневался, – рассмеялся сержант. – Но в провинции все чуть-чуть скромнее, чем в Майами.
– Ну ничего, – сказал журналист. – Я не очень капризный. – С этими словами он уселся на стул и стал ждать Фергюсона.
Роберт Эрл Фергюсон оказался молодым человеком лет двадцати пяти, ростом под метр восемьдесят, по-юношески худощавым; дохляк обладал, однако, изрядной силой, ощущавшейся в его рукопожатии. Узкими плечами и бедрами напоминал он бегуна на длинные дистанции. Двигался он легко и непринужденно, как настоящий спортсмен. Темная кожа, коротко остриженные волосы и пронзительный взгляд живых выразительных глаз. Мэтью Кауэрту показалось, что заключенный видит его насквозь.
– Спасибо, что приехали, – сказал Роберт Эрл Фергюсон.
– Не за что.
– Думаю, мне еще будет за что вас поблагодарить, – уверенно заявил заключенный.
При нем была пачка каких-то документов. Он аккуратно выложил их перед собой на стол и покосился на сержанта Роджерса, который кивнул, повернулся кругом, вышел и захлопнул за собой дверь.
Кауэрт извлек блокнот и авторучку, поставил в центр стола магнитофон.
– Вы не возражаете? – спросил он у Фергюсона.
– Нет, – ответил тот, – магнитофон очень пригодится.
– Почему вы мне написали? – спросил Кауэрт. – Мне просто любопытно это знать. Например, откуда вы вообще узнали обо мне?
Фергюсон улыбнулся, раскачиваясь на стуле. Репортеру показалось странным его непринужденное поведение в этот момент, от которого могла зависеть его жизнь или смерть.
– В прошлом году вы получили премию Ассоциации адвокатов Флориды за ряд больших статей против смертной казни. Ваша фамилия упоминалась в газете из Таллахасси, которую мне дал почитать заключенный из другой камеры смертников. Вот я и подумал о вас. Вы же работаете в самой большой и влиятельной газете штата!..
– А почему вы не сразу мне написали?
– Честно говоря, я думал, что апелляционный суд отменит мой приговор. Когда этого не произошло, я обратился к другому адвокату, а точнее, мне дали другого адвоката, и я активней взялся за дело. Видите ли, мистер Кауэрт, даже когда меня признали виновным и приговорили к смерти, мне казалось, что все это происходит не со мной. Я был как во сне. Мне казалось, что я вот-вот проснусь и снова окажусь в университете. Я все время ждал, что кто-то придет и скажет: «Все, хватит! Это нелепая ошибка!» Конечно, я зря этого ждал. Я и не представлял себе, как отчаянно мне придется бороться за собственную жизнь. Теперь я наконец понял, что, кроме меня самого, никто за нее бороться не будет.
Кауэрт мысленно усмехнулся, подумав, что этот афоризм нужно вставить в самое начало статьи.
Фергюсон подался вперед и оперся руками о стол, но тут же снова откинулся назад, чтобы ничто не мешало ему красноречиво жестикулировать. У него был мелодичный голос, и говорил он решительно, отчего слова звучали особенно веско. При этом Фергюсон расправил плечи, словно уверенность в собственной правоте окрыляла его. Из-за этого помещение, в котором они сидели, сразу показалось журналисту маленьким – такую силу излучал Фергюсон.
– Видите ли, мне казалось, что быть ни в чем не повинным вполне достаточно для того, чтобы все закончилось хорошо, – говорил заключенный. – Я был уверен, что мне не нужно ни в чем оправдываться. Однако, попав сюда, я многое понял. Очень многое.
– Например?
– У тех, кто сидит в камерах смертников, есть разные способы обмениваться информацией об адвокатах, результатах апелляций, помилованиях и других вещах такого рода. Те, кто сидит там, – сказал Фергюсон, кивнув в сторону обычных камер, – все время думают о том, что они будут делать, когда выйдут на свободу. В крайнем случае они замышляют побег. Они думают о том, как бы им поскорее отсидеть свой срок, и о том, как бы устроиться в тюрьме получше. Они могут позволить себе мечтать о будущем, пусть и о будущем за решеткой. Кроме того, они всегда могут мечтать о свободе. А еще, на свое счастье, они могут пребывать в блаженном неведении о своем будущем…
У нас все по-другому. Мы знаем, что нас ждет. Мы знаем, что настанет день, и власти штата прошьют нам мозг напряжением в две тысячи пятьсот вольт. Мы знаем, что нам осталось жить лет десять, а может, и пять. Мысль об этом висит над нами как дамоклов меч, от которого не увернешься. Это очень страшно. Минуты оставшейся жизни улетают со страшной скоростью, и так хочется не растратить их попусту. Перед сном лежишь и думаешь: «Вот и еще один день прошел». А утром лежишь и думаешь: «Вот и еще одна ночь прошла». Все эти пролетевшие мгновения страшным грузом ложатся на плечи. Вот поэтому-то у нас все по-другому…
Фергюсон замолчал. Кауэрт сидел и прислушивался к собственному дыханию – такому тяжелому, словно он только что взбежал на шестой этаж.
– Вы рассуждаете как настоящий философ, – проговорил наконец журналист.
– В камере смертников все становятся философами. Даже настоящие психи, которые все время орут и воют. Даже дебилы, которые почти не понимают, что с ними происходит. Нас всех одинаково гнетут последние мгновения жизни. Просто те из нас, кто получил хоть какое-то образование, лучше могут выразить свои чувства. В остальном же мы тут все одинаковы.
– Вы изменились в тюрьме?
– Как же тут не измениться!
Кауэрт кивнул.
– Когда мою первую апелляцию отклонили, некоторые из тех, кто сидит тут, в камере смертников, уже пять, восемь или даже десять лет, стали убеждать меня в том, что мне нужно самому о себе позаботиться. Я ведь еще молод, мистер Кауэрт, и не хочу провести здесь остаток жизни. Поэтому я добился более грамотного адвоката и написал вам письмо. Мне нужна ваша помощь.
– Мы поговорим об этом через минуту…
Кауэрта охватило смятение. Он старался соблюдать своего рода профессиональную дистанцию, но уже не знал, до какой степени. Еще дома он прикидывал, как ему вести себя с Фергюсоном, но так ничего и не придумал. Сейчас он чувствовал себя не в своей тарелке: напротив сидел человек, приговоренный к смертной казни за убийство, они находились в самом сердце тюрьмы, чьи заключенные совершили ужасные преступления, но не желали признавать себя виновными.
– А теперь расскажите что-нибудь о себе. Вы же из Пачулы. Почему у вас нет характерного провинциального произношения?
– Если вас это развлечет, – сказал Фергюсон и стал растягивать слова с настоящим южным акцентом, – я могу говорить как самый тупой вонючий негр, всю жизнь ковыряющий мотыгой грязь на краю болота. – С этими словами он откинулся на спинку стула, расслабился и стал лениво покачиваться на нем, как в кресле-качалке. Потом, внезапно подавшись вперед, он заговорил совсем по-другому, резко и отрывисто: – Знаете, мистер, я еще могу говорить так, как говорит городская шпана, потому что образ жизни таких людей мне тоже знаком.
Столь же внезапно Фергюсон снова преобразился. Теперь перед журналистом, опершись локтями о стол, сидел серьезный, решительный человек, говоривший совершенно нормальным голосом.
– Кроме того, – заявил Фергюсон, – я могу говорить так, как это обычно делаю, – как человек, окончивший колледж и учившийся в университете. Как человек, которого, возможно, ждала неплохая карьера. Ибо все именно так и было.
Кауэрт опешил: Фергюсон не просто говорил на разные голоса – каждый раз, когда он говорил по-другому, он неуловимо преображался внешне. Журналист с трудом верил, что это один человек. В быстрой последовательности перед ним прошли невежественный чернокожий земледелец, хулиган из городских трущоб и студент престижного университета.
– Невероятно, – пробормотал Кауэрт. – У вас незаурядные актерские способности.
– Видите ли, – объяснил Фергюсон, – эти три манеры речи отражают три мои внутренние сущности. Я родился в городе Ньюарке, штат Нью-Джерси. Мама была прислугой. Каждый божий день в шесть утра она садилась на автобус и уезжала в пригороды, где прибиралась в домах белых. Возвращалась она только поздно вечером. Папа служил в армии и пропал без вести, когда мне было три или четыре года. Они с мамой так никогда и не поженились. А когда мне исполнилось семь лет, мама умерла. Говорят, от инфаркта, но я точно не знаю. Однажды утром она сказала, что ей трудно дышать. Она с трудом держалась на ногах, но кое-как пошла в больницу. Больше я ее никогда не видел… Меня отправили к бабушке в Пачулу. Вы представить себе не можете, что я почувствовал, попав из грязного городского гетто на природу, где росли зеленые деревья и текли прозрачные реки! Мне казалось, что я в раю, хотя у бабушки в доме не было ни водопровода, ни канализации. Это были самые счастливые годы моей жизни! Я ходил в школу пешком через лес, а по вечерам читал при свече. Мы ели рыбу, которую я сам ловил. Казалось, я перенесся в другую эпоху. Я хотел остаться в Пачуле навсегда, но потом бабушка заболела. Она боялась, что ей будет за мной не приглядеть, и меня отправили назад в Ньюарк, к тете и ее новому мужу. В Ньюарке я окончил школу и поступил в колледж, но мне очень нравилось ездить на каникулы в гости к бабушке. Всю ночь я ехал на автобусе из Ньюарка до Атланты, где пересаживался на другой междугородный автобус, до Мобила, а оттуда ехал на местном автобусе в Пачулу. Мне не нравились города. Я всегда думал о том, как хорошо было бы жить в Пачуле. Особенно мне не нравился Ньюарк… Это проклятые автобусы во всем виноваты, – печально усмехнувшись, покачал головой Фергюсон. – Это автобусы меня погубили…
– В каком смысле?
– Поездка на автобусах из Ньюарка до Пачулы занимала почти тридцать часов. Сначала автобус едет по автостраде, но потом он начинает заезжать во все города по пути и еле ползет. Кто ездит на таких автобусах? Бедняки, у которых нет денег на самолет. Теперь представьте себе набитый потными, вонючими людьми автобус, который трясется по плохому асфальту. Представьте себе при этом, что вам хочется в туалет и вас уже укачало… Поэтому-то я и купил машину. Подержанный «форд-гранада» темно-зеленого цвета. Я купил его за тысячу двести долларов у другого студента, с пробегом всего шестьдесят шесть тысяч миль. Конфетка! Я обожал рассекать на своей машине… Но если бы не эта машина, детективы, искавшие убийцу девочки, никогда не обратили бы на меня внимания.
– Можно об этом поподробнее?
– Подробностей как таковых мало. Днем того дня, когда убили девочку, я сидел дома с бабушкой. Она может это подтвердить, только ее никто не спрашивал…
– А вас кто-нибудь еще видел в это время дома? Кто-нибудь, не являющийся вашим родственником?
– Нет, никого не помню. Мы с бабушкой были вдвоем. Если вы к ней съездите, вы сами все поймете. Ее старая хибара стоит на отшибе. Чтобы туда попасть, нужно пройти примерно полмили по грязной грунтовой дороге.
– Ну и что же произошло?
– Вскоре после того, как был обнаружен труп девочки, за мной явились двое детективов. Я как раз мыл перед домом машину. Мне так нравилось, когда она сверкала на солнце! И вот в середине дня они явились ко мне и стали спрашивать, что я делал два дня назад. Они все время смотрели то на меня, то на мою машину и, по-моему, совсем не слушали мои ответы.
– Что это были за детективы?
– Браун и Уилкокс. Я знал этих мерзавцев. Я знал, что они меня ненавидят. Мне нельзя было им верить.
– Откуда вы это знали? Почему вы думаете, что они вас ненавидят?
– Пачула маленький городок. И кое-кто в нем просто терпеть не может все, что выходит из ряда вон. А ведь там все знали, что, в отличие от Пачулы, у меня есть будущее. Все знали, что я не собираюсь гнить вместе с ними, и это им жутко не нравилось. Думаю, я страшно раздражал их своим образом жизни…
– И что же сделали эти детективы?
– Я ответил на их вопросы, и они сказали, что я должен дать показания в полиции. Вот я с ними и поехал. Даже слова не сказал. Знай я тогда, чем это для меня закончится!.. Видите ли, мистер Кауэрт, я был уверен в том, что мне нечего бояться. Я даже почти не понял, что это за показания. Они сказали мне, что один человек пропал без вести. Они ничего не говорили об убийстве…
– Ну и?..
– Как я вам уже писал, следующие тридцать шесть часов я вообще не видел дневного света. Меня посадили в маленькую комнату вроде этой и спросили, нужен ли мне адвокат. Я все еще не понимал, о чем идет речь, и отказался от адвоката. Они положили передо мной перечень моих конституционных прав и велели мне его подписать. Какой же я был дурак! Я должен был сразу понять, что, если негра сажают в такую комнату, ему оттуда не выйти, пока он не скажет того, чего от него хотят, даже если на самом деле он ничего не делал. – Было видно, что теперь Фергюсону не до шуток, он с трудом сдерживал гнев.
Захваченный его рассказом, Кауэрт слушал затаив дыхание.
– Браун изображал доброго полицейского, а Уилкокс – злого. Самая дешевая уловка на свете! – Фергюсон чуть не сплюнул от негодования.
– Ну и?..
– Посадив меня на стул, они стали задавать мне разные вопросы. Они спрашивали меня о пропавшей девочке, а я отвечал им, что ничего о ней не знаю. Но они не унимались. Так прошел весь день. Наступила ночь. А они продолжали задавать мне одни и те же вопросы с таким видом, словно мое слово «нет» ничего для них не значит. Они не водили меня в туалет, не давали мне ни есть ни пить. Я не знаю, сколько прошло часов, пока они наконец не вышли из себя. Они стали что-то орать, угрожать мне, и вдруг Уилкокс ударил меня по лицу. Наклонившись ко мне, он прошипел: «Ну что, теперь будешь меня слушать, подонок?!»
Искоса взглянув на журналиста, словно желая понять, какое впечатление производит его рассказ, Фергюсон продолжал ровным голосом, в котором звучала горькая обида:
– Я и так старался его слушать, хотя он и орал как оглашенный. Лицо у него побагровело. Он производил впечатление ненормального… «Что ты сделал с девочкой?! – орал он. – Говори, что ты с ней сделал!» Браун вышел из комнаты, и я остался один на один с этим сумасшедшим… «Говори! Ты сначала изнасиловал ее, а потом убил или сначала убил, а потом изнасиловал?!» Он повторял это без конца много часов, а я все время отвечал: «Нет! Нет! Нет! О чем вы?! О чем вы говорите?!» А он показывал мне фотографии девочки и твердил: «Тебе понравилось? Тебе нравилось, что она отбивается? Тебе нравилось, как она кричит? Тебе понравилось воткнуть в нее нож в первый раз? Тебе понравилось втыкать в нее нож в двадцатый раз?» – Фергюсон с трудом перевел дыхание. – Время от времени он уходил, оставляя меня в маленькой комнате без окон, прикованным к стулу наручниками. Может, он ходил поспать или перекусить. Он отсутствовал минут по пять. Потом его не было полчаса или даже больше. Потом я сидел там один часа два. Я просто сидел. Я был настолько испуган и ошарашен, что не мог ничего предпринять… В конце концов он пришел в ярость оттого, что я не желаю сознаваться, и начал меня избивать. Сначала он время от времени бил меня по голове и по спине. Потом он поднял меня на ноги и ударил кулаком в живот. Я с трудом устоял на ногах. Меня трясло. Меня не водили в туалет, и я обмочился. Когда он взял телефонную книгу и скатал ее в трубку, я сначала не понял, зачем он это сделал. Оказалось, что телефонная книга не хуже бейсбольной биты. Одним ударом он сшиб меня с ног.








