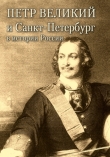Текст книги "Россия: народ и империя, 1552–1917"
Автор книги: Джеффри Хоскинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Таким образом, существовало несколько различных версий того, что называется «единение царя и народа». В 1860–1870-е годы появилась влиятельная общественная группа, предложившая собственное понимание Российской империи. Они видели обновление национального сознания в оказании помощи славянским и православным народам Центральной и Восточной Европы по созданию национальных государств, для чего ей предстояло возглавить крестовый поход славян против Османской империи и империи Габсбургов.
Панславизм был ответом на дилемму, вставшую перед Россией после Крымской войны. Когда началась перекройка карты Европы, и народы, прежде разделённые политическими границами, стали объединяться, многим показалось, что Россия может компенсировать недавние неудачи развитием отношений со славянскими и православными народами Европы и, возможно, заключением с ними некоего политического альянса или даже полного союза. Последнее предложение имело свой аспект: если в состав империи будут включены другие славяне, они укрепят численное преобладание славян в её границах и, вероятно, облегчат переход к какой-нибудь форме демократического государства, может быть, с национальным собранием или Земским Собором, в котором преобладали бы славяне.
Привлекательность панславизма усиливало присутствие в нём мессианского элемента. Стихотворение Фёдора Тютчева «Русская география», написанное в 1849 году, является примером характерных возвышенных устремлений, географической неопределённостью ощущения исторической и религиозной миссии:
Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? И где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги до Евфрата, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Мессианские настроения были преобразованы в культурно-историческое пророчество Николаем Данилевским в его «России и Европе» (1869). Данилевский полагал, что период римско-германского влияния в Европе, погрязшей в коррупции, материализме и фракционности, приближается к концу и на смену придёт господство славяно-православной культуры, которая «представляла органическое единство… скрепленное не искусственным политическим механизмом, но глубоко укоренившейся народной верой в царя».
По мнению Данилевского, новая славянская цивилизация, со столицей в Константинополе, представит собой синтез высших достижений своих предшественников в религии (Израиль), культуре (Греция), политическом устройстве (Рим) и социально-экономической сфере (Европа) и дополнит их славянским духом социальной справедливости. «На обширных равнинах Славянства должны слиться все эти потоки в один обширный водоём».
Это была мессианская геополитика, а образ последней, самой совершенной земной империи со столицей во «Втором Риме» вызывал воспоминания о старом русском мифе.
Этнографическая выставка в Москве в 1867 году стала первым форумом панславистов, на котором обсуждались вопросы практической политики. Михаил Катков убеждал собравшихся, что Россия должна сыграть роль Пруссии в Германии, сведя всех собравшихся в единое государство. Такая кампания «завершит торжество национального принципа и заложит надёжный фундамент современного равновесия в Европе».
Ректор Московского университета объявил: «Давайте объединимся, как Германия и Италия, и имя объединённой нации будет: Великан!» Он призвал к созданию общего панславянского языка: «Пусть один литературный язык покрывает все земли от Адриатического моря и от Праги до Архангельска и Тихого океана, и пусть каждая славянская нация… воспримет этот язык как средство общения с другими». Не приходится сомневаться, что ректор имел в виду русский язык.
Не все присутствовавшие славяне согласились безропотно принять российскую гегемонию. Чехи, Палацки и Ригер, призвали к примирению России и Польши, причём к примирению, основанному на уступках обеих сторон. Однако русские упрямо стояли на своём, доказывая, что с 1815 года делали всё возможное, чтобы у поляков было своё национальное государство, но наталкивались на неблагодарность, на восстания и на попытки присвоить российскую территорию. Споры на форуме высветили одну из неизбежных дилемм панславизма – те, кому он был предназначен служить, отвергали кардинальные элементы программы и не желали становиться частью Российского государства, не гарантировавшего сохранение демократии. В этом отношении особенно, непримиримую позицию занимали поляки, пропитанные духом римского католицизма и имевшие достаточный опыт общения с Россией.
В 1871 году, с образованием Германской империи, панславизм стал все более недвусмысленно превращаться в доктрину Realpolitik, средство сдерживания экспансии германского влияния в Центральной и Восточной Европе. Генерал Р. Фадеев полагал, что наступило время решающего противостояния немцев и славян: Россия, считал Фадеев, должна либо контратаковать, используя славянские связи, и ослабить союзника Германии, Австрию, либо отступить за Днепр и стать преимущественно азиатской державой. При поддержке славянских народов у русских откроется путь в Константинополь, который генерал предлагал объявить открытым славянским городом. Для него панславизм являлся необходимой предпосылкой для сохранения Россией статуса великой европейской державы: «Славянство или Азия», – любил повторять он российским дипломатам.
Те, однако, вовсе не спешили принять логику его позиции, и Фадеев был отставлен от активной службы за распространение своих идей. Официальная точка зрения Министерства иностранных дел состояла в том, что для укрепления легитимности монархического принципа в Восточной Европе и сохранения стабильного баланса сил России следует сотрудничать с Германией и Австрией, противодействуя революционным движениям, в том числе и националистическому. Российское правительство никогда последовательно не поддерживало панславизм, так как такая политика привела бы страну к войне с Габсбургами и Османами, а возможно, даже вызвала бы всеобщую европейскую войну. Кроме того, по существу это была революционная стратегия, направленная против легитимных суверенных государств. Для Российской империи поддержка принципа мятежного национализма, по меньшей мере, была чревата внутренними потрясениями.
Тем не менее сербское и болгарское восстания 1875–1876 годов против османского правления стали удобным предлогом для панславянской агитации и доставили российскому правительству немало проблем. Армейские офицеры, светские дамы и купцы создали «Славянские благотворительные общества», которые проводили собрания, собирали деньги и даже начали запись добровольцев в сербскую армию. Достоевский, как мы уже видели, призывал к войне против турок, считая её средством достижения «вечного мира». Власти решили, что не могут осудить подобные действия, и дали согласие, чтобы русские офицеры вступали в сербскую армию: среди них был и друг Фадеева, генерал Михаил Черняев, вскоре ставший символическим героем панславистов.
Поражение сербов поставило российское правительство перед острой дилеммой. Вместе с другими европейскими державами Россия пыталась навязать Османской империи программу реформ, способных устранить или, по меньшей мере, смягчить те причины недовольства, которые и вызвали восстание. Турки всячески сопротивлялись предложениям, и это ставило Россию перед выбором: либо помочь сербам и болгарам, либо утратить влияние на Балканах.
Таким образом, Россия в конце концов ответила на панславистские призывы и объявила войну Турции, думая скорее о сохранении своей позиции в европейском балансе сил, чем о целях панславистов. На одном из заседаний Славянского благотворительного общества Иван Аксаков объявил русско-турецкую войну «исторической необходимостью» и добавил, что «никогда ни к какой войне не относился народ с таким сознательным участием».
Действительно, войну поддержали многие крестьяне, видевшие в ней помощь православным братьям в борьбе с жестокими неверными. Один крестьянский староста из Смоленской губернии вспоминал через много лет, что крестьяне часто задавали друг другу вопрос, почему «царь-батюшка» допускает, чтобы его православный народ страдал от неверных турок, и встретили вступление России в войну с удовлетворением и облегчением. Но не у всех представление о войне было таким ясным: в письмах из той же губернии помещик Александр Энгельгардт отмечал, что крестьяне проявляют к войне большой интерес, но объясняют её по-своему: «Турки обеднели, все бунтует. Нужно его усмирить». Так или иначе, крестьяне поставили необходимое количество добровольцев и оказали немалую помощь деньгами, продовольствием и рабочей силой.
Благодаря панславизму первым российским героем эпохи масс-медиа стал генерал М.Д. Скобелев. Герой Шипки (1877) и Геок Тепе (1881), Скобелев получил известность благодаря блестящим победам, одержанным вопреки приказам сверху, и за обличение ползучего германского влияния при дворе. Прославленный как «славянский Гарибальди», Скобелев носил белый мундир, разъезжал на белом жеребце и всегда имел при себе одного-двух журналистов. Портрет генерала продавался всеми уличными торговцами. В 1882 году, после смерти, случившейся при весьма подозрительных обстоятельствах, газеты вознесли Скобелева в ранг мученика. В некотором смысле, как заметил американский историк Ганс Роггер, Скобелев олицетворял «неосознанное стремление к нединастическому национализму», национальному сознанию, коренящемуся в среде рабочих, крестьян и торговцев. Такой национальный символ скрывал в себе, между прочим, протест против существующих элит.
Однако каково бы ни было настроение масс, правительство вовсе не собиралось использовать плоды военной победы над Османами так, чтобы это ставило под угрозу европейский баланс сил. Сан-Стефанский договор с Турцией, подписанный в марте 1878 года, возводил Россию в ранг гаранта реформ в Османской империи и предусматривал создание Болгарского государства с выходом к Эгейскому морю и включением в него почти всей Македонии. Однако когда другие европейские державы выступили против подобного усиления российского влияния на Балканах, Министерство иностранных дел отступило и согласилось на проведение международного конгресса в Берлине для пересмотра границ. В результате территория Болгарии была урезана и разделена на два государства, а Македония осталась под властью турок; Россия также утратила право считаться «гарантом» реформ в Оттоманской империи.
На банкете Славянского благотворительного общества в июне 1878 года Иван Аксаков яростно выступил против решений Берлинского конгресса, назвав его «открытым заговором против русского народа», заговором «с участием самих представителей России!»
Тем не менее в результате войны и последующих дипломатических манёвров Россия вновь получила плацдарм в устье Дуная (аннексировав Южную Бессарабию, утраченную после Крымской войны) и приобрела важную территорию на Кавказе, включая порт Батуми, позднее сыгравший важную роль в развитии нефтяной промышленности. В Европе на некоторое время восстановилось относительное равновесие. Однако на фоне блестящих – пусть и мимолётных – достижений Сан-Стефано все эти приобретения казались панславистам незначительными.
Панславизм представлял собой попытку сблизить империю и народ с помощью агрессивной, национально ориентированной и полудемократической внешней политики по образу немецкой унификации. Но, получив значительную поддержку в образованных кругах общества и в прессе, панславизм всё же остался лишь частично понятным большинству простых россиян и, в любом случае, нёс в себе значительный элемент социального протеста. Самое главное – панславизм плохо подходил многонациональной империи, страшившейся демократии, войны и этнического конфликта, а потому так и не стал официальной политикой.
Демократический аспект панславизма также был неприемлем для России в качестве практической внутренней политики. Наиболее близко подошёл к этому бывший посол в Константинополе и тогдашний (1882) министр внутренних дел граф Н.П. Игнатьев, когда предложил оживить Земский Собор. Идея состояла в том, чтобы на Пасху 1883 года короновать царя в новом соборе Христа Спасителя в Москве в присутствии Собора, состоящего из высших чиновников, духовенства и выборных представителей от каждого уезда крестьянства, купечества и дворянства. Численное преимущество на таком собрании имели бы крестьяне, избираемые напрямую. Делегаты от нерусских народов должны были сидеть отдельно «для сохранения порядка, а также для предупреждения нежелательного поведения поляков, финнов и наших либералов».
Собор должен был довести до монарха настроение «представителей земли» и дать ему возможность «сообщить своё монаршее слово всей земле, всему народу и обществу».
Игнатьев считал, что первой задачей собора будет волостная реформа, которая более тесно привяжет крестьянские институты к имперской административной структуре. Решения, имеющие рекомендательный характер, будут представлены Государственному Совету. Хотя в чисто процедурном плане предложения Игнатьева напоминали идеи Лорис-Меликова, они имели совсем другую политическую и символическую окраску. Впоследствии Игнатьев выразил ту точку зрения, что в случае реализации его предложений была бы создана «русская самобытная конституция, которой позавидовали бы в Европе и которая заставила бы умолкнуть наших псевдолибералов и нигилистов».
И в самом деле, Победоносцев склонен был рассматривать предложения Игнатьева как некое подобие конституции, и уже это обрекало их на неприятие. Он предупреждал царя, что «если воля и распоряжение перейдут от правительства на какое бы то ни было народное собрание – это будет революция, гибель правительства и гибель России».
В том же духе была выдержана передовая статья Каткова, в которой идея Игнатьева осуждалась как «торжество крамолы». 27 мая 1882 года на заседании кабинета министров император отверг предложение Игнатьева и попросил его подать в отставку.
Михаил Катков и имперский национализмКарьера Михаила Каткова, ведущего российского газетного редактора 1860–1880-х годов, является примером того, что вера в гражданское общество как способ преодоления внутреннего раскола страны под давлением обстоятельств превратилась в защиту самодержавия и русификации. В юности Катков был членом «западнического» кружка Станкевича и – некоторое время – другом Белинского. Свою карьеру он начал как почитатель британской политической системы: особенно поражало его то, что сильное государство сочетается с верховенством закона, поддерживаемым богатой и, следовательно, независимой земельной знатью. Катков надеялся, что нечто подобное возникнет и в результате реформ Александра II.
Два события поколебали его веру в такой исход: студенческие волнения 1861–1863 годов и польское восстание 1863–1864 годов. Именно польское восстание в драматической форме выявило факт, что в многонациональной империи поместное дворянство, далёкое от того, чтобы поддерживать закон и порядок, способно возглавить силы сепаратизма и мятежа. «Свобода совести и религиозная свобода – хорошие слова, – сказал Катков в августе 1863 года, но добавил: Свобода – религиозная или другая – не означает свободы вооружать врага». Он то и дело повторял: «Должно быть одно из двух: либо Польша, либо Россия». Под этим Катков подразумевал, что Польша и Россия не могут существовать как два суверенных государства. «В этнографическом смысле между русскими и поляками нет антагонизма, нет даже существенного различия. Но Польша, как политический термин, это естественный и непримиримый враг России».
Такой взгляд на Польшу помогал определить его взгляд и на Россию в век, когда национальное государство становилось наиболее удачной формой великих европейских держав.
«В России одна господствующая национальность, один господствующий язык, развитый веками исторической жизни. Однако есть в России множество племён, каждое из которых говорит на своём языке и имеет свои обычаи, есть целые страны, со своими отдельными характерами и традициями. Но все эти разнообразные племена и области, лежащие на границах Великого Российского мира, составляют его живые части и чувствуют своё единство с ним, в союзе с государством и с высшей властью в лице царя».
Катков не ждал, что многочисленные национальности империи сольются в однородную массу, но считал жизненно необходимым политическое единство. Русские представлялись ему как некая политическая супернация, имеющая право навязывать другим свою волю и систему правления. В некотором смысле эта модель продолжала оставаться британской, с многослойным национальным сознанием, объединяющим англичан, шотландцев, валлийцев и частично ирландцев общим гражданским чувством без разрушения их этнического своеобразия. Проблема заключалась в том, что Россия могла предложить лишь очень слабые, зачаточные гражданские институты, так что такой подход мог работать только при условии, если нерусские народы останутся неразвитыми и бесконечно уступчивыми. Такие мысли близки представлениям Достоевского и вызывают в памяти смешение национальных и всеобщих ценностей в теории «Москва – Третий Рим». В применении к национальностям, более развитым в культурном отношении и подверженным западному влиянию, таким, как поляки, финны, немцы или евреи, эти идеи могли привести к серьёзным осложнениям.
Эти неассимилируемые народы подвергались прямым атакам Каткова: «…В русском государстве действуют силы, враждебные русскому народу… в его недрах гнездятся будто чужеядные тела, разные привилегированные политические национальности и… русское правительство в своей политике принимает характер нерусский».
По сути, это было пренебрежением традиционной политики государства по поддержанию баланса между разнородными этническими элитами империи.
В России Катков стал силой частично потому, что уловил настроение властей и значительной части образованного общества после польского восстания, когда пропольские взгляды Герцена и либеральной демократии, выражаемые журналом «Современник», казались провозвестниками мятежа. Он также знал, как обратить к своей выгоде возможности, открывшиеся для откровенного, умелого и прилежного редактора в эпоху «ответственной свободы», наступившую с введением нового закона о цензуре 1860-х годов. Его попытка в «Московских ведомостях» разжечь имперский и русский этнический патриотизм казалась вполне реалистичной и была достаточно независимой от официальной политики, чтобы даровать Каткову привлекательный статус фрондёра. Однажды, в марте 1866 года, за нападки на правительственных чиновников газета Каткова была приостановлена, а затем отдана другому редактору, но через несколько месяцев выстрел Каракозова прозвучал как доказательство его правоты, и положение изменилось: Александр II лично приказал восстановить Каткова в должности.
Но его час подлинного триумфа наступил в правление Александра III. Новый император более или менее последовательно проводил национальную политику, к которой его отец обращался лишь время от времени. Цель состояла в более тесной привязке нерусских регионов и народов к имперским структурам, во-первых, за счёт административной интеграции, во-вторых, насаждения языка, религии, культуры, истории и политических традиций России. Имелось в виду сохранить местные языки и традиции в особо отведённой для них нише в качестве этнических пережитков, а не активных официальных сил. Всё это сопровождалось экономической политикой с упором на развитие транспорта и тяжёлой промышленности и ассимиляцию отдалённых регионов в единую имперскую экономику.
ПольшаВ полную силу эта политика впервые была применена к Польше после восстания 1863–1864 годов. Польша стала первой страной, где российские власти отбросили политику сотрудничества с местными элитами: многие дворяне подверглись ссылке, а их поместья конфисковали, чтобы ослабить панов как носителей польского национального языка. Той же цели служили и довольно мягкие условия освобождения крепостных, согласно которым местные крестьяне, в частности, получили больше земли, чем русские внутри России; делалось это для того, чтобы белорусы, украинцы и поляки видели в российском правительстве своего патрона, покровителя и защитника. Католической церкви было запрещено поддерживать связи с Римом, ослушавшихся епископов подвергали наказанию, а в восточных районах население понуждали к переходу из униатской церкви в православную. М.Н. Муравьёва, бывшего декабриста, получившего кличку Вешатель, наделили полномочиями по расследованию, аресту и наказанию подозреваемых участников восстания.
Остатки польской независимости были уничтожены, и бывшее Королевство Польское превратилось в «Привислинский край» России. Большинство польских чиновников заменили на русских, а русский язык стал официальным. Варшавский университет перестал отличаться от обычного российского учреждения; во всех польских школах, даже на начальном уровне, вводилось преподавание предметов на русском языке. На практике правительство не располагало средствами контроля за проведением в жизнь своих постановлений, и преподавание зачастую по-прежнему велось на польском языке, хотя и полулегально.
От включения в имперское тарифное пространство Польша получила немало экономических выгод: могла продавать свою промышленную продукцию на большом рынке, имевшем потребность в таких товарах. При 8% населения Польша производила около четверти всей промышленной продукции империи, заметно выделяясь в производстве текстиля, металлургии и машиностроении. Однако польские производители добивались этого за счёт безжалостной эксплуатации рабочих, как в самой России, не имевших никаких прав и преимущественно неграмотных из-за существовавшей тогда системы образования.
В результате польская элита разделилась в вопросе о месте их страны в империи. Политические партии, вышедшие из подполья в 1905 году, разошлись по трём путям. Польская социалистическая партия (ППС), руководимая Юзефом Пилсудским, выступала за восстание, ведущее к полному отделению и национальной независимости: помощи для финансирования вооружённого выступления, намеченного на 1904 год, он искал у врага России – Японии. Социал-демократическая партия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), среди вождей которой выделялась Роза Люксембург, занимала строго марксистскую позицию: Польша должна оставаться в составе международного пролетарского государства, каким Российская империя станет после надвигающейся социалистической революции. Национал-демократы под руководством Романа Дмовского хотели остаться в существующей империи, но получить при этом политическую автономию и покончить с дискриминационными законами: они представляли торгово-промышленную буржуазию, получавшую выгоды от имперского рынка и рассматривавшую Германию как главную опасность.
В 1905–1906 годах Польша, возможно, являлась самой неспокойной частью империи. Сразу после «Кровавого воскресенья» в январе 1905 года рабочие текстильного центра, Лодзи, объявили забастовку и вышли на демонстрацию с лозунгами: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!». Были выдвинуты и экономические требования: восьмичасовой рабочий день и существенное увеличение заработной платы. В результате вмешательства полиции и последовавших столкновений погибло около ста человек. На протяжении 1905 года подобные сцены повторялись не раз. Временами положение в Польше напоминало гражданскую войну, в которой, наряду с рабочими, участвовали студенты, школьники и нередко даже преступники. Относительно пассивными оставались лишь крестьяне, не проявлявшие солидарности с российскими собратьями.
Вооружённая борьба в Польше в 1905–1906 годах длилась дольше, чем восстание 1863–1864 годов, и унесла больше жизней. Для подавления России приходилось держать в Польше до 300 тысяч солдат, по сравнению с 1 миллионом солдат на японском фронте. Трудно обнаружить более яркий пример, во сколько обошлась попытка русифицировать народ с развитым национальным самосознанием, культурой и религией, отличными от русских.