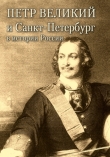Текст книги "Россия: народ и империя, 1552–1917"
Автор книги: Джеффри Хоскинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Обстоятельства жизни Фёдора Достоевского сложились так, что он лично столкнулся со стеной, разделяющей образованные слои населения и народ. Когда Достоевский был студентом, его отец умер при обстоятельствах, дающих основание предположить, что он был убит крепостными. Последние исследования заставляют усомниться в этой версии, но молодой Достоевский, вероятно, был убеждён в её правоте. Случившееся породило в нём глубокое чувство вины, потому что, ведя распутный образ жизни, он часто клянчил у отца деньги и теперь считал, что именно вследствие ужесточённых требований крестьяне и убили отца. Ранние произведения Достоевского пронизаны сочувствием к «униженным и оскорблённым» и проявляют острое понимание психологического и духовного бремени бедных.
Возможно, именно чувство вины, рождённое сознанием несправедливости крепостного права, побудило Достоевского вступить в кружок молодых интеллектуалов, руководимый чиновником Министерства иностранных дел М.В. Петрашевским. Тот, воодушевлённый теориями французского социалиста Шарля Фурье, мечтал о реорганизации общества в сеть производственных кооперативов. Участников группы арестовали, и хотя их заговор не зашёл дальше разговоров, приговорили к смертной казни. В последнюю минуту осуждённых помиловали и сослали на каторгу. Это возвращение к жизни оказало на Достоевского глубокое впечатление. Он писал брату, что никогда раньше духовная жизнь не билась в нём с такой силой. «Я рождаюсь в новой форме».
Тогда же с ним случился первый приступ эпилепсии; впоследствии приступы повторялись, принося мгновения одновременного ужаса и озарения, которые придавали творчеству писателя характерную болезненную восторженность.
Каторга позволила Достоевскому лично узнать, какова жизнь непривилегированных классов в самодержавном государстве, присвоившем себе неограниченную власть над подданными и не сдерживаемом никакими законами, ни людскими, ни божественными. Больше всего его мучило, что абсолютную власть над ним имеет комендант, некий майор Кривцов, нередко хваставший, что за малейший проступок может приказать высечь виновного розгами. Власть подобных людей над своими соотечественниками, власть, вскормленную имперским государством, Достоевский считал совершенно разлагающей.
«Кто испытал раз эту власть… безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека… и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка: оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь».
На взгляд Достоевского, духовная извращённость садизма угрожает не только отдельным личностям, но и всему обществу.
«Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда… К тому же пример, возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая власть соблазнительна… Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, одно из самых сильных средств для уничтожения… всякой попытки гражданственности…»
Каторга углубила осознание писателем собственной оторванности от простого народа. Даже при том, что теперь он жил вместе с простыми людьми и разделял все тяготы, они не приняли его за своего. Желание Достоевского-социалиста, православного христианина и русского патриота понять простых людей и чем-то помочь не смягчали их отчуждённости. Они не принимали писателя, даже когда тот пытался присоединиться к их протестам по поводу плохих условий питания в столовой. Надклассовая солидарность ничего для них не значила. Достоевского тоже отталкивала их стихийная жестокость, оскорблявшая его веру в то, что народ несёт в себе зачатки гармоничной социальной жизни.
Постоянное напряжение, разочарованность и страх, порождённые суровыми условиями каторги, обострили его болезнь. Писатель пережил религиозное озарение, отчасти под впечатлением безобразной, случившейся на его глазах сцены, когда несколько каторжан до полусмерти избили пьяного татарина. После, лёжа в бараке, Достоевский припомнил случай из детства, когда какой-то крепостной помог ему успокоиться – мальчику показалось, что за ним гонится волк.
«Может быть, только Бог видел сверху, какое глубокое и просветлённое человеческое чувство, какая трогательная, почти женская нежность наполнила сердце грубого, неграмотного крепостного».
Даже на каторге Достоевский наблюдал в русских крестьянах проявления прекрасных человеческих качеств: во время празднования Пасхи и Рождества, когда устраивались любительские театральные представления, «странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборождённых, клеймёных лбах и щеках, в этих взглядах людей, доселе мрачных и угрюмых».
Воспоминания об этих коллективных праздниках и личный опыт знакомства с тёмной стороной человеческой натуры заставили Достоевского отбросить идею, что рациональное и гуманное общество может быть навязано людям группой интеллигентов. Наоборот, последние романы постоянно полемизируют с русским социализмом. Так, в «Записках из подполья» высмеивается идея совершенного общества в хрустальном дворце, изложенная Чернышевским в книге «Что делать?». Достоевский пришёл к убеждению, что способность крестьян подниматься над грехом, преодолевать границы мерзкой повседневности – пусть даже ненадолго, во время общих празднеств унаследованной христианской веры – просветит интеллигентов и возвратит их в общество, от которого они сами оказались отчуждёнными из-за своего рационализма. Это и стало ядром послания людям, которое писатель до самой смерти излагал не только в романах, но и в статьях.
Достоевский считал, что заново открыл истинную православную и народную Россию, скрытую Россией рационализма, материализма и социализма, и что его цель состоит в том, чтобы создать образ – если угодно, икону – настоящей России как средство переориентации взглядов общественности. Эта настоящая Россия виделась ему маяком для других наций: «Она произнесёт решающее слово великой всеобщей гармонии», которое примирит воюющие и несчастные народы Европы. Такова тема «Дневника писателя», «Братьев Карамазовых» и речи на пушкинском юбилее в июне 1880 года.
Для выражения своих идей в «Братьях Карамазовых» Достоевский привлёк полузабытую русскую традицию старчества. Особую часть текста составляют автобиография и духовные размышления отца Зосимы. В ранней жизни Зосимы заметны черты, характерные для так называемых «юродивых», людей, чьё слабоумие или безумие и аскетический образ жизни, по сути, являются вызовом условностям и лицемерию «нормального» человеческого общества. Молодой Зосима воодушевлён примером старшего брата, атеиста, который в конце короткой жизни обратился к религии и проповедовал всеобщую любовь и прощение: «Мы все виноваты… за всех и за все».
Так Достоевский придал крестьянской традиции и административной категории круговой поруки искупительное духовное значение.
Свою взрослую жизнь Зосима начал так, как свойственно элитной молодёжи императорской России: посещал кадетский корпус, учился манерам и французскому, завоевал популярность товарищей по полку. Но внезапно порвал со всем, на дуэли отказался стрелять в своего противника и попросил у него прощения – это так противоречило полковым нравам, что Зосиме пришлось уйти из армии, которую он сменил на монастырь. Опыт и долгие годы аскетической дисциплины дали право обращаться к своим ученикам с советом: «От народа спасение Руси… Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ – богоносец».
Достоевский так и не написал планировавшееся продолжение романа, так и не развил образ Алёши, «святого грешника», как представлялось писателю. Алёша должен был повторить путь Зосимы, пройдя испытание атеистическим социализмом, и стать старцем. Но даже без написанных томов мы можем сказать, что до некоторой степени Достоевский выполнил задачу, поставленную Гоголем во втором томе «Мёртвых душ»: показать воображаемое спасение России. При этом он более или менее игнорировал официальные структуры империи, сосредотачиваясь на православном христианстве и крестьянстве как источниках спасения.
Написав «Братьев Карамазовых», Достоевский стал центральной фигурой «литературного строительства России». В своей жизни и творчестве он более, чем какой-либо другой писатель, воплотил противоречивые чувства надежды и страха, одолевающие всех мыслящих россиян, когда те пытались понять, что такое Россия, и представить, какой она должна быть. В последних романах Достоевский предложил образ «народа-богоносца», не только отмеченного исключительными страданиями, но и облечённого исключительной миссией явить другим народам истинность православного христианства.
Это был мессианский национальный миф, идея «святой Руси», переформулированная для конца XIX века, для Европы, постигшей науки, достигшей материального прогресса и создавшей национальные государства. Достоевский соединил его с послепетровским императорским мифом, надеясь, что такая концепция может быть претворена в практической великодержавной политике. Во время Балканской войны 1877–1878 годов писатель предвещал завоевание «Второго Рима», Константинополя, и наступление «вечного мира» в славянском духе. «…Война наша вовсе не вековечный и зверский инстинкт неразумных наций, а первый шаг к достижению вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению воистину международного единения и воистину человеческого преуспеянья!»
Таким образом, Достоевский ближе, чем кто-либо, подошёл к соединению двух несовместимых русских мифов в единый образ: империя, величие которой парадоксально объясняется пассивностью народа, униженного и страдающего, способного воспринимать и развивать культуру других народов. В представлении писателя многонациональная империя соединяется с сельской общиной.
Пушкинский юбилей 1880 годаСобытием, в наибольшей степени способствовавшим кристаллизации литературы как носительницы русского национального сознания, оказалось торжественное открытие памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Пушкин уже давно стал фигурой, вызывающей восхищение обеих сторон политического раздела – официальной России и её упорных противников, – следовательно, он единственный мог бы превратиться в мостик, связывающий обе стороны.
В начале 60-х годов выпускники Александровского лицея пытались собрать деньги на памятник Пушкину и получили поддержку Министерства внутренних дел. Но затем инициатива постепенно заглохла, возможно, из-за ухудшения политической атмосферы в конце 60-х. В 70-е годы идея возродилась, но с тем отличием, что местом установки памятника избрали не Царское Село, а Москву, не только родной город Пушкина, но и древнюю столицу России, символ возрождения после наполеоновского вторжения.
Деньги на памятник собирали литераторы, школьные учителя, журналисты, правительственные чиновники, императорская семья и всевозможные провинциальные клубы и общества. Организатором выступило Общество любителей русской литературы, которое с конца 50-х годов пыталось созвать форум в поддержку требования свободы слова и независимости литературы. Оно регулярно проводило для этого банкеты – единственную разрешённую властями форму общественных собраний – в память чуть ли не каждого писателя.
Празднование состоялось во время «перемирия» (оказавшегося, правда, весьма недолгим) между террористами и режимом так называемой «диктатуры сердца» Лорис-Меликова. Общество сделало всё возможное, чтобы собрать вместе писателей и журналистов самых разных политических убеждений и эстетических взглядов, например, либерала-западника Тургенева и имперского националиста Каткова. В некотором смысле, это была последняя попытка объединить кружки 40-х, члены которых так далеко разошлись в национальных вопросах.
Усилия увенчались лишь частичным успехом. На банкете Тургенев подчёркнуто не поздоровался с Катковым. Толстой вообще не появился, он всё больше отходил от общества и литературного мира, убеждённый, что литература последнего полувека, не обращаясь к народу, стала аморальной и поверхностной. Юбилей прославился благодаря двум выступлениям, одно из которых стало достоянием русской литературной истории. На первом из них. Тургенев как бы отвечал возражениям Толстого, обращаясь к различию, проведённому Белинским, между «народным» и «национальным». Пушкина, соглашался он, читают, «но не народ, а нация», но народ научится читать его и, поскольку искусство – это «восхождение жизни к идеалу», одновременно облагородит себя и откроет при этом «своё истинное национальное сознание».
Речь, оказавшую наибольшее впечатление, произнёс Достоевский. Он написал её, работая над «Братьями Карамазовыми», и изложил те же идеи спасения России православным христианством и общинным духом крестьянства. Достоевский воспользовался чаадаевским образом россиянина как «странника», вечно ищущего правды, и призвал его спуститься к народу, чтобы отыскать там истину.
Подобно Белинскому, Достоевский считал, что литература может выразить сущность нации и внести свой вклад в эволюцию истории. Пушкин сыграл особую роль в этом процессе, ведь «он один из всех мировых поэтов обладал свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность», он становится Фаустом, Дон-Жуаном или «угрюмым северным протестантом»; он говорил на языке, общем для всех людей, существовавшем до вавилонского смешения. «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским… значит, стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… стать настоящим русским и будет значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей».
В представлении Достоевского Россия была сверхнацией, чья миссия состоит в создании условий, при которых другие нации смогут развиваться и решать свои конфликты под условием, что они признают ведущую роль России. Русский народ особо отмечен Христом: он претерпел страдания, каких не выпало на долю ни одного другого европейского народа. Страдания принесли русским своеобразную смиренную мудрость, необходимую, чтобы нести свет Христова спасения другим народам.
Именно такой образ России убедил образованных россиян, каково истинное предназначение их нации. Это была как бы духовная привязка геостратегического положения России: необъятные территории, неустойчивые границы, этническое разнообразие. Влияние этого образа ощущалось не только в конце XIX века, но в ещё большей степени при коммунистическом режиме, враждебном Достоевскому. Советские идеологи отрекались от идей писателя, но эти идеи выжили в библиотеках и культурном подполье и, выйдя оттуда в 1990-е годы, стали путеводной нитью для столь разных людей, как Солженицын и Руцкой.
Возникновение канонаКонечно, при всём энтузиазме, вызванном речью Достоевского, всегда можно было, как, например, Толстой, возразить, что большинство крестьян никогда не слышали о Пушкине, и следовательно, его нельзя считать символом единой русской нации. Однако с наступлением новой эры распространения начального образования положение стало меняться, и общественность уже начинала распространять среди народа хорошую литературу.
В 1899 году сам император распорядился устроить празднование столетнего юбилея Пушкина. Событие сопровождалось церковными службами, реквиемами, публичными чтениями и распространением портретов поэта. Митрополит Санкт-Петербургский назвал Пушкина «славным сыном русской земли» и, несмотря на бурную жизнь, «христианином».
Российские издатели, деятели образования и филантропы принялись распространять произведения писателей XIX века: кто-то ради коммерческой прибыли, кто-то в интересах народного просвещения. В период с 1880 по 1895 год Комитет грамотности Санкт-Петербурга выпустил почти два миллиона книг, включая произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Короленко. Подобные комитеты действовали в Москве и Харькове. Издатель Сытин вместе с Толстым и его учеником, В. Чертковым, основал серию «Посредник», вначале ориентированную на назидательные произведения для крестьян, но затем переключенную на классику. Популярный иллюстрированный еженедельник «Нива» для привлечения подписчиков выпускал дешёвые издания Достоевского, Чехова, Горького и других писателей. Иногда школьные учителя покупали их на свои скромные сбережения для детей в своих школах.
Правда, только что научившиеся читать крестьяне предпочитали другую «литературу»: дешёвые романы, приключенческие истории, гороскопы и т.п. И всё же появилась читающая публика, которая, по крайней мере в городах, не состояла только из элиты и которая, получив среднее образование, тянулась к иллюстрированным еженедельникам и литературным приложениям. Появились издатели, управлявшие вкусами этой публики и направлявшие её интерес на произведения, способствовавшие пробуждению национального сознания.
К концу XIX века начала формироваться настоящая русская нация в виде читающей публики, «воображённого общества», чьё выживание в советский период сохранило возможность – только возможность – того, что Россия ещё может стать национальным государством.
Часть 4
Имперская Россия под давлением
Глава 1. Реформы Александра II
Послекрымский кризисПоражение в Крымской войне для россиян оказалось сильнейшим шоком, повлёкшим переоценку империи и её места в мире. Именно это поражение обнажило то, о чём многие давно догадывались: какой-то внутренний недуг подрывал возможность империи поддерживать роль великой европейской державы. Поражение наглядно продемонстрировало, что армия, имеющая репутацию сильнейшей на континенте, даже не смогла защитить укреплённую базу на собственной территории, сражаясь с войсками, присланными туда за тысячи миль. Говорят, на смертном одре Николай I произнёс приговор своей системе, предписав сыну принять меры для устранения «беспорядка в командовании».
Недостатки русской военной армии не в последнюю очередь объяснялись отсталостью промышленности и средств сообщения, а также неустойчивым состоянием финансов. Страна была не в состоянии ни произвести вооружение, равное тому, которое имели противники, ни купить его за границей. Большая часть того, что было доступно, включая оружие и продовольствие, так и не попала к театру военных действий из-за распутицы на дорогах, связывающих южные районы с центром империи.
Не менее тревожным сигналом для властей стало недовольство крестьян, проявившееся в ходе войны. После появления призывов к добровольцам вступать в ополчение, на сборные пункты явилось намного больше крепостных, чем могла принять армия. Как и в 1812 году, они явно надеялись, что после службы получат свободу. Крестьяне, не принятые в ополчение, выражали недовольство, которое иногда даже выливалось в беспорядки, особенно на Украине и на юге страны. Прибывшие на место жандармы обычно находили крестьян в патриотическом и верноподданническом настроении, желающих служить царю, но часто недовольных той или иной новой повинностью, наложенной помещиком. Даже после того, как закончилась война, крестьяне продолжали направляться в Крым, где, как они упорно доказывали, «на Перекопе, в золотой палате сидит царь, который даёт свободу всем, кто приходит, а те, кто не приходят или опаздывают, остаются, как и прежде, крепостными своих господ».
Крымское поражение угрожало не только внутреннему строю России. Парижский договор лишал её каких-либо особых прав в пределах Османской империи и запрещал иметь флот или военные базы на Чёрном море. Таким образом, Россия утрачивала влияние на Ближнем Востоке и не могла вновь построить Черноморский флот и защищать торговые суда, осуществлявшие внешние торговые операции.
Такие ограничения серьёзно ослабляли внешнюю мощь и положение России. После 1815 года империя играла ключевую роль в системе, созданной Венским конгрессом, затем удерживала баланс сил после её распада; теперь же превратилась в слабый и ненадёжный компонент нестабильной анархичной Европы. Россия стала лишь одним из европейских государств, наиболее сильными из которых были национальные государства с быстро развивающейся индустриальной базой. В течение двух последующих десятилетий к ним присоединились Германия и Италия. В Европе нормой становилось индустриальное национальное государство; те же, кто не отвечал этой модели – империя Габсбургов, Османская империя и Россия, – отставали, слабели и приближались к распаду.
Необходимость в переоценке давно ощущалась в кружках и салонах, бывших в николаевской России единственным форумом для серьёзных интеллектуальных дискуссий. С ослаблением цензуры дискуссии выплеснулись на публику, и тут оказалось, что славянофилы и западники имеют намного больше общего, чем предполагалось вначале. И те и другие в случае необходимости были готовы отказаться от крайностей и согласиться на отмену крепостного права и создание институтов, которые позволили бы образованной и политически сознательной публике поддержать режим.
Перемены начались уже в ходе войны, которая вызвала у интеллектуалов прилив тревожного и критического патриотизма. Славянофил Александр Кошелев заявил, что «мы были убеждены, что, быть может, поражение России сноснее для неё и даже полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время».
Официальный историк Михаил Погодин воспользовался случаем, чтобы обратиться к Николаю I с призывом к созданию более открытой политической системы: «Рассей лучами милости и благости эту непроницаемую атмосферу страха, скопившуюся в продолжение стольких лет, войди в соприкосновение с народом, призови на работу все таланты – мало ли их на Святой Руси! – освободи от излишних стеснений печать, в которой не позволяется теперь употреблять даже выражение общее благо, вели раскрыть настежь ворота во всех университетах, гимназиях и училищах… Не свет опасен, а тьма».
Пётр Валуев, губернатор Курляндии, принадлежавший к западникам, давно входил в модные литературные кружки, был знаком с Пушкиным и Лермонтовым и женат на дочери поэта Вяземского. Тем не менее его диагноз был облечен в термины, схожие со славянофильскими. В 1855 году Валуев написал царю письмо, в котором предупредил: величайшая опасность режиму заключается в утрате связи с народом. «Везде преобладает у нас противоположение правительства народу, казённого частному – вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах».
Примерно в таком же настроении пребывал славянофил Юрий Самарин, бывший член Елагинского салона. «Мы сдались не перед внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бессилием. Усыпление мысли, застой производительных сил, разобщение правительства с народом, разъединение сословий, порабощение одного из них другому… отнимают возможность у правительства располагать всеми подвластными ему средствами и… прибегать без страха к подъёму народной силы».
Славянофилы и западники сходились во мнении, что если и существует главная проблема, подрывающая силу, производство и международное положение России, то это крепостное право. Как выразился западник и близкий друг Грановского, Б.Н. Чичерин: «Человек, связанный по рукам и ногам, не может совладать с человеком, который пользуется свободным движением всех членов. Крепостное состояние есть верига, которую мы влачим за собой и которая приковывает нас к одному месту, между тем как другие народы неудержимо стремятся вперёд. Без уничтожения крепостного состояния невозможно разрешение никаких вопросов, ни политических, ни административных, ни общественных».
Константин Кавелин, член кружка Грановского и ученик Белинского, перечислил препятствия на пути осуществления разумных реформ, связанные с существованием крепостничества: «…Преобразование рекрутского устава невозможно, потому что оно повело бы к уничтожению крепостного права; невозможно изменить теперешнюю податную систему, потому что корень её в том же праве; нельзя по той же причине ввести другую, более разумную паспортную систему; невозможно распространение просвещения на низшие классы народа, преобразование судоустройства и судопроизводства, уголовного и гражданского, полиции и вообще администрации и… цензуры… потому что все эти преобразования… повели бы к ослаблению крепостного права».
Не менее важно и то, что существование крепостного права препятствовало модернизации армии и, таким образом, обременяло казну огромными и непродуктивными военными расходами. Как указал занимавшийся армейской реформой Р.А. Фадеев, «при крепостном праве всякий поступающий в солдаты становился вольным, а потому нельзя было, без потрясения всего общего склада, пропускать слишком много людей через военную службу, иметь в списках мирного времени всё количество солдат, нужных для войны».
Юрий Самарин определил крепостничество как нравственный и правовой раскол российского общества. «Почему двадцать два миллиона подданных, платящих государственные подати, служащих государственную службу, поставлены вне закона, вне прямого отношения верховной власти, числясь в государстве только по ревизским спискам, как мёртвая принадлежность другого сословия?»
В целом очевидно, что политическая, экономическая и военная система, давшая России возможность создать, защитить огромную империю и стать великой европейской державой, теперь не только не помогала сохранить этот статус, но даже и угрожала ему. Крымская война продемонстрировала это со всей очевидностью и, таким образом, устранила табу на дискуссии о радикальных переменах, в течение нескольких десятилетий сдерживавшее даже тех государственных деятелей, которые понимали хрупкость существующего порядка. Впервые с начала XVIII века радикальная реформа представлялась менее опасной, чем бездействие.
Для того чтобы устранить провал между собой и народом и подвести Россию к превращению в национальное государство, режим мог выбрать одну из двух стратегий. Первая – гражданская: создать институты, дающие возможность различным социальным и этническим группам отчётливо сформулировать и отстоять свои интересы и принять участие в политическом процессе. Эта политика – с отступлениями и оговорками – в основном проводилась при Александре II. Вторая – этническая: постараться сблизить народ и империю, укрепив национальное самосознание русских и русифицировав нерусских. Подобная политика началась ещё при Александре II, но более сознательно и последовательно её осуществляли его преемники, Александр III и Николай II.
Сторонников обеих стратегий можно было обнаружить в кружках и салонах. В конце 1850-х и начале 1860-х годов большинство поддерживали гражданскую стратегию, но многие, столкнувшись с трудностями и недостатками реализации этой стратегии, постепенно перешли на другие позиции.
Из основных сторонников гражданской политики многие были членами Императорского географического общества или завсегдатаями салона Великой княгини Елены Павловны. Лидером кружка молодых чиновников Министерства юстиции и внутренних дел являлся Николай Милютин, впоследствии сыгравший важную роль при подготовке закона об отмене крепостного права. Милютин поддерживал регулярные связи с ведущими журналами, такими, как «Современник», «Отечественные записки», и писателями Герценом, Некрасовым и Тургеневым. Во всех кружках царил дух откровенного юношеского критицизма по отношению к старшим. Императорское географическое общество также продолжало работу Академии, начатую ещё в XVIII веке, по сбору материалов о природных и человеческих ресурсах России. Его члены рассматривали это как подготовку к реформам, в которых они надеялись когда-нибудь принять участие. Некоторые впоследствии работали в составе Главного комитета, выработавшего окончательный вариант указа об освобождении крестьян.
У большинства молодых и не очень молодых реформаторов сохранилась гегельянская уверенность в прогрессе. Они не сомневались, что под их умелым руководством российское общество двинется к правовому порядку, к более продуктивной экономике и к равенству всех подданных в правах и обязанностях. Это не значит, что они хотели покончить с самодержавием, наоборот, большинство считало: самодержавие необходимо – по крайней мере в ближайшем будущем, – чтобы провести общество через трудное время преобразований, когда нужна сильная и беспристрастная власть. Однако они всё же намеревались ограничить её произвол и личную прихотливость рамками закона, основания для чего были заложены кодексом 1833 года. Под этим понимались отмена крепостного права, гарантированная защита подданных со стороны закона, большая гласность в общественных делах и установление тесного контакта подданных с государством как во властной его роли, так и в покровительственной.
Однако гласность не означала свободу слова, а верховенство права не означало выборного законодательного собрания. Реформаторы Александра II полагали, что они – и только они – обладают достаточно широким умственным горизонтом и достаточным беспристрастием, чтобы руководить процессом реформ, не нанося вреда обществу. В этом отношении реформаторы так же, как Николай I, не доверяли общественной инициативе. При проведении огромной и трудоёмкой реформаторской работы был лишь один случай, когда власти сочли необходимым посовещаться с одним из слоёв общества – к выработке проекта указа об освобождении крепостных привлекли дворянство. Дворянские собрания участвовали в предварительном обсуждении сначала на местном уровне, затем делегаты приняли участие в работе Редакционной комиссии в Санкт-Петербурге, где после переработки всех предложений определялась окончательная форма закона.
На всех стадиях от помещиков требовалось не больше, чем представление отдельных деталей. Когда кто-то пытался поднять вопросы принципиального значения и выдвинуть программу политических требований, то удостаивался официального выговора, хотя позднее некоторые такие предложения всё же были приняты. Вся основная работа велась в столичных кабинетах, подальше от глаз общественности.