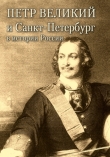Текст книги "Россия: народ и империя, 1552–1917"
Автор книги: Джеффри Хоскинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Способность к эффективному самоуправлению и усиленное лоббирование среди правительственных чиновников дали московскому купечеству возможность защитить свои интересы и содействовать достижению некоторых политических целей. Однако нельзя сказать, что это помогло сформировать торговый средний класс, который смог бы заменить дворянство в качестве главной социальной базы царизма, отчасти потому, что москвичи не в полной мере представляли интересы промышленников и торговцев из других регионов империи. Не получили они и контроля над официальной экономической политикой, хотя оказывали влияние на определённые аспекты.
В некоторых отношениях их влияние в наибольшей степени проявилось в области искусства и культуры, где им удалось оставить заметный след. Самый значительный вклад внёс П.М. Третьяков, владелец доходной текстильной фабрики в Костроме, который основал картинную галерею с целью собрания и показа широкой публике коллекций русского искусства. Обычно покровители искусства собирали вещи, ориентируясь на собственный вкус и мнение близких друзей, но в случае с Третьяковым дело обстояло иначе. Вот что он писал своей дочери незадолго до смерти: «С самых ранних лет моя идея была в том, чтобы делать деньги с тем, чтобы накопленное обществом возвращалось к обществу, к народу, в неких благотворительных учреждениях. Эта мысль не покидала меня всю жизнь».
В завещании, составленном ещё в возрасте 28 лет, содержалось условие – плата за вход в галерею не должна превышать 10–15 копеек, чтобы даже самые бедные могли любоваться экспонатами. В некотором смысле его воодушевляло то же желание служить людям, которое было свойственно как некоторым бескорыстным государственным чиновникам, так и самым убеждённым их противникам. Галерея в Москве, до сих пор носящая имя Третьякова, стала памятником его высоким устремлениям.
Наиболее известное течение в живописи, которому покровительствовал Третьяков, называлось «Передвижники». Ему было близко стремление передвижников уйти от академизма и от придворного покровительства, с присущим им элитарностью и космополитичным классицизмом, желание сделать искусство доступным и понятным простым людям. Основатели этой школы порвали с Академией в 1863 году, когда отказались от темы, предложенной на выпускном экзамене. Свою независимость передвижники подтвердили созданием артели по образцу Чернышевского, чтобы писать и продавать картины, представляющие жизнь простых людей, особенно пострадавших от угнетения. Позже некоторые из членов артели для лучшего знакомства провинций с искусством основали Товарищество передвижных художественных выставок.
В конце концов, после двух десятилетий отделения при поддержке Александра III передвижники вернулись в Академию. К этому времени их стиль живописи получил всеобщее признание и стал вполне жизнеспособной и отличительной формой русского искусства. В своих портретах, пейзажах и исторических сценах передвижники определили «русскость» иначе, чем императорский двор или революционное движение.
Нечто подобное происходило и в театре. Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко мечтали об «открытом» театре, ставящем для широкой публики лучшие российские и зарубежные пьесы. Театр должен был стать домом для труппы, работающей и живущей по общинному принципу, без «звёзд», традиционно монополизирующих внимание критиков и деньги инвесторов. Станиславский стал пионером стиля игры, при котором актёр достигает особой выразительности, опираясь на собственные воспоминания, опыт и чувства. С финансовой помощью Саввы Морозова, одного из богатейших и граждански сознательных предпринимателей Москвы, они основали Московский Художественный театр, вскоре ставший ведущим в России.
Таким образом, к концу XIX века культурная и интеллектуальная жизнь в российских городах достигала более высокого уровня, чем гражданские институты. Её проявления можно было встретить в университетах, театрах, концертных залах, издательствах и художественных галереях. Да, основа для городского самоуправления была заложена, но из-за официальных ограничений действовала далеко не эффективно. Такое замедленное развитие отражало характерную для России черту того времени: общество всё ещё функционально разделялось на отжившие категории. В основном эти категории уже не отражали реальности, что само правительство признало в избирательных законах, основывавшихся на имущественном цензе. Но полное перераспределение подданных согласно экономическим подразделениям было ещё далеко от завершения. Между тем старые границы препятствовали новым формам солидарности и самоорганизации.
К началу XX века, когда в города хлынули огромные массы людей, существовавшие зачаточные институты оказались крайне уязвимыми для давления со стороны правительства и исключали подавляющее большинство населения. Тем не менее города становились центрами тех центробежных процессов в обществе, которое вместо того, чтобы двигаться к осознанию себя как нации, шло по пути полного раскола.
За два предшествующих столетия Российская империя пережила радикальные реформы Петра I, превратившие её в служилое государство, попытки Екатерины создать элементы гражданского общества и местного самоуправления, освобождение крепостных и последующие преобразования Александра II и, наконец, программу ускоренной индустриализации. На протяжении всего этого времени Россия продолжала поглощать новые территории и новые этнические группы, находя для каждой различные решения, интегрируя и не интегрируя их в империю. Каждая из таких перемен оставляла свой след на социальной структуре, создавая новые социальные или правовые формы, но не уничтожая созданных ранее. Результатом стал тот «слоеный» город, о котором писал Хакстхаузен. Россия, по удачному выражению Альфреда Рибера, была ««осадочным обществом» – на протяжении всей новой российской истории происходило накопление последовательных социальных форм, каждая из которых образовывала слой, покрывавший все или большую часть общества, но не меняя более старые формы, лежащие под поверхностью».
В таких условиях российские города становились инкубаторами новых социальных, экономических и этнических конфликтов, имея в своём распоряжении лишь самые слабые инструменты для смягчения их жестокости. В своей зачаточной форме им суждено было стать ареной решающих политических конфликтов начала XX века.
Глава 6. Рождение интеллигенции
Термин «интеллигенция» – один из самых расплывчатых и трудно поддающихся определению во всём обществоведческом лексиконе. Общепринято, что этот феномен – даже если он не исключительно российский – впервые возник именно в России в XIX веке. Также все сходятся на том, что определить «интеллигенцию» чисто социально-экономическими категориями невозможно, потому что под ней понимаются не просто люди, имеющие высшее образование и трудящиеся на определённом поприще, но и выражающие некую идеологическую позицию.
С учётом идеологического момента вполне естественно, что значение термина варьируется в зависимости от политических взглядов того, кто его употребляет.
Ключом к пониманию российской «интеллигенции» служит то, что она возникла из-за несоответствия социального статуса и социальной функции, порождённого отношением имперского государства к обществу, особенно после неудачной попытки дворянства создать гражданское общество на собственный лад. Как мы уже видели, к середине XIX века социальная структура России вырывалась из рамок категорий, определённых имперским государством. Несоответствие особенно заметно проявлялось в городах, где статус налогоплательщика зачастую имел лишь отдалённое отношение к экономической функции и где образование и культура, вырывая человека из одной социальной категории, вовсе не обязательно перемещали в другую. Так случилось с разночинцами. Уже в 1760-х годах Екатерина II, всерьёз обеспокоенная их неопределённым положением, пыталась создать «третье сословие», но ничего не получилось.
По крайней мере, термин «разночинцы» имел какое-то отношение к официально установленным категориям. Термин «интеллигенция», с 1860-х годов все чаще используемый в литературе и прессе, не был с ними связан даже отдалённо. Первоначально он обозначал класс людей, отличавшихся определённой степенью образованности, но в последние десятилетия XIX века постепенно утратил какое-либо фиксированное социально-экономическое значение и изменил тональность на значительно более субъективную, став показателем социально-этических отношений, знаком чести или клеймом позора, носимым с гордостью или навлекающий презрение – в зависимости от точки зрения автора.
Ядро интеллигенции следует искать в разночинцах, особенно в тех адвокатах, врачах, учителях, которые в последние десятилетия XIX века во все большем количестве привлекались к работе государством, земствами, муниципалитетами, судами, университетами и т.п. В связи с тем, что работа в подобных учреждениях не предоставляла возможности для организации обособленных профессиональных союзов, расплывчатый и достаточно объемлющий термин «интеллигенция» позволял им относить себя к определённой категории и повышал собственную самооценку. При отсутствии внешних официально закреплённых отличительных признаков эти люди определяли себя в морально-идеологических терминах, относя к ним образованность, ум, независимость, критичность мышления, дальновидность, самоотверженность и преданность делу.
Преданность делу означала преданность народу. Интеллигент – человек, критически относящийся к режиму, обеспокоенный состоянием общества и особенно оторванностью элиты (включая себя) от народных масс. Интеллигент – человек, посвятивший себя преодолению этой оторванности, для чего народ должен быть поднят до уровня цивилизованного, гуманного существования. Такая попытка может быть предпринята как в рамках славянофильской концепции, так и в рамках социалистической доктрины. Термин «интеллигенция» долгое время употреблялся в обоих смыслах. Так, например, Иван Аксаков доказывал: «российская интеллигенция» нужна в западных провинциях, чтобы мобилизовать «нравственную и духовную силу народа» против засилья польской культуры. Интеллигенция представляла бы народ, «осознавший себя», и помогла бы интегрировать его в достойную национальную жизнь.
Но к концу XIX века одно из значений термина стало заслонять все другие: интеллигенция рассматривалась как носитель радикальных или социалистических взглядов. От «думающего реалиста» Дмитрия Писарева 1860-х годов (нигилиста, отрицающего все традиционные ценности) и «критически мыслящей личности» Петра Лаврова 1870-х годов (отвергающей старые социальные и этические ценности ради создания новых) эстафета перешла к прогрессивному и социально активному интеллигенту Н.В. Шелгунову, готовому нести народу просвещение и одновременно учиться у народа. «Мы, интеллигенция, представители индивидуализма, народ – представители коллективизма. Мы представляем личное «Я», народ представляет общественное «Я»».
Хождением в народ и учёбой у народа, а также привнесением в эту встречу народа и интеллигенции собственного вклада последняя сможет соединить эти два принципа и, таким образом, «создать своё слово» в мировой истории.
Итак, ключевая задача интеллигенции заключалась в том, чтобы соединить воедино разорванную этническую и гражданскую ткань России, объединить элиту и народ и создать новое общество, более гуманное и более истинно русское. Люди, взявшие на себя решение этой задачи, вышли из слоёв, давших им образование и культуру, но духовно ушли от своих корней достаточно далеко, чтобы почувствовать и ощутить всей душой изолированность от тяжёлой доли народных масс. В 1881 году радикальный публицист Н.К. Михайловский писал: «В нас говорит и щемящее чувство ответственности перед народом, неоплатного ему долга за то, что за счёт его воловьей работы и кровавого пота мы дошли до возможности строить эти логические выводы. Мы можем поэтому с чистой совестью сказать: мы – интеллигенция, потому что мы многое знаем, о многом размышляем, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой. Слепым историческим процессом мы чуждые ему… но мы не враги его, ибо сердце и разум наш с ним».
В этом смысле духовными предшественниками интеллигенции были Новиков, Радищев и поколение молодых дворян и армейских офицеров, группировавшихся вокруг декабристов. Они пытались создать основы нации, то есть сделать то, что уже было сделано элитами западных стран: Франции, Британии, Соединённых Штатов и постнаполеоновской Германии, из которых российская элита черпала культуру. Они пытались сформировать культурные, благотворительные и другие институты, которые в перспективе могли бы постепенно распространить привилегии вниз, до самых широких масс народа. Потеряв веру в самодержавие, декабристы сделали ставку на восстание и потерпели поражение. С их уходом с политической сцены проблема определения интеллигенции вышла на первое место, и годы правления Николая I стали годами её формирования.
Многие из тех, кто симпатизировал декабристам, хотели бы достичь их целей совместно с самодержавием, а не вопреки ему. В конце концов, даже Пушкин якобы однажды сказал, что «правительство – это наш единственный настоящий европеец». Эти люди были шокированы как самим восстанием, так и последовавшей за ним казнью пятерых главных заговорщиков. Режим Николая I с его народоманией и мелочной цензурой привёл к деградации социальной и официальной жизни. Там, где некогда некоторая доля смелости и свободомыслия была de rigueur[7]7
De rigueur (фр.) – необходимый, обязательный.
[Закрыть], при Николае правилом стала робкая подчинённость. Как заметил Герцен, «аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времён – всё исчезло с 1826 годом».
Всё чаще и чаще молодые дворяне, талантливые и энергичные, чувствовали себя чужими режиму, которому их учили служить. Проникшиеся – не без влияния режима – верой в необходимость перемен, они уже не считали само собой разумеющимся, что лучшее для достижения этого – занять пост на государственной службе. Борис Чичерин, в 1840-е годы студент Московского университета, писал: «Да и могла ли меня заманивать служба при господствовавших тогда политических условиях? Сделаться непосредственным орудием правительства, которое беспощадно угнетало всякую мысль и всякое просвещение, и которое я вследствие этого ненавидел от всей души, раболепно ползти по служебной лестнице, угождая начальникам, никогда не высказывая своих убеждений, часто исполняя то, что казалось мне величайшим злом, такова была открывающаяся передо мной перспектива».
Или, как точно выразился устами героя своей комедии «Горе от ума» драматург Александр Грибоедов: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».
КружкиСитуация в стране требовала появления новых общественных форм и подталкивала к новому мышлению. Раньше обсуждение путей обновления России шло везде, где в естественной и непринуждённой обстановке собиралась элита или контрэлита – впрочем, практически не отличавшиеся друг от друга, – в офицерских столовых и светских салонах. После 1825 года такое оказалось уже невозможным: армейские офицеры тщательно проверялись на политическую лояльность, и агенты Третьего Отделения присутствовали везде, наблюдая, слушая и докладывая начальству обо всём, что говорилось. Молодым людям, склонным к критическому восприятию действительности, приходилось искать для откровенного общения более уединённые места, чем салоны.
Естественным местом для подобных встреч стали университеты. Наиболее удобным был Московский, кураторы которого, сначала князь С.М. Голицын, затем граф С.Г. Строганов, сумели привлечь хороших профессоров и даже после 1825 года сохранить относительно мягкий внутренний режим в более спокойной атмосфере второй столицы. Некоторые из профессоров являлись также редакторами журналов, в новых условиях поддерживавших традиции независимой интеллектуальной жизни: Надеждин в «Телескопе», Каченовский в «Вестнике Европы», Погодин в «Москвитянине».
Однако, за небольшими исключениями, молодёжь элиты привлекали не столько официальные учебные курсы, сколько возможность неформального общения в разнообразных кружках. В их глазах такое общение воплощало жизненную философию, в которой первое место занимали дружба, доверие, открытость и честность. Немаловажным было и то, что кружки давали возможность найти близкую по духу компанию и укрыться от всевидящего ока властей. Посещавшие кружки не только делились друг с другом мыслями, но и личным опытом, и пытались жить по самым высоким моральным стандартам.
В этой пьянящей, бурной атмосфере «благородство» определялось культурой, характером и поведением, а не рождением, чином или богатством. Из этого следовало, что благородство вовсе не ограничивалось рамками высшего сословия. Кружок символизировал республику в миниатюре, где в интересах дружбы и правды игнорировались различия в происхождении и состоянии. Молодой П.В. Анненков даже сравнивал его с деревенской общиной.
«Отличительную особенность этого кружка… следует искать в пылу его философского воодушевления, которое не только уничтожило различие в общественном положении людей, но также различия в их образовании, умственных привычках, неосознанных стремлениях и склонностях, и превращало кружок в общину мыслителей, готовых подчинить собственные вкусы и страсти принципам, обсуждённым и совместно признанным».
Однако в отличие от общины, эти молодые люди происходили из привилегированных социальных слоёв, сознательно выбирали себе товарищей и были свободны в любое время отказаться от общения с ними. Как часто бывает в подобных случаях, горячая привязанность членов магического круга друг к другу усиливалась яростной ненавистью тех, кто находился за его пределами, кто не разделял их взглядов; кстати, это вообще стало характерной чертой российской интеллектуальной жизни. Вот что говорит Герцен о членах кружка своего друга Николая Огарёва:
«…Их связывала общая религия, общий язык и ещё больше – общая ненависть. Те, для которых эта религия не составляла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись другие, а мысль и круг крепли при этой свободной игре избирательного сродства и общего, связующего убеждения».
Кружок заменял своим членам все другие социальные процессы, становился семьёй, колледжем, церковью и светской гостиной. Приведём размышления Виссариона Белинского:
«Обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества), не дали нам положительного образования и лишили всякой возможности сродниться с наукой; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем её, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где ж убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок».
Герцен так описал кружок, которым руководил вместе с Огарёвым:
«Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовнёй, шуткой, ужином и вином шёл самый замечательный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний, каждый передавал прочтённое и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем».
Содержание дискуссий определялось положением, сложившимся после восстания декабристов: говорили о пропасти между словом и делом, благими намерениями и унизительным провалом практических попыток. Мыслители французского Просветительства, которых так чтили декабристы, не давали объяснения ни этой пропасти, ни провалам. Но зато некоторые надежды в этом отношении подавала немецкая идеалистическая философия, начавшая проникать в Россию в 1820-х годах. Постулат Канта о том, что наше понимание реальности определяется категориями человеческого мышления, такими, как пространство, время и причинность, был развит – или искажён – позднейшими немецкими мыслителями, пришедшими к выводу, что человеческий мозг в некотором смысле «создаёт» воспринимаемую реальность. Фихте, Шеллинг, позднее Гегель, ставшие столь популярными в России на протяжении 1830-х годов, затуманивали различие между «вещью в себе» и «вещью для нас», доказывая, что мозг человека не только интерпретирует реальность, но и формирует её. С их точки зрения, ум и высшая действительность по сути взаимосвязаны: изменение мысли является изменением реальности и наоборот.
Такая экзальтированная концепция человеческого ума оказалась крайне привлекательной для молодых, высокообразованных людей, готовящихся к государственной службе, но на практике либо пренебрегавших ею, либо исключённых в результате неправильного поступка. Это убеждало их, что даже такая, явно бесполезная деятельность, как размышление и разговор, воздействует на действительность. Такая экзистенциальная ситуация и создала «интеллигенцию». Перенимая веру Просветительства в прогресс, молодые интеллигенты убедили себя, что интеллектуальные размышления каким-то непостижимым образом помогают приблизить лучшее будущее человечества.
Уверенность в себе являлась необходимым условием для действия, но, конечно, одной уверенности оказалось недостаточно. Чтобы знать, что следует делать после обескураживающего фиаско 1825 года, интеллигенты должны были понять самих себя и своё место в социальном организме России. Это неизбежно поднимало другой вопрос: что такое Россия, и каково её место в мире? 1825 год продемонстрировал – империя вовсе не та, какой считали оптимисты 1812 года, и путь Англии и Франции не для неё. Вследствие этого и патриотизм – если он вообще возможен – должен был принять иную форму. Образованные люди с неприятным для себя чувством осознали – они чужие не только правительству, но и простому народу, которому вознамерились помочь. На первое место вставал вопрос: «Что такое Россия?»
И ответ снова был найден в немецкой философии. Гердер выдвинул теорию, согласно которой каждая нация обладает постоянной сущностью, неизменной на протяжении столетий и проявляющейся в языке и культуре народа, в преданиях, песнях, танцах, в одежде, пище, обычаях и ритуалах. Задача современных писателей, художников и мыслителей состоит в том, чтобы воплотить эту сущность в совершенных формах и интегрировать в мировую культуру. Идею принял и ассимилировал в свою концепцию прогресса мировой истории Гегель. Согласно ей, на пути человечества к самореализации в Абсолюте каждая нация вносит свой вклад в это движение, и, следовательно, каждая стадия мировой истории отмечена духом той или иной нации. Гегель полагал, что господство римско-французской цивилизации приближается к концу, и следующий период эволюции человечества будет отмечен германским духом.
Оставалось сделать небольшой шаг от этого суждения к гипотезе, что именно славянской цивилизации, ведомой Россией, суждено теперь откликнуться на призыв истории. Таким образом, российские интеллектуалы прошли по кругу от светского рационализма и социальной активности Петра I через французское и немецкое Просветительство и романтизм к такой версии истории, которая немногим отличалась от теории «Третьего Рима».