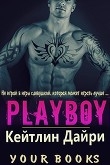Текст книги "Стриптизерша (ЛП)"
Автор книги: Джасинда Уайлдер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Ты не уйдешь, Грей.
– Уйди с дороги, папа.
– Нет, – он скрещивает руки на груди.
Я ставлю чемодан на колесики и вытираю лоб тыльной стороной ладони.
– Просто дай мне уйти.
– Нет, – он вспыхивает, похоже, в готовности противостоять мне. – Ты не поедешь в этот Вавилон. Лос-Анджелес – обитель этих... этих... проституток и гомосексуалистов. Ты туда не поедешь. Ты никуда не поедешь.
– Папа, будь разумен, – я пытаюсь его задобрить. – Пожалуйста. Я знаю, что это то, чего я хочу с тех самых пор, как мамочка заболела.
– Ты никуда не едешь. Это окончательно.
И я кричу, вою в ярости:
– Боже, какой же ты упертый, черт побери!
Я хочу ошарашить его своей грубостью; я не люблю материться, но я хочу его разозлить.
– Просто уйди с дороги!
Я отпихиваю его, и он двигается с места. Я высокая и сильная, благодаря танцам. Он отшатывается, и я распахиваю дверь так сильно, что она ударяется о стену, трескается штукатурка и фотография в рамке с мамой и папой в молодости падает на пол.
Он подбирает фотографию и загораживает проход.:
– Грей... пожалуйста. Не бросай меня.
Я хотела бы любить его. Я хотела бы, чтобы он был отцом, в котором я нуждаюсь, в таком, который обнял бы меня и прижал к себе. Это утешило бы меня. Моя мама, его жена, умерла. Мы оба потеряли ее. Но вместо того чтобы сплотить нас, это нас отдаляет.
Он собирается с силами, делает шаг навстречу, с возрастающей решимостью во взгляде:
– Грей, пожалуйста. Не разрывай наши отношения вот так. Не делай этого с нами.
– Как ты можешь выставлять меня виноватой в этом? Я уезжаю не навсегда. Я просто еду в колледж, папа. Я... я просто делаю то, что правильно для меня. Пожалуйста, попытайся понять.
– Если ты покинешь этот дом, значит, ты сделала свой выбор. Если ты уедешь, то добровольно выберешь грехопадение.
– Это не грехопадение! Это моя жизнь. Почему ты не можешь быть разумным?
Он сжимает кулаки и выпрямляет спину:
– Я разумен. Возвращайся, и мы обсудим варианты твоего будущего.
– Мне надо уехать, пап. Я должна, – я подхожу к нему. – Я люблю тебя... я знаю, что мы разные, но... я люблю тебя.
– Так ты остаешься? – он берет меня за руку, и сталь в его взгляде слегка смягчается.
Я высвобождаю руку:
– Нет. Мне нужно уехать.
– Тогда ты сделала свой выбор. Прощай, Грей, – он отворачивается от меня, закрывает дверь, даже не оглянувшись.
И вот так легко я оказываюсь одна в этом мире.
∙ Глава 4 ∙
Я иду на похороны. Конечно же, я иду на них. Дэвин подвозит меня. Она берет меня за руку, обхватывает своей крошечной ручкой мое запястье и поддерживает меня, когда мы опускаем гроб в могилу. Во время поминок я сижу с Дэвин, далеко от моего отца. Он не смотрит в мою сторону. Ни разу. Он выглядел таким сильным во время церемонии похорон, будто он сама опора божественной веры. Ненавижу его.
Я снова плачу. Я думала, что выплакала все слезы, но что-то еще осталось. Я достаю камеру из сумочки и снимаю, как полная земли лопата ударяет по крышке маминого гроба. Люди вокруг возмущены моими безрассудством и наглостью. Мне все равно. Это последняя сцена в фильме о ней, последняя сцена из жизни Линн Бэт Амундсен.
Когда все завершилось, я цепляюсь за Дэвин, и пытаюсь дышать ровно, пока мы пробираемся через траву и надгробия. Мои каблуки застревают в земле, влажной от недавнего дождя.
– Грей, подожди! – слышу я голос отца.
Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Киваю Дэв, что она может подождать в машине. Я жду, когда папа подойдет. Он старается сдержать слезы и тяжело дышит, остановившись напротив меня.
Он вытирает лицо ладонью.
– Я ненавижу, что все так вышло. Ты единственное, что у меня осталось.
Его родители умерли, когда мне было девять, а родители мамочки – когда меня еще не было. У меня тоже остался только он.
– Я тоже все это ненавижу, пап.
– Так ты останешься? – его голос полон надежды.
Я усмехаюсь, одновременно всхлипывая:
– Нет, я не останусь. Я могла бы остаться, если бы ты принял меня такой, какая я есть. Поддержи мои решения, даже если ты с ними не согласен.
– Ты действительно собираешься переехать в Лос-Анджелес, хочу я того или нет?
– Да, папа. Я собираюсь в Лос-Анджелес, несмотря ни на что. Ты мой отец, и я хочу любить тебя. Я хочу, чтобы между нами были хорошие отношения. Но если ты не можешь понять, что я собираюсь жить по-своему, зачем пытаться что-то изменить? Ты никогда не понимал меня и никогда не хотел понять. Ты никогда не одобрял ничего, что я делала и что мне нравилось. Ты не понимаешь, почему я люблю танцы. Ты не понимаешь, почему я хочу снимать кино. И самое худшее то, что ты даже не пытаешься понять, – я поправляю сумку на плече и встречаюсь с ним взглядом, умоляя его в последний раз.
Он лишь смотрит на меня в упор.
– Грей, почему бы нам не пойти на компромисс?
– Каким образом? Ты имеешь в виду, я должна отказаться от киношколы, чтобы ты был счастлив?
Он неверенно пожимает плечами:
– Ну... не бросать то, чего ты хочешь, просто сделать это отчасти.
– Нельзя сделать это отчасти, папа. Я в любом случае уезжаю. Останемся мы в хороших отношениях или нет, решать тебе. Наши отношения зависят от тебя.
Его взгляд становится жестким, и он засовывает руки в карманы.
– Значит, прекрасно. Будь повесой.
Я смеюсь:
– Боже, как драматично. Я не повеса, я делаю то, что для меня правильно. Ты просто не можешь это принять, – я выпрямляю спину и ужесточаю сердце. – Прощай, папочка.
– Пока, Грей.
Никто из нас не сказал «Я люблю тебя». И никаких объятий. Я жду, что он изменит свое решение. Но он не меняет. И я отворачиваюсь, иду к машине Дэвин и сажусь в нее.
Дэвин спрашивает:
– Ты...
– Я в порядке, – я сжимаю зубы, стараясь опять не расплакаться.
– Ну, это какой-то бред, но раз уж это лучше для тебя, – Дэвин обеспокоенно смотрит на меня.
– Он не... он просто не идет на уступки. Он не допустит, – я тру глаза руками, пытаясь облегчить жжение от слез. – Он не примет то, чем я занимаюсь, а я... я не собираюсь больше давать ему управлять моей жизнью.
Наконец я плачу. Я не могу сдержаться. Несколько слез скатываются по щеке, но я не вытираю их. Мне все равно, что они смоют макияж.
– Так что теперь? – спрашивает Дэвин.
Я пожимаю плечами:
– Теперь? Я перееду в Лос-Анджелес.
– Одна?
Я киваю:
– Наверное.
Оставшийся путь до дома Дэвин мы проводим в молчании. Она не знает, что сказать, как и я.
Дэвин провожает меня до металлоискателя в аэропорту. Все мои пожитки поместились в чемодан и вещевой мешок, которые я сдала в багаж. Я летала самолетом лишь однажды, два года назад на мое шестнадцатилетие в Нью-Йорк вместе с мамочкой. Она помогала мне в поездке. Я обнимаю Дэвин и прощаюсь с ней. Теперь я одна.
Я поворачиваюсь и в последний раз машу Дэвин, и затем сосредотачиваю внимание на контрольном пункте. Пожилой мужчина в очках с толстыми стеклами и в ярко-голубой униформе сидит за столом. У меня в руках посадочный талон, который для меня распечатал папа Дэвин.
– Водительские права? – спрашивает мужчина, не глядя на меня.
Я копаюсь в сумке, нахожу права и показываю ему. Он бросает взгляд на меня, на документы, записывает что-то на моем билете и машет мне, чтобы я проходила дальше. Люди вокруг меня, кажется, знают, что нужно делать. А я нет. Я смотрю, как женщина передо мной снимает туфли, вытаскивает большой черный ноутбук из сумки и кладет его в белый контейнер. Туда же по отдельности отправляются кошелек, права, посадочный талон и обувь. Я следую за ней, снимаю мои туфли без каблуков и складываю их в контейнер с остальными вещами. Жду своей очереди, чтобы встать на штуку, напоминающее нечто из «Звездного пути», крутящуюся стену в цилиндрическом стеклянном ограждении. Мне говорят поднять руки над головой, и устройство крутится вокруг меня.
Что, если им понадобится меня обыскать? Мне нечего прятать, но я все равно встревожена. Они пропускают меня, и я забираю свои вещи. Весь этот процесс такой... неловкий, до странного интимный. Бизнесмены в костюмах ходят вокруг в одних носках, женщины босиком, жонглируя пожитками и стараясь не попадаться друг другу под ноги, и за всем этим безразлично наблюдают сотрудники в голубых рубашках, выкрикивая указания и изображая суровый вид.
Пройдя мимо книжных магазинов, отделов дьюти-фри, кафе и туристических групп с рюкзаками и в наушниках с чемоданами наперевес, я нахожу свой выход на посадку. Я вижу у выхода еще одного одинокого путешественника, мужчину за тридцать с аккуратно выбритой эспаньолкой и дорогим портфелем. У него три телефона на ремне, с руки свисает пиджак, и он читает «Нью-Йорк Таймс». Он бросает на меня взгляд, оглядывает и продолжает меня игнорировать. Меня, кажется, в упор никто не замечает.
Мне в жизни еще никогда не было так одиноко. У меня с собой айпод и книга «Дыхание, глаза, память» в мягкой обложке, которую дала мне Дэвин. Не знаю, почему она решила, что мне нужна эта книга, но это поможет скоротать время. Я жду еще час, отбросив свою собственную жизнь и погружаюсь в проблемы других людей.
Полет долгий и скучный. Я дочитываю книгу на полпути, и мне больше нечем заняться, кроме как слушать песни в айподе на повторе. Я просматриваю каталог магазина «SkyMall». Посадка неприятная и тряская, а аэропорт Лос-Анджелеса огромный и запутанный. Это до сих пор похоже на сон, словно я могу в любой момент проснуться в своей постели дома, и там будет мамочка, живая, и она приготовит мне завтрак. В конце концов, я нахожу зал выдачи багажа и ожидаю свои сумки. На моем вещевом мешке появился новый разрыв.
Я иду по знакам к выходу, и, когда стеклянные двери раскрываются, меня сбивает с ног волна горячего воздуха. Внезапно все становится реальным. У меня с собой 400 долларов; половина этой суммы моя, то, что осталось от пособия. Остальное – подарок родителей Дэвин. Это все, что у меня есть. 400 долларов. Дорога от аэропорта до университета стоит 40$, и у меня остается 360$. Я не ела с тех пор, как покинула дом Дэвин, и у меня урчит в животе. Я слишком нервничаю и напугана, чтобы есть. Водитель такси – огромный, молчаливый и чернокожий мужчина, с тонкими дредами до плеч. Он ничего не говорит. Когда мы приезжаем в Университет Южной Калифорнии, он просто показывает на счетчик и ждет. Я расплачиваюсь, неохотно расставаясь с деньгами.
Университет огромен. Я иду за другими молодыми людьми моего возраста, примерно такими же напуганными. Большинство из них сопровождают мамы или папы, или оба родителя одновременно. Никто не замечает меня. Я следую за толпой в офис, переполненный людьми. Там есть ориентировка, тур по кампусу. Карты выдают вместе с дешевыми ежедневниками. Моя комната представляет из себя коробку с двухъярусными кроватями по одну сторону; также там стоит узкий, приземистый шкаф и крохотный компьютерный стол, который, я полагаю, принадлежит моей соседке. Он белого цвета, и в одном из углов есть узкое окно с грязными белыми шторками, задернутыми на одну сторону и пропускающими тусклый свет с улицы.
Моя соседка уже здесь, она сидит на нижней кровати, листая журнал «Vanity Fair». Она на несколько сантиметров ниже меня, на несколько размеров меньше и выглядит потрясающе, как модель. Ее макияж безупречен, а платиновые волосы гладкие, блестящие и идеально уложены ракушкой. У нее дорогая и безукоризненная одежда. На руках у нее французский маникюр, и рядом с ней, на кровати лежит сумочка от Dooney & Bourke, из которой выглядывает айфон. Она улыбается мне, оценивает мой наряд – уже не актуальную в этом сезоне, но и не дешевую одежду – юбку до колен, подходящую мне, но скромную рубашку с V-образным вырезом и поношенные туфли без каблуков, – и ее улыбка слегка блекнет. Очевидно, она не впечатлена.
– Так ты актриса? – спрашивает она. Это звучит, будто она продюсер или кто-нибудь из Силиконовой Долины.
– Нет, я собираюсь работать в производстве.
– А, типа, те люди вне кадра? – она так и источает презрение.
– Ну, да.
– Ты с юга, – догадывается она.
– Да. Я из Макона.
– Это, типа, где-то в Алабаме?
Я смотрю на нее во все глаза, не понимая, шутит она или нет.
– Нет, это в Джорджии.
– А. Я – Лиззи Дэвис, – она даже не протягивает руку.
– Грей Амундсен.
– Грей. Серый цвет?
– Ну, да... только пишется по-другому.
– А. Как в «Пятидесяти оттенках».
Я пожимаю плечами, не желая показывать, что я знаю, о чем она говорит. Она самодовольно усмехается и продолжает настраивать свою гитару. Ее телефон звонит, и она откладывает инструмент, скрещивая ноги и проводя по экрану. Она занимается этим, пока я разбираю вещи. У меня нет ни плакатов, ни других украшений, кроме фотографии меня и мамочки в Нью-Йорке. У меня нет ни ноутбука, ни телефона. Я замечаю ноутбук на столе Лиззи, большой серебристый MacBook.
Когда я раскладываю вещи до конца, мне нечего делать. Лиззи до сих пор кому-то пишет сообщения, или чем она там занимается. Сейчас 4 часа дня, среда, а занятия не начнутся до пятницы, а потом у нас будут целые выходные до того, как мы начнем учиться по-настоящему. Я забираюсь по лестнице, ложусь на бок и разглядываю стену, думая о мамочке. Она бы велела мне прекратить хандру и найти себе занятие. Разведать город, потанцевать. Снять фильм.
Вместо этого я лежу на верхнем ярусе и размышляю, не совершила ли я ошибку, приехав сюда.
∙ Глава 5 ∙
За следующий год урчание в животе становится привычным. Стипендия, на которую я живу, мизерная, и ее едва хватает на обеды в столовой, которые обычно отвратительны и редки. Я провожу на занятиях все дни с утра до вечера, и часто у меня хватает времени только на то, чтобы съесть какой-нибудь рогалик утром и что-нибудь быстрое и невкусное вечером. У меня высокие оценки, 4.0 за первый семестр, 3.9 за второй. Я изучаю кино и занимаюсь танцами. Мое прибежище, мое святилище вдалеке от всего – тихая комната на верхнем этаже одного из корпусов. Я никогда никого там не встречала, так как на это этаже в основном находятся кабинеты администрации. Комната довольна просторна для моих занятий, и пустая, не считая единственного шкафа с документами в углу, так что я могу свободно танцевать. Там имеется окно, впускающее в помещение дневной свет, и розетка близко к полу, к которой я подключаю свой айпод.
Я ухожу туда между занятиями, включаю негромкую музыку и запираю дверь. Я нахожу песню, которая трогает струны моей души, и начинаю танцевать. Я просто двигаюсь, позволяя телу лететь. Нет никакой хореографии, никаких правил, никаких ожиданий, никакого рвения получить хорошую оценку и никакого ощущения одиночества. Только растяжки, прыжки, пируэты и сила в моих ногах, натянутый внутренний стержень. В этом месте я всецело могу быть собой.
Мой первый учебный год проходит неплохо. Я отделалась от всех общеобразовательных предметов, английского, химии и двух семестров иностранного языка. Второй год начался для меня с первых курсов среднего уровня и нескольких вводных занятий по кинопроизводству. Отсутствие денег означает, что я редко выхожу из кампуса. Я провожу дни на занятиях, делая записи, или в своей комнате за домашним заданием. Лиззи почти никогда не бывает в общежитии, она возвращается поздно, пропахшая алкоголем. Однажды она пригласила меня на вечеринку, но я отказалась. Мне это не интересно.
Папа ни разу не пытался связаться со мной.
Мой двадцатый день рождения проходит незамеченным. Я провожу его за написанием эссе для «Метрополя» об использовании угла обзора видеокамеры и длительности кадра. У меня нет друзей. Я не знаю, как их нужно заводить.
Единственное, благодаря чему я остаюсь в здравом уме, – это школа. Для большинства людей, колледж – это работа. Это стадия, которую они должны пройти в своей жизни; для меня же это – моя жизнь. Для меня это не просто просиживание лекций и написание эссе, это обучение искусству, мастерству. Я впитываю все знания о кинематографе, какие могу, о процессе перенесения идеи из заметок на бумаге на большой экран. Я смотрю фильмы в любой свободный момент и анализирую их. Я ношу камеру всюду, куда бы я ни пошла, снимая короткометражки обо всем, что попадается на глаза. Большинство этих видео – виньетки, просто моменты жизни, на которые наложена музыка. Они для меня такое же самовыражение, как и музыка.
В середине второго курса меня вызывают в центр финансовой помощи. Мне пришло письмо, написанное очень туманно, о том, что с моим положением возникли некоторые проблемы. Или типа того. Я бегло просмотрела его. Я прохожу в кабинет с серой плиткой на полу, серыми колоннами, красными кожаными диванами и узкими шкафами. После получасового ожидания меня вызывает к себе женщина за тридцать с кожей цвета мокко и короткими кучерявыми черными волосами.
– Здравствуй, Грей. Меня зовут Аня Миллер.
– Здравствуйте, миссис Миллер. Мне пришло оповещение из вашего офиса о моей финансовой поддержке.
– Называйте меня Аня, прошу вас, – она берет мое удостоверение и достает мои документы, читая их с все возрастающе смущенным выражением лица, что говорит о том, что новости меня не обрадуют.
– Итак, Грей. Ваша стипендия покрывала почти все твое обучение и стоимость общежития. К сожалению, вы израсходовали почти все бюджетные средства. Вам хватит их, чтобы окончить этот год. Или же вы можете растянуть их и покрыть стоимость обучения, но так же не целиком. Вы числитесь как самостоятельная, значит, можете сами себя обеспечивать. Если бы вы были записаны как живущая за счет родителей, а их доход был бы низким, можно было бы обратиться за финансовой помощью. Но так как Вы независима, вы можете устроиться на работу, чтобы обеспечить себя.
– Но как они могли закончиться? Я думала, что это ссуда. Ну, что средства будут пополняться. Я хочу сказать... что мне теперь делать?
Аня просто одаривает меня сочувственным взглядом, дающим понять, что ответить ей нечем.
– Это был грант, а значит, ограниченная сумма денег. Вам это должны были объяснить. Вы могли бы подать заявку на стажировку, но ярмарка вакансий проходила неделю назад, и, боюсь, все места уже заняты. Что касается проживания в кампусе, то большинству студентов в конце концов удается найти работу, чтобы оплатить проживание, – она говорит это, будто это все очевидные вещи.
Я предполагаю, что это объясняли мне или мамочке, но я так была занята ее борьбой с раком, что не уделяла этому внимания. И, видимо, это было очевидно, но я раньше никогда не работала. Я не имею понятия, как искать работу.
Рассеянно поблагодарив Аню Миллер, я выхожу из офиса, ошеломленная. Все время между занятиями на этой неделе я провожу в поисках работы в кампусе, но никаких вакансий нет. Даже места уборщиков заняты. Я получаю официальное письмо от университета с указанием средств, оставшихся на моем счету, и сколько мне придется отдавать каждый семестр, если я использую половину моей стипендии для платы за обучение. Это огромная сумма денег. А на моем счету тридцать долларов.
Я заполняю одно резюме за другим в близлежащих ресторанах и барах, магазинах и бутиках. Ни у кого нет для меня места. Проходит неделя, за ней другая. Я достаю карту Лос-Анджелеса с маршрутами автобусов и начинаю подавать заявления в места все дальше и дальше от университета.
Может быть, я задаю неправильные вопросы, или, может быть, все вакансии действительно заняты, но удача абсолютно не на моей стороне. Кажется, я почти получила работу в одном баре, но менеджер, проводивший собеседование, узнал, что у меня нет опыта, и вновь ничего не вышло. Если я в скором времени не найду работу, мне негде будет жить, а единственное, ради чего я в Лос-Анджелесе, – степень по кинематографии – я не получу.
Я еду на автобусе все дальше и дальше, спрашивая всех и вся, найдется ли для меня работа. Ни у кого ее нет.
И вдруг я вижу надпись: «ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!».
Мой желудок сжимается, как только я вижу название заведения: «Джентльменский клуб экзотических ночей». Знак о приеме на работу гласит: «Принимаем экзотических танцовщиц прямо сейчас. Обратитесь к администратору за подробностями».
Может, я и наивная пасторская дочь и деревенщина из Макона, но я знаю, что такое джентльменский клуб и что такое экзотические танцы.
Я продолжаю ехать в автобусе. Выхожу у кабака и узнаю там насчет работы, но мне не везет. Я даже нахожу танцевальную студию, прохожу пробы и спрашиваю, есть ли у них вакансии, но владелица просто высмеивает меня.
Проходят недели. Конец семестра не за горизонтом. То объявление о работе преследует меня. Оно даже мне снится. Это работа. Это доход. Это шанс остаться в общежитии. Но... это джентльменский клуб. Стрип-клуб.
Это означает, что мне придется снимать с себя одежду в обмен на деньги. У меня все внутри сжимается при одной мысли об этом. Я даже бикини не надевала никогда. Никто не видел меня голой с тех пор, как я начала купаться в ванной самостоятельно в возрасте девяти. Я не могу. Я просто не могу.
Могу ли я?
Я не могу просить денег у папы. Я не могу вернуться в Джорджию.
Я не могу ни спать, ни есть. Я пропускаю занятие и заваливаю тест. Мне приходит официальное извещение о том, что плата за общежитие истекла. Через неделю я олучаю письмо, повторяющее, сколько придется платить за обучение в следующем семестре, включая все занятия и двенадцать факультативных часов. Плата за общежитие дополнительная.
Я проплакала всю ночь.
Я вставляю четвертак в поломанный изрисованный автомат на улице и набираю папин номер, слушаю один гудок, второй. Я бросаю трубку до того, как раздается третий.
Потом происходит перемена. Я получаю работу хостесс в итальянском ресторане. Это место, это работа. Я проработала достаточно, чтобы получить две зарплаты, и также достаточно для того, чтобы понять, что этого мне и близко не хватит, чтобы оплатить обучение. Я умоляю их дать мне дополнительные часы, обслуживать столики, что угодно, но менеджер и не думает идти мне навстречу, указывая на отсутствие опыта. Через несколько месяцев мне, может быть, поручат обслуживать столики, но не сейчас.
Этого недостаточно. У меня нет времени ждать; мне нужны деньги прямо сейчас. Я продолжаю работать хостесс и искать другое место.
Джентльменский клуб возникает в моих мыслях вновь и вновь. Я знаю, что я смогла бы на этом заработать.
Наконец семестр подходит к концу, и у меня есть две недели, чтобы найти средства на обучение, комнату и питание. Это невероятная сумма. Тысячи и тысячи долларов.
Время принять решение.
Я поправляю сумку на плече, подавляю тошноту и сажусь в автобус. Он один из новых, красный и футуристичный. Я в наушниках, слушаю “Ten Thousand Hours” Macklemore, песню, на которую случайно наткнулась онлайн. Я качаю головой в такт песне и концентрирую внимание на тексте, на плавном, страстном потоке ритма и красоте слов. Я стараюсь не думать о том, что мне сейчас предстоит сделать.
Мне почти удалось убедить себя, что это как любая другая работа. Но потом автобус тормозит и я выхожу, попадая на раскаленный жаркий воздух. Мои туфли на танкетке от Mary Jane клацают по потрескавшемуся асфальту, пока я прохожу три квартала до дверей клуба. Это низкое кирпичное здание с затемненными окнами и поблекшим белым навесом. Название написано поверх затемненных стекол желтыми неоновыми трубками: «Джентльменский клуб экзотических ночей», и рядом с ним – объявление о работе. Нет ни телефонного номера, ни адреса, ни часов работы. Просто дверь, через которую видно фойе. Сейчас день, и крошечная парковка пустует, не считая единственного автомобиля, Trans-Am с откинутым верхом. Руки дрожат, когда я хватаюсь за накалившуюся на солнце металлическую ручку двери. Меня подташнивает, но я подавляю позыв.
Дверь бесшумно раскрывается. Коридор, едва в десять шагов длиной, заканчивается еще одной дверью из черного дерева с круглой латунной ручкой, которая ведет в единственное злачное заведение, в котором я когда-либо была. Везде горят лампы, освещая около пятидесяти маленьких круглых столиков, поставленных впритык к полукруглой сцене. Серебристый металлический шест тянется от сцены до потолка, и прожекторы, в данный момент выключенные, направлены в центр сцены. По одну сторону в клубе простирается барная стойка, а у другой стены расположены кабинки, покрытые красной потрескавшейся кожей, рядом с ними автоматы с салфетками из липкого на вид пластика.
В баре сидит мужчина, перед ним стоит небольшой стакан, наполненный светлой жидкостью со льдом, несмотря на то, что сейчас нет и трех часов дня. Он низкого роста, притом что он сидит, и у него черные зализанные назад волосы как в фильмах про гангстеров. На нем вырвиглазно яркая гавайская рубашка на пуговицах и черные брюки в обтяжку.
Он слышит, что я вошла, и поворачивается в мою сторону, небрежно бросая:
– Мы закрыты...
Но потом видит меня, обрывает себя на полуслове и встает.
Мой взгляд останавливается на его туфлях из змеиной кожи и узкими носами, на животе, выпячивающемся из-под рубашки, и на шести золотых кольцах на его пальцах. У него неряшливая эспаньолка, круглое лицо и юркие карие глаза.
– Ну, здравствуй, дорогая. Чем могу помочь? – его голос меняется с пронзительно высокого до плавного и услужливого.
Его взгляд нагло переносится с моего лица на мою грудь, задержавшись там на долгое время, опустившись на мои бедра и обратно вверх. Я одета как обычно, в пару сидящих на моей фигуре, но не обтягивающих джинсах, и в зеленую кофточку на пуговицах без рукавов.
Мой голос не слушается. Я не могу заставить себя выговорить эти слова. Я делаю глубокий вдох и выдавливаю их:
– Я увидела объявление... и мне... мне нужна работа, – южный акцент в моем голосе еще никогда не был так отчетлив.
Мужчина делает шаг вперед и пожимает мою руку. Ее ладонь липкая, пальцы толстые, а рукопожатие вялое.
– Меня зовут Тимоти ван Даттон. Я управляющий. Не желаете присесть? – он ставит рядом со своим стулом еще один. – Хотите что-нибудь выпить?
– Просто воду со льдом, пожалуйста, – я пытаюсь подавить акцент, но ничего не выходит. Я слишком нервничаю.
Он суетится вокруг стойки, бросает лед в стакан и наливает воду, затем толкает стакан по стойке в мою сторону и снова садится.
– Итак, как вас зовут?
– Грей. Грей Амундсен.
– Грей. Какое милое имя.
– Спасибо.
– Итак, Грей Амундсен. Вы здесь по поводу вакансии?
Я киваю:
– Да. Я... я учусь в университете, и мне... мне нужна работа.
Он потирает усы над верхней губой, затем подбородок, внимательно оглядывая мою фигуру еще раз.
– Вы когда-нибудь танцевали?
– Танцевала? Я думала... я думала, это... ну Вы понимаете. Стрип-клуб, – шепчу я последние слова, с трудом выдавливая их.
Тимоти смеется:
– Большинство моих девочек предпочитают называть себя «экзотическими танцовщицами». Итак, я делаю вывод, что Вы никогда раньше не танцевали.
Мне действительно нужна эта работа, поэтому мне лучше постараться, чтобы получить ее. Я должна заставить его думать, что я с ней справлюсь, даже если я сама в этом не уверена.
– Я танцовщица. Я обучалась балету, джазу и современному танцу. Поэтому... я танцовщица. Просто... я никогда не танцевала... вот так, – я показываю рукой на сцену, на шест.
– Ясно. Так почему тогда вы решили этим заняться? Это работа не для всех. Здесь требуются определенные навыки. Вы не можете просто подняться на сцену и снять одежду. Это так не работает. Вы должны заставить их захотеть вас, – его глаза ни разу не оторвались от моей груди за весь наш разговор.
Я не обращаю на это внимание.
– Я умею выступать на сцене. Я участвовала в концертах. Так что... я знаю, как выступать.
Он смеется:
– Но это совсем не такие выступления, солнышко. Теперь, не поймите меня неправильно, но вы сейчас, похоже, описаетесь от страха. Так почему бы вам не быть честной со мной?
– Мне очень нужна эта работа, – я уставилась на липкую поверхность бара, не глядя Тимоти Ван Даттону в глаза. – Может, такая работа и не была моим изначальным выбором, но... я научусь.
Тимоти не сразу отвечает. Он подносит стакан к губам и делает глоток, издавая шипение, выпив то, что у него там в стакане. Его взгляд снова меня сканирует.
– Встаньте.
Я подчиняюсь, и он крутит указательным пальцем в воздухе. Такой же жест показывала нам миссис Леруа, чтобы мы сделали пируэт, и я кружусь.
– Смотрится неплохо, но делай это медленнее.
Я медленно поворачиваюсь, изгибаясь в спине, выпячивая грудь. Я чувствую на себе его взгляд, и по мне пробегают мурашки.
– Расстегните-ка несколько пуговиц.
Я останавливаюсь, уставясь ему в глаза.
– Что? – в ужасе шепчу я.
– На рубашке. Расстегните несколько пуговиц. Мне нужно увидеть немного кожи.
Я колеблюсь, и он наклоняется вперед, щуря глаза:
– Послушай, золотце. Ты хочешь устроиться экзотической танцовщицей. Это означает, что тебе придется раздеваться. Мы продаем алкоголь, поэтому у нас танцуют в полуобнаженном виде, а это значит, что ты не будешь полностью голой, но ты должна чувствовать себя комфортно без одежды. Понятно? А теперь расстегивай блузку или убирайся.
Он прав, так что я проглатываю гордость, хотя я скорее с радостью пнула бы его из всех сил между ног. Я закрываю глаза, подношу правую руку к блузке, сжимаю пластиковую пуговку, снова колеблюсь, и наконец проталкиваю ее в разрез. Я чувствую, как моя невинность осыпается слой за слоем, по мере того как каждая пуговица проскальзывает через разрезы в ткани на блузке. Я делаю это снова, и затем в третий раз.
Это не то, как я себе представляла первое в своей жизни обнажение перед мужчиной. Меня тошнит, я напугана и чувствую отвращение.
Мое декольте теперь видно над краями блузки, и чуть показывается черный бюстгальтер. Я тяжело дышу, и от каждого вдоха мои груди поднимаются. Глаза Тимоти прикованы к ним. Он приподнимает бровь и тычет в меня пальцем, что означает, что мне нужно расстегнуть еще одну пуговицу. Я расстегиваю, и слезы наполняют мои глаза. Я смаргиваю их и опускаю взгляд. С кончика моего носа спадает слезинка и падает к ногам, а за ней следом другие. Я быстро моргаю и тяжело дышу, концентрируясь на том, чтобы сдержать рыдания, подступающие к горлу. Его лицо выражает чистое вожделение. Я бросаю на него взгляд сквозь ресницы, и вижу, что он засовывает руку в карман. Он самоудовлетворяется, и мое отвращение растет. Может, я и девственница, но мне известны основы. Мне известно, почему ему вдруг приспичило самоудовлетвориться.
Я сглатываю, у меня во рту словно горькая горящая кислота.
– Хорошо. Очень хорошо. У тебя великолепное тело, и твой невинный вид будет сводить мужчин с ума, – наконец говорит он.
Он говорит обо мне. Это приводит меня в замешательство. Я отчаянно хочу застегнуть блузку, но я сдерживаюсь. Тимоти прав в том, что мне придется привыкнуть к тому, что меня будут разглядывать. И это наименьшее, что мне придется терпеть на этой работе. Понятия не имею, сколько за это платят, но я знаю, что стриптизершам платят хорошо. Все, что мне известно, – что я отчаянно нуждаюсь в этой работе, и, если я буду раздеваться на глазах у мужчин всю ночь напролет, то лучше бы это того стоило.