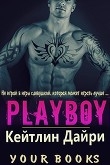Текст книги "Стриптизерша (ЛП)"
Автор книги: Джасинда Уайлдер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Во мне расцветает надежда.
– Это настоящая киношкола?
– Абсолютно. Это отличный шанс набраться опыта и завести связи в киноиндустрии.
– Меня научат, как снимать настоящее кино? Взаправду? – мне так этого хочется, но тут я вспоминаю про папу. – Мой отец не разрешит, – отвечаю я мистеру Роковски.
– Почему нет?
Я пожимаю плечами в нежелании объяснять.
– Он... очень строгий. Он не одобряет Голливуд.
– Но ты хочешь этого? Я имею в виду, что, если ты получишь грант на обучение? Это реально. У меня есть связи. Ты показала настоящую страсть к кино в этом семестре, Грей. Я думаю, ты далеко пойдешь.
Я качаю головой:
– Я подумаю об этом. Я бы хотела, правда. Но... я знаю моего отца.
Мистер Роковски потирает лицо рукой, его карие глаза пристально смотрят на меня, и он отводит взгляд.
– Твои отношения с отцом – твое личное дело. Просто подумай об этом, хорошо? Ненавижу, когда талант растрачивается впустую.
Я думаю об этом... о боже, конечно, я думаю об этом. Я сижу за столом на кухне, вертя карандаш в руках. Я работаю над моей собственной идеей для фильма, пишу сценарий и придумываю сюжет. Я пытаюсь поговорить об этом с мамой, но она не считает это хорошей идеей.
– Ты знаешь папу, Грей. Голливуд аморален, и киноиндустрия полна акул. Тебе придется совершать множество грязных вещей. Это прославление всех грехов нашего общества.
Она буквально цитирует папины слова.
– Не думаю, что ты действительно думала заниматься этим, солнце. Продолжай танцы. Найди себе хорошего, благочестивого мужа.
– Ты хочешь сказать, пастора, чтобы я стала, как ты.
– И что в этом плохого? – резко спрашивает мама.
– Ничего, но это не то, чего я бы хотела. Я люблю кино. Я люблю танцевать, но мне нравится заниматься этим для себя. Я не хочу стать профессиональной танцовщицей, так как это уже не будет приносить удовольствие. Я хочу сделать карьеру в кино.
Я не хочу быть женой пастора. Я думаю об этом, но не произношу вслух.
– Я не думаю, что это возможно, милая, – она аккуратно убирает белокурую прядь, упавшую ей на лицо. Она берется пальцами за переносицу и медленно выдыхает.
– Просто подумай еще раз как следует, Грей, солнышко. Стоит ли так отчуждаться от своего отца? Он будет так разочарован.
Она оступается, будто у нее кружится голова или она потеряла ориентацию. Я отбрасываю в сторону стул и ловлю ее.
– Мама? Что с тобой?
– Все хорошо, дорогая. Просто кружится голова. У меня не было аппетита в последнее время, так что это, наверно, от голода.
Это кажется мне бессмысленным.
– Мама, я серьезно. Головные боли вернулись?
– Они и не уходили, честно говоря, – она опирается на стойку бара. – Все со мной хорошо. Я приму таблетку, и все будет хорошо.
Я больше не задаю вопросы, но тревога вернулась ко мне.
На следующей неделе я прихожу в папин кабинет. Сейчас вторник, а значит, проповеди только начинаются, и это самое удобное время, чтобы поговорить с ним. После среды он раздражается, если ему мешают.
Я сажусь в кресло на другом конце его огромного дубового стола:
– Привет, папуль. Как дела с проповедью?
Он откидывается на спинку, снимая очки. Проводит рукой по белокурым волосам.
– Привет, Грей. Все довольно неплохо. В проповеди пойдет речь о том, как распространять благо в этом безблагодатном мире, – он всматривается в меня. – Похоже, ты хочешь о чем-то попросить.
Я одаряю его самой чарующей улыбкой:
– Возможно.
Он усмехается и делает глоток из высокого стакана со сладким чаем. Позванивают кусочки льда, и капелька пота стекает с края стакана, когда он ставит его на место.
– Ну же? Говори.
– В общем, я посещала занятие по кинематограии в этом семестре. И мне очень, очень понравилось, пап. Это было так интересно. Мы многое узнали про кино. Преподаватель раньше работал оператором, и он участвовал в съемках «Призрака», знаешь, тот фильм с Патриком Суэйзи и Деми Мур?
– Ты имеешь в виду тот, про человека, который следовал за своей женой? Призраки – слуги дьявола, Грей. Инструмент лукавого. Это не какое-то глупое развлечение.
– Это романтика, папа. Он любил ее. Он не хотел оставлять ее одну.
– Он не хотел принять волю Господа.
Я вздыхаю.
– Ладно, неважно, мне понравился этот фильм, и занятия мне понравились. Мистер Роковски считает, что я могу поступить в университет кинематографии.
Я показываю ему брошюру, и он медленно пролистывает ее, читая описание и рекомендации.
– Я так хочу, хочу, хочу заниматься этим. Это такая возможность узнать больше об этой индустрии. Мистер Роковски думает, что может помочь мне получить грант, и тебе не придется платить за учебу.
Папа надевает очки и читает брошюру от начала до конца, затем включает компьютер и набирает адрес сайта. Я сижу молча, затаив дыхание. После долгих минут молчания он опять снимает очки и откидывается.
– Ты всерьез это решила?
Я энергично киваю. Я долго продумывала, как ему это преподнести. Мне нужно было показать ему, что это духовно. Нужно было донести до него, что я буду отличаться от остального Голливуда.
– Абсолютно. Это то, чем я хочу заниматься по жизни. Я не хочу быть актрисой или кем-то вроде этого. Я хочу рассказывать истории. Есть много способов, как рассказать хорошую историю, чтобы воодушевлять людей, и кино – один из них. Это может стать моей службой. Как для Кирка Камерона в фильме «Огнеупорный».
Он глубоко выдыхает.
– Я ожидал лучшего от тебя, Грей, – его голос вдруг становится тяжелым и острым, и я вздрагиваю. – Правда. Киношкола? Это еще хуже, чем непристойные танцы. Тебе придется работать с последними мерзавцами. Люди, которые считают, что это нормально – прославлять убийство, обман и сексуальные извращения.
– Но папа, необязательно показывать именно это...
– Только именно так и случится. Они будут извлекать выгоду с помощью тебя. Такая невинная, красивая девушка как ты, и в Голливуде? Они съедят тебя живьем.
– Но что самое замечательное в этом курсе – он преподается здесь, в Маконе. Мне не придется ехать в Лос-Анджелес, чтобы пройти его.
Он долго не отвечал. Когда ответил, его взгляд был тверд как кремень:
– Этот разговор окончен. Ты не станешь частью этой индустрии.
Он повернулся от меня на стуле к экрану компьютера, дав понять, что это четкий отказ.
Но я продолжаю бороться:
– Ты не понимаешь.
– Понимаю, и очень хорошо, – теперь он не смотрит на меня. Игнорирует меня. – Ты как раз не понимаешь, что это такое. Каковы люди, что они могут сделать. Они развратят тебя. Моя забота, как отца, защитить тебя, чтобы оградить от подобного.
Я сжимаю кулаки и дрожу, в горле застревает пылающий от бессилия гнев.
– Только это ты и делаешь! Ограждаешь меня! Ты меня не понимаешь! Совсем. Никогда не понимал. Это то, чего я хочу. То, что ты пастор, не означает, что у меня не может быть моей собственной жизни и своих интересов. Не все приводит к греху, а ты ведешь себя так, будто без исключения каждая вещь, которой нет в Библии, ведет к разврату!
Я встаю, плача и крича:
– Боже, ты такой... черт побери, такой ограниченный!
Багровый от гнева, папа поднимается, опрокидывая подставку с ручками:
– Не смей упоминать имя Господа всуе таким образом, Грей Лиэн Амундсен, – он указывает пальцем в мою сторону, теперь он полностью ведет себя, как настоящий пастор. – Я твой отец, и Бог возложил на меня ответственность заботиться о тебе. Я ответственен за твою душу.
– НЕТ! Не ответственен! Мне скоро восемнадцать. Я могу сама принимать решения, – я разрываюсь между страхом и гордостью. Я никогда до этого в своей жизни не возражала папе.
Этот момент каким-то образом изменил всё.
– До тех пор, пока ты живешь в моем доме, ты будешь подчиняться моим правилам и делать то, что я говорю. А я говорю, что ты не поступишь на этот курс, – он садится и ставит подставку на место. – За свое непослушное поведение и непристойную речь все твои занятия танцами запрещены.
Я падаю на стул.
– Но, папа. Прости. Не надо... Я должна выступать в понедельник. Если я не буду танцевать, им придется отменить все выступление.
– Значит, отменят, – он больше не смотрит на меня.
Я выхожу из кабинета в слезах, отступая в свою комнату. Наконец приходит мама и садится на кровать. Я тут же встаю. Она выглядит бледной и похудевшей, с измученным лицом.
– Мама, ты в порядке?
Она пожимает плечами:
– Все хорошо, малыш, – она гладит мою руку. – Я говорила тебе не напирать на него, милая. Я поговорю с отцом и увидим, может, я смогу убедить его позволить тебе выступить в понедельник. Но... тебе правда следует отказаться от этой глупой затеи с кино. Я знаю... знаю, что ты не хочешь быть пасторской женой, и я тебя понимаю. Но кино? Это не для тебя.
Я не отвечаю. Я знаю, что им не понять, даже маме. Когда становится ясно, что я не стану больше с ней это обсуждать, она встает, снова взяв меня за руку:
– Я поговорю с ним. Просто... подумай о своем выборе, хорошо? Подумай о том, какой план у Бога на твою жизнь. Разве эта внезапная страсть к развратным фильмам прославит его?
Я только вздыхаю, осознав бесполезность разговоров с ней о разнице между планам Бога на мою жизнь и моими планами на жизнь. Она уходит, а я снова остаюсь одна. Я лежу на кровати, уставясь в потолок в честных попытках подумать над этим. Я могла бы понять их реакцию, если бы сказала, что хочу переехать в Лос-Анджелес и стать актрисой, или в Нэшвилль, чтобы быть музыкантом. Но я предложила, что останусь рядом с домом и под их влиянием после школы. Все, что волнует папу, – его собственные взгляды на то, что правильно, а что плохо. Все либо черное, либо белое, по его мнению, и большая часть вещей черны. Гораздо больше греховных и неправильных вещей, чем тех, которые дозволены.
Я задумываюсь, как он может узнать, что Бог не одобряет все, что папа называет неправильным. Я знаю, что у него есть цитаты из Библии, чтобы подтвердить все, во что он верит. Просто... просто мне интересно, это манипуляция Писанием, чтобы запретить все, что ему не нравится, или же это нежелание понять. И, честно говоря, он никогда не бывал за пределами Джорджии. Он вырос здесь, в Маконе, получил степень по теологии в Баптистской Семинарии Святой Троицы в Джексоне, за час к северу от нас. Он не может знать всего.
Чем больше я об этом думаю, тем больше злюсь.
Я начинаю представлять все находчивые и остроумные аргументы, которыми могла бы ответить папе. У меня уже никогда не получится их произнести, но так уж вышло. Я всегда размышляю о споре, когда он уже закончился, думая о том, что могла бы сказать, или что должна была сказать, как я могла повернуть все в свою пользу.
Я удивлена, когда дверь открывается и я вижу папу на пороге. Я ожидала, что это будет мама, но вместо нее там он с испуганным видом.
– Папа? Что такое?
– Твоя мама... она... она упала в обморок. Скорая помощь уже едет. Это все эти головные боли. Она просто упала, Грей. Ударилась о плиту и сломала запястье. Молись за нее, Грей. Молись Господу, чтобы он уберег ее.
Я дрожу, слезы застревают в горле. Это плохо. Очень плохо.
∙ Глава 3 ∙
Я сижу, сложив руки на коленях и опустив глаза. Я не могу на нее смотреть. Аппарат непрестанно гудит, что-то отображая. Мои глаза горят, но они сухие. Я выплакала все слезы за прошедшие несколько месяцев. Ей стало еще хуже, и теперь она – скелет в больничной кровати, обтянутый кожей. Ее волос больше нет. Ее щеки ввалились. Пальцы стали обмякшими, хрупкими и крошечными. Она едва дышит. Я плакала и плакала, и больше плакать не могу.
Я молилась Богу, чтобы он спас ее. Я не спала ночами, стоя на коленях в молитве. Но мамочка все равно умирает.
Мамочка. Я не называла ее так и не думала так о ней с десяти лет, когда Элли Хендерсон высмеивал меня за это перед всем классом. Больше она не была «мамочкой». Но сейчас... она снова ею стала.
Невозмутимый, папа остается тверд во мнении, что таков Божий план.
Я не считаю, что у Него есть план. Я считаю, что иногда люди просто умирают. Мама умирает. У нее осталось всего несколько дней.
Двумя днями ранее я бы вышла из палаты, в то время как доктор Патак говорил моему отцу, что следует готовиться к худшему.
Папа просто повторял свою мантру:
– Нельзя помешать воле Божьей.
Доктор Патак начал раздраженно ворчать:
– Я уважаю вашу веру, мистер Амундсен, правда. Я тоже глубоко верующий, хоть вы бы и не согласились со всем, во что я верю. Так что я понимаю вас. Иногда нам приходится быть готовыми к воле Господа нашего, даже если он желает, чтобы мы были не теми, кем являемся. Возможно, ваш Бог не сотворит чудо. Возможно, сотворит. Я надеюсь ради аас и вашей дочери, что Он сотворит великое чудо и излечит вашу жену, так как я был свидетелем подобным чудесам. Я молюсь с вами, по-своему, чтобы чудо свершилось. Но иногда они не случаются. Такова жизнь.
Сейчас я держу мамину руку, шершавую, как пергамент, в своей, и смотрю, как она дышит. Каждый вдох очень медленный. Она делает усилие, чтобы втянуть воздух, и затем выпускает его так же медленно. Что-то гремит в ее груди. Ее организм сдается. Сдается не она, а ее тело. Мама боролась. Господи, как она боролась. Химио-, радиотерапия, операция. На ее голове шрамы и швы в тех местах, где ее сверлили и прорезали череп. Она хотела, чтобы опухоль удалили. Она хотела жить. Ради папы. Ради меня.
Она заставила меня жить. Заставляла ходить в школу, продолжать учиться. Заставила меня подать документы в колледжи. Она даже разрешила мне подать в Университет Южной Калифорнии. Одна из самых престижных киношкол в мире. Она помогла мне получить стипендии. Она не позволяла папе препятствовать мне и убедила его не мешать. Она не хотела, чтобы мы ссорились, и мы не ссорились. Папа так и не согласился и не одобрил. Но когда меня приняли в Университет Южной Калифорнии и я перестала притворяться, что рассматриваю другие варианты, он понял, что всё всерьез. Всё случилось. Может быть, он решил, что мама, будучи больной, изменит мнение. Может, он думал, что может просто топнуть ногой и все будет так, как он того хочет, без учета моего мнения. Я не знаю.
Но теперь... она проигрывает битву.
Все, что я знаю, это то, что я еду в УЮК. Мама поняла мое увлечение до того, как рак забрал ее. Я потратила мое пособие на хорошую камеру и начала снимать собственные фильмы, небольшие зарисовки обо мне, о жизни. Я подружилась с бездомным из Макона и сняла фильм о нем. Мистер Роковски помог мне отредактировать видео и наложил саундтрек.
Я показал фильм папе. Он сказал, что это трогательное видео, но если я буду учиться в университете в Лос-Анджелесе, мои благие намерения не будут иметь значения. Меня затянет распутный лос-анджелесский образ жизни. Я дала ему закончить свою пафосную речь, и он ушел. Кино – это мое искусство, как и танец. Я не нуждаюсь в его одобрении.
Я засняла и мамину борьбу с раком. Она позволила мне снять каждый ее момент. Я даже пропускала занятия, чтобы заснять, как она проходит химиотерапию. Она сказала, что это ее наследство, что она справится с ним, и что мой фильм запечатлит ее победу.
Моя камера стоит на штативе в углу, наблюдая за тем, как мама умирает. Записывает ее борьбу за дыхание. Камера записала ее последние слова, два дня назад: «Я люблю тебя, Грей». Камера записывает каждый гудок аппарата, показывающего ее сердцебиение.
Папа ушел за кофе и едой. Я уставилась на дверь, прикрытую и пропускающую через трещину между косяком тонкий поток флуоресцентного света из коридора и скрип обуви. Раздается пронзительный крик медсестры: «Доктор Харрис, пройдите в 7 палату...»
Я нежно сжимаю мамину руку. Она сжимает мою в ответ. Ее веки трепещут, но глаза закрыты. Она слышит меня.
– Мамочка? – с усилием произношу я. – Всё хорошо, мамочка. Со мной все будет хорошо. Я буду скучать по тебе каждый день. Но... ты так боролась. Я знаю, это так. Я знаю, как сильно ты любишь меня и папу. Я позабочусь о нем, хорошо? Ты... ты можешь уйти. Все будет хорошо. Тебе не нужно больше сражаться.
Это ложь: я не стану заботиться о папе. Она нуждается в этой лжи, поэтому я говорю это. С моих губ срывается всхлип. Я кладу голову на ее хрупкую грудь, прислушиваясь к слабому биению ее сердца.
– Я люблю тебя, мамочка. Я люблю тебя. Папа любит тебя, – я слышу, что сердцебиение становится слабее, медленнее. Несколько секунд между ударами, а теперь практически минута. – Я люблю тебя. Прощай, мамочка. Да пребудет с тобой Бог.
Эти слова – наихудшая ложь. Я не верю им. Я не верю в Бога.
Уже нет.
Я слышу громкие рыдания и осознаю, что это я. Затем ничего. Тишина. Покой.
Я выключила монитор. Я слышу сигнал об остановившемся сердцебиении. Врывается толпа медсестер и начинает реанимацию.
– ПЕРЕСТАНЬТЕ! – кричу я во все горло. Я даже не встала со стула. – Просто... перестаньте. Она умерла. Пожалуйста... оставьте ее. Она умерла.
Папа в дверях с чашкой кофе в руках. Он видит панику, слышит сигнал аппарата и мои слова. Чашка выпадает из его рук и ударяется об пол. Обжигающее кофе проливается на его дорогие джинсы и блестящие кожаные ботинки.
– Линн? – его голос обрывается.
Я до сих пор зла на него. Но он мой отец, и это его жена, и ее больше нет.
– Она умерла, папа, говорю я.
– Нет, – он отрицательно качает головой и прорывается сквозь толпу медсестер в красной униформе. – Нет. Она не... Линн? Детка? Нет. Нет. Нет, – он потирает лоб, целует ее губы в тихой отчаянной мольбе.
Она не отвечает на поцелуй, и он падает на пол. Сползает по линолеуму, хватаясь за металлическое изголовье кровати. Его плотные плечи дрожат, но он не издает ни звука, тихо рыдая.
Ужасно видеть его горе. Будто что-то внутри него сломалось. Разрушилось. Было разрублено на кусочки кинжалом равнодушного Господа.
– Почему он позволил ей умереть, папа? – я не могу удержаться от этих слов.
Они злые, потому что я знаю, что у него нет на них ответа. Я всегда знала, что в действительности Бог – всего лишь шарада.
Он на коленях рядом с ее кроватью. Медсестры молча почтительно наблюдают в стороне. Это онкологическая палата; они видели эту сцену много раз.
– Боже... о Боже, почему ты оставил меня? Eli eli lama sabachthani? – он отшатывается от меня, закрывая лицо руками.
В самом деле? Теперь он разглагольствует на арамейском? Он для медперсонала устраивает это религиозное шоу? Он действительно скорбит, я осознаю это. Но почему ему обязательно надо изображать эту набожность, черт побери? Я отворачиваюсь от него. Наклоняюсь к мамочке и целую ее охладевающую шею.
– Прощай, мамочка. Я люблю тебя, – я тихо шепчу, чтобы никто не услышал.
Я покидаю палату. Номер 1176. Как во сне иду к лифту: поворачиваю направо от палаты 1176, вниз по коридору до конца. Еще один длинный коридор. Вправо от ресепшна, через разъезжающиеся двери. Лифты находятся в конце короткого коридора, двойной пласт серебристых дверей. Кнопка вызова горит желтым, стрелки вверх и вниз размыты от частых нажатий. Я не помню, как съехала на лифте вниз и вышла из больницы, только помню, как меня ослепил солнечный свет. Был прекрасный, великолепный, осенний день. Никаких туч, только огромное, бесконечное голубое небо, яркое солнце и прохладный октябрьский воздух.
Почему день так прекрасен, ведь мама только что умерла? Он должен быть мрачным и ужасным. Но, наоборот, в такой день можно было бы кататься на автомобиле в откидным верхом за городом, слушая группу «Guster».
Я очнулась на коленях в траве, окруженная припаркованными машинами. Я рыдаю. Я думала, что выплакала все слезы, но нет.
Я ощущаю присутствие папы позади меня. Впервые в жизни он кажется реальным человеком. Он сидит на траве рядом со мной, безразличный к брызгам от автоматических опрыскивателей. Сейчас раннее утро, только что взошло солнце. Я пробыла в ожидании у ее кровати 48 часов. Я ни разу не отходила. Ни поесть, ни попить, ни в туалет.
Мамочка... мамочка мертва. Я не обращаю внимания на отца и плачу. В конце концов он поднимает меня с земли, ведет к машине и усаживает на заднее сиденье своего БМВ, и я ложусь. Запах кожи наполняет мой нос. Он едет медленно, и я слышу, как он сопит и шмыгает. Слышу, как он вытирает рукой лицо от слез, освобождая место для очередной волны горячей соленой скорби.
Я не могу дышать из-за рыданий, из-за тяжести горя. Мамочка умерла. Она единственная понимала меня. Она была моим заступником перед папой. Когда он отказывался слушать, она говорила с ним за меня. Иногда мне интересно, нравлюсь ли я папе вообще. Я хочу сказать, он мой отец, так что, я знаю, у него есть патриархальное чувство покровительственной любви, но нравлюсь ли я ему? Такая, какая есть? Он вообще когда-нибудь пытался?
И теперь единственного человека, который понимал меня, нет. Нет.
– Остановись, пожалуйста, – я сажусь, хватаясь за ручку закрытой двери. – Меня тошнит...
Он съезжает с грохочущего шоссе на гравий и едет достаточно медленно, и меня рвет в высокую колючую траву на обочине, пока я вываливаюсь из окна машины. Рвота выходит из меня горячим потоком, обжигая горло, сводя желудок судорогами. Глаза слезятся, из носа течет. Папа не помогает мне, не держит мне волосы. Он просто наблюдает со своего места, мотор продолжает работать. Из колонок тихо играет песня Майкла Смита, доносясь до меня из открытой двери. «Подарок». Ненавижу эту песню. Всегда ненавидела эту песню. Он знает, что я ненавижу эту песню.
Я падаю на колени на гравий, тяжело дыша. Я пристально смотрю на него через плечо. Скорбь в его глазах остра как нож. Но это одинокая скорбь. Он витает в собственном мире.
Как и я.
Я выплевываю желчь, вытираю лицо рукавом и закрываю заднюю дверь автомобиля. Сажусь на переднее сиденье, застегиваю ремень безопасности и со злостью выключаю магнитолу.
– Грей, я слушал.
– Я ненавижу эту песню. Ты знаешь, что я ненавижу эту песню.
Он спокойно включает магнитолу обратно и нажимает на кнопку, чтобы переключить на следующую песню.
– Это моя машина. Я буду слушать то, что я хочу, – он не переключил песню, оказывается. Он включил ее с начала. Кажется, даже охваченный горем, он полностью держит себя в руках.
Машина до сих пор стоит, и я отстегиваю ремень и раскрываю дверь.
– Отлично. Тогда я пойду пешком.
– Это целых пять миль, Грей. Залезай обратно.
Что-то взорвалось внутри меня. Я поворачиваюсь к нему и рычу; животным, гортанным, бессловесным рыком.
– Иди на хуй, – говорю я.
У него наконец перехватывает дыхание:
– Грей Линн Амудсен...
Я не обращаю на него внимания и начинаю идти. Мимо с громким свистом и запоздалым порывом холодного воздуха проезжает автомобиль. Он выходит из машины и начинает задабривать меня, умолять и что-то приказывать. Затем пытается затащить меня в салон. Он хватает рукой мое запястье и заталкивает меня в дверь. Я наступаю ему на ногу, вырываюсь из его хватки и затем, – прежде чем сама понимаю, что собираюсь сделать, – ударяю его в челюсть. Мой кулак сам сжимается и дергается, соединяясь с его щекой. Он отшатывается, скорее от удивления, чем от боли. Моя рука зудит. Мне плевать.
– Каков Божий план теперь, папочка? Почему? Почему он допустил это? Скажи мне, папочка! Скажи! – я бью кулаками по его спине.
Он хватает меня за руки.
– Остановись, Грей. Стой. СТОЙ! Я не знаю! Я не... я не знаю. Просто залезай в машину, и мы поговорим.
Я высвобождаю руки.
– Я не хочу об этом говорить. Просто оставь меня, – спокойно произношу я. Слишком спокойно. – Просто... оставь меня в покое.
И... он оставляет меня. Он уезжает, оставив меня на обочине, неизвестно где. В этот момент я ненавижу его. Я не думала, что он просто оставит меня здесь, даже когда я вышла из машины. Еще один всхлип вырывается из моей груди, затем еще один, и вот я снова реву. Мои ноги проходят мили очень медленно, так медленно. В конце концов я звоню Дэвин, своей самой близкой подруге, и она приезжает за мной.
Она мой самый близкий друг, не считая мамы.
Которая умерла. Это снова причиняет мне боль.
Я забираюсь в машину Дэвин и облокачиваюсь на приборную панель.
– Она, она, она умерла, Дэвин. Ее нет. Мамочка умерла.
– Милая, мне так жаль. Мне так жаль, Грей, – она выключает радио и съезжает с обочины, обратно на шоссе, вдаль от Медицинского Центра Джорджии, туда, где мы живем.
Дэвин дает мне выплакаться, и потом начинает говорить.
– Почему ты шла вдоль шоссе? – у Дэвин идеальный акцент южной красотки. Она бережет его, как мне кажется. Я всегда старалась звучать не как деревенщина из центра Джорджии, но родное произношение иногда дает о себе знать.
– Я поругалась с папой. Он... он всегда старается брать на себя всё. Понимаешь? Всё, всё время. Я больше не могу так жить. Не могу. Всё должно быть так, как он хочет. Даже если мы поссорились, он контролирует всё, что я делаю, что говорю, что чувствую, – я шмыгаю носом. – Мне... мне кажется, я ненавижу его, Дэв. Ненавижу. Я знаю, он мой отец и я должна его любить, но он просто... урод.
– Я не знаю, что тебе сказать, Грей. Из всего, что ты рассказала, выходит, что он таки урод, – она оглядывается, меняя полосу, и одаряет меня сочувственной улыбкой. – Не хочешь пожить у меня немного? Родители не станут возражать.
– А можно?
– Давай заберем твои вещи, – предлагает Дэвин, стараясь быть веселой.
Папа закрылся у себя в кабинете. Это о многом мне говорит; он никогда, никогда не закрывает дверь в свой кабинет, только если он действительно расстроен или погружен в молитвы.
Я собираю одежду и принадлежности в сумку, забираю спортивную сумку с вещами для танцев и деньги, оставшиеся от пособия, из тайника в ящике стола. Я оглядываю комнату, и мне кажется, будто я в ней последний раз. Я импульсивно хватаю айпод, лежащий на столе, и зарядник для телефона. Я возвращаюсь к шкафу и складываю всю оставшуюся одежду в чемодан, белье, платья, юбки, блузки, туфли, босоножки, засовываю всё это в мой чемодан марки Самсонайт, пока он не переполнен так, что мне приходится сесть на него, чтобы он закрылся. Я планировала собраться более тщательно, но по какой-то причине, я не знаю, момент настал. Это конец.
Я собираю все плакаты с танцорами со стен комнаты, афиши бродвейских постановок из путешествия в Нью-Йорк, в которое мы с мамой ездили на мое шестнадцатилетие... кажется, будто все это было в подростковом возрасте. Это комната ребенка. Маленькой девочки. В углу даже висит полка с куклами из детства, нарядно разодетыми и сидящими в ряд.
Оглядываю всё в последний раз. Наше с мамой фото в рамке, где мы на Таймс-сквер, отправляется в сумку. Она на нем такая счастливая, как и я. Эта поездка была вдохновлена моей любовью к танцам.
С сумкой для танцев на плече я тащу чемодан вниз по лестнице. Колесики стучат по ступенькам, пока я не оказываюсь внизу. Входная дверь прямо передо мной, а закрытые французские двери в папин кабинет слева от меня. Одна из них раскрывается и показывается папа, с покрасневшими глазами и осунувшимся лицом.
– Куда ты направилась, Грей? – его голос охрип.
– К Дэвин, – я держу в руках письмо из Университета Южной Калифорнии, конверт с назначением мне комнаты в общежитии, информацией для первокурсников и инструкции по въезду. – А потом в Лос-Анджелес. На следующей неделе я еду в колледж.
– Нет, ты не едешь. Мы семья. Нам нужно держаться вместе в это трудное время, – он пытается подойти ближе, но я отхожу назад. – Твоя мама только что умерла, Грей. Ты не можешь уехать сейчас.
Я раздраженно смеюсь с недоверием:
– Я знаю, что она умерла. Я была там! Я видела... видела, как она умирает. Я должна... должна выбраться отсюда. Я не могу здесь оставаться. Я не останусь здесь. Это место не для меня.
– Грей, постой. Ты моя дочь. Я люблю тебя. Пожалуйста... не уезжай, – в его глазах слезы. То, что он плачет, не отменяет тот факт, что я ненавижу его.
– Если бы ты так уж меня любил, почему ты оставил меня посреди шоссе? – я знаю, что это несправедливо, но мне плевать.
– Ты отказалась вернуться в машину! Что я должен был сделать? Ты ударила меня! – он облокачивается спиной на закрытую дверь, откинув голову. Слеза катится по его щеке. – Она была моей женой, Грей. Мы были вместе с тех пор, как мне исполнилось семнадцать. Я потерял ее.
Я закидываю голову, стараясь не заплакать.
– Я знаю, папа. Я знаю.
– Так останься. Пожалуйста, останься.
– Нет. Я... не могу. Я просто не могу, – я кручу в руках ремень моей фиолетовой сумки от Веры Брэдли.
– Почему не можешь?
Я качаю головой:
– Я просто не могу. Ты не понимаешь меня. Ты ничего не знаешь обо мне. Я знаю, что она была твоей женой, и я знаю, что тебе так же больно, как и мне. Но... без нее я не знаю, что делать. Вся семья держалась на ней. Без нее... мы просто два разных человека, которые не понимают друг друга.
Он растерян.
– Но... Грей... ты моя дочь. Конечно же, я понимаю тебя.
– Тогда почему я люблю танцевать?
Похоже, вопрос его озадачил.
– Потому что ты девочка. Девочки любят танцевать. Это просто такой период.
Я не могу не рассмеяться.
– Боже, папа. Какой ты идиот. Потому что я девочка? Серьезно? – я с отвращением вздыхаю и закидываю сумку обратно на плечо. – Вот об этом я и говорю. Ты не понимаешь элементарных вещей обо мне. Я точно такая же, какой была мамочка, пока не вышла за тебя. Ты знаешь об этом. И это во мне тебя и беспокоит. Она была свободной и неистовой танцовщицей, она вышла за тебя замуж и изменилась ради тебя. Я на такое не пойду. Это был ее выбор, и это нормально. Для нее. Но это не мой выбор. Я не хочу быть женой пастора, папа. Я не стану ходить на молитвенные собрания каждую среду, стоять по две службы утром в воскресенье и по понедельникам, и на занятия Библией для женщин по четвергам. Это не моя жизнь. Мне даже не нравится церковь. Никогда не нравилась.
Я даю себе высказаться, и затем применяю тяжелую артиллерию:
– Я не верю в Бога.
Папа сворачивает губы в ужасе:
– Грей, ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Ты расстроена. Это можно понять, но нельзя говорить такое.
Я хочу завопить от бессилия:
– Папа, да, я расстроена, но я точно знаю, о чем говорю. Это то, что мне хотелось сказать годами. Я просто не говорила, потому что не хотела расстраивать маму. Я не хочу ругаться. Я, фактически, взрослый человек, и мне... мне больше нечего терять.
– Грей, тебе восемнадцать. Ты думаешь, что ты уже взрослая, но это не так. Ты не работала в своей жизни ни дня. Твоя одежда, твои занятия танцами, твои походы в салон красоты, всё, всё это оплачено благодаря щедрости прихожан... церковью, которую я построил сам. Я начинал свою работу в кафе в 1975-ом. Ты и дня не проживешь самостоятельно.
Зря он это сказал.
– Ну, тогда смотри, – я поднимаю чемодан, вытаскиваю ручку, ставлю его на колеса, кряхтя, так как его вес почти превосходит мой.
Папа подходит к входной двери.