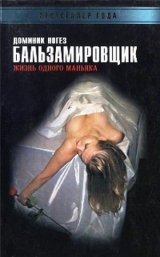
Текст книги "Бальзамировщик: Жизнь одного маньяка"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
– Я достаточно взрослый, чтобы говорить от своего собственного имени! – прогремел дядюшка, хлопнув ладонью по столу (соковыжималка для лимонов подпрыгнула). – Я не требую, чтобы в страну пускали всех. Я не идиот и понимаю, что это невозможно! Я говорю о тех, кто уже давно здесь живет и настолько адаптировался к нашей жизни, что они уже почти не иностранцы…
– Если они живут легально, то да.
– Какая разница? Сделать их частью нашего общества – это одно из наших наиболее незначительных обязательств по отношению к третьему миру, хотя бы за все то зло, которое мы ему причинили.
– Вы говорите о колонизации? Она принесла не только зло. Таково мнение нынешних серьезных историков.
– А что вы скажете о неоколониализме? О мультинациональных корпорациях?
– Да, разумеется, все это есть. Но дайте мне договорить. Итак, принимая всех иностранцев, без разбору, без документов, вы открываете путь пороку (при этом слове дядюшка возвел глаза к небу). И может получиться так, что те малийцы, алжирцы и китайцы, которые собираются обосноваться в стране, чтобы честно работать, у которых в порядке документы, напротив, могут остаться не у дел…
На этот раз дядюшка не возражал, и тогда библиотекарь совершил самую большую ошибку за этот вечер. Он начал добивать противника, вместо того чтобы дать ему время собраться с силами для нового сражения.
– По сути, если вы признаете, что мы не сможем принять всех и что количество рабочих мест ограничено, то тогда, предоставляя эти места тем, кто уже здесь – только по той причине, что они здесь, – вы объективно мешаете приезжать в страну всем тем, кто заслуживал бы этого во много раз больше.
Мартен, который счел это действительно важным вопросом, попытался вклиниться в спор, произнося при этом слова «квоты» и «критерии». Но дядя его не поддержал. Предприняв тактический маневр и сменив – по крайней мере, на некоторое время – шумное негодование на легкий сарказм, он предпочел вовлечь собеседника в настоящую дискуссию. Та, что уже велась, оказалась бесполезной, заявил он, потому что противопоставляла два несопоставимых видения мира.
– Ах, вот как? – вежливо спросил Моравски.
– У правых и левых свои взгляды, – продолжал дядя, – и их нельзя сравнивать, как сахар и соль.
– Однако многие нынешние знаменитые кулинары, – прошептал библиотекарь, – изобретают блюда, где соль и сахар удачно сочетаются.
– Вроде курицы с вареньем? Оставляю ее вам!
– Оставим лучше подобные метафоры.
И библиотекарь прежним спокойным тоном призвал на помощь Историю, «простую и великую Историю», которая является «огромной естественной лабораторией» и в силу того неизмеримо выше относительности наших понятий. Она постоянно демонстрирует нам эволюционные процессы, сближения, масштабные перевороты. Например, в эпоху «дела Дрейфуса» Октав Мирбо, [71]71
Мирбо, Октав (1848–1917) – французский писатель, последователь натуралистического направления. В своих романах и драмах выступал как непримиримый противник современного цивилизованного общества, обезличивающего и извращающего человеческую индивидуальность. – Примеч. ред.
[Закрыть] сторонник правых, в конце концов присоединился к дрейфусианцам, которых с самого начала поддерживал Поль Леото, [72]72
Леото, Поль-Фирмен-Валантен (1872–1956) – французский писатель. – Примеч. ред.
[Закрыть] человек, которого также вряд ли можно было бы причислить к левым. С другой стороны, сторонники левых, Жюль Гюэс, а вначале даже сам Жорес, колебались, стоит ли защищать «предателя» Дрейфуса. Во время Второй мировой войны можно было наблюдать, как самые преданные сторонники левого движения становились коллаборационистами, между тем как роялисты и правые присоединялись к Сопротивлению. Впрочем, если бы не подобные перемещения, как могло бы меняться большинство людей?
– Есть люди, – добавил он, – которые становятся левыми из-за правых убеждений: например, коммунисты-сталинцы, готовые к физическому насилию, цензуре и предвыборным подтасовкам, – разве они левые? И наоборот, во Франции и в Италии существуют демократы-христиане, считающие себя правыми, но способные на истинное благородство в социальной политике, а также «либералы», весьма «либеральные» в плане нравов. Вы могли бы заметить, – заключил он, – что все прогрессивные сторонники контрацепции и абортов считают себя правыми: Невирт, [73]73
Автор Закона Невирта (1967) о легализации абортов в Франции. – Примеч. ред.
[Закрыть] Симона Вайль. [74]74
Вайль, Симона (1909–1943) – французский социальный мыслитель, богослов, леворадикальный общественный деятель, христианский мистик и моралист. – Примеч. ред.
[Закрыть]
И на какую-нибудь Кристин Бутен [75]75
Бутен, Кристин – депутат Национального собрания Франции, борец за семейные ценности. – Примеч. ред.
[Закрыть] всегда найдется своя Розелин Бланшо.
– Не валите все в одну кучу! – возмущенно воскликнул дядя. – Вы прекрасно понимаете, что по сути своей человек левых взглядов не имеет ничего общего с правым! Наилучший пример – это вы и я, которые не могут достичь согласия практически ни по одному вопросу!
– Тогда получается, что вы правый? – вкрадчиво спросил библиотекарь, допивая свой коктейль. – Потому что я-то как раз левый.
Дядя фальшиво рассмеялся. Я подумал, что он наконец обратит все в шутку и разговор войдет в мирную колею. Но тут он, обращаясь уже непосредственно ко мне, спросил, что я думаю обо всем этом – правых, левых и так далее. Но он явно выбрал неподходящего собеседника. Я едва удержался, чтобы не сказать ему, что у меня даже нет избирательной карточки, – Эглантина тоже упрекала меня за это. Я лишь пробормотал, что достойные люди есть в обоих лагерях и я одинаково уважаю как Фабьюса и Рокара, [76]76
Фабюс, Лоран – французский политик, до 2005 г. – член исполкома партии социалистов. – Примеч. ред.Рокар, Мишель – французский политик-социалист, премьер-министр в 1988–1991 гг. – Примеч. ред.
[Закрыть] так и Ширака и… (тут дядя скорчил жуткую гримасу, и я воздержался от того, чтобы продолжать список). По моему мнению, то, что действительно имеет значение, – это, пожалуй… (я помедлил, стараясь выиграть время) убежденность и готовность пойти на жертвы во имя своих взглядов – одним словом, личное мужество и порядочность.
Воспользовавшись паузой в разговоре, Жан Моравски имел несчастье вмешаться:
– Я бы еще сказал о трудностях: чем труднее занимать ту или иную позицию – поскольку она неоднозначная и раздражает экстремистов с обеих сторон, – тем больше шансов, что…
Он не смог продолжать, потому что дядя, повернувшись ко мне, стукнул кулаком по столу:
– Убежденность? У фашистов тоже она была. Готовность пойти на жертвы? Бразильяш, Дрие Ла Рошель были к этому готовы, и бойцы из дивизии «Шарлемань» [77]77
Бразильяш, Робер – французский коллаборационист, казненный в феврале 1945 г. Дриё Ла Рошель, Пьер – французский писатель и политик, во время оккупации бывший редактором коллаборационистской газеты. Дивизия «Шарлемань» – 33-я пехотная (1-я Французская) дивизия СС. – Примеч. ред.
[Закрыть] – тоже! Это не критерий! Трудности, неоднозначность? Это к иезуитам!
Потом он поднялся и, демонстративно не обращая внимания на Моравски, бросил мне таким тоном, словно это я был во всем виноват:
– Ты меня совершенно вымотал! Лучше бы я сегодня вечером остался дома!
Я не осмелился возражать ни словом, ни жестом. Все остальные тоже сидели не шевелясь, кроме Мартена, который, взглядом спросив у нас разрешения, сделал официанту жест, который можно было истолковать: «Запишите на наш счет!»
Весельчаки за соседним столом изобрели новый жаргон, смысл которого заключался в том, чтобы произносить слова, используя только гласные звуки (оставив, тем не менее, какие-то смутные намеки на согласные), и принялись, хохоча, обмениваться фразами: «Ху-хи-хо-хэ-хер-хан-хи-хифле-хур-хо-хэт?» – или бормотать с воинственным видом: «Ха-хон-хан-ха-хэ-ха-три-хи-хо!» и «Хе-ха-хут-хина-а-але!» – вплоть до того момента, как снова показалась полицейская машина, чье появление недавно так возмутило дядюшку. Один из молодых людей посмотрел на нее и вполголоса сказал остальным что-то такое, отчего их смешки сразу стихли. Потом я услышал, как одна из девушек отчетливо произнесла слово «арестовали» с акцентом, который я сразу же узнал: это была итальянка из «Таверны» мэтра Кантера. Итак, я опять оказался по соседству с «Содружеством фуксии» – по крайней мере, с тем, что от него осталось после того, как Клюзо задержал его предводителей.
– Мне очень жаль, – внезапно сказал Моравски. – Я был не прав по отношению к вашему дяде.
Но я жестом прервал его извинения:
– Знаете, я не слишком хорошо с ним знаком. Я всего лишь его племянник. Он никогда не был слишком семейным. Еще когда я был маленький, у него была репутация человека, который ни с кем не может поладить. Хотя когда я вспоминаю свою семью, то не могу его в этом винить…
Вдруг я прикусил губу:
– Но как же он сейчас вернется в Венселотт? Машины у него нет, а такси в такое время уже не найдешь…
– Вот незадача! – пробормотал Моравски. – Я мог бы его подвезти, это мне как раз по дороге… Но вряд ли бы он согласился после…
Библиотекарь слегка улыбнулся. Разумеется, дядюшка вряд ли согласился бы на то, чтобы его подвозил «иезуит»!
Толпа на улице немного поредела. Внезапно я заметил Филибера. Он нас не видел – и неудивительно: он был целиком поглощен своей спутницей, юной блондинкой, очень похожей на Прюн. Если бы Эглантина не сказала мне, что ее сестра уехала к бабушке, я решил бы, что это она и есть. Но так или иначе, мой неутомимый друг продолжал свои завоевания. Вместо «Тысячи и одной ночи» у него теперь, очевидно, насчитывались донжуанские «mille e tre»! [78]78
Тысяча и три (итал.).
[Закрыть]
Со всеми сегодняшними перипетиями я добрался домой лишь к двум часам ночи. Эглантина не спала. Однако ничего мне не сказала. Иначе говоря, она на меня дулась. Почему-то именно сегодня она собиралась остаться у меня на ночь. Я спросил, не случилось ли чего. Она не отвечала. Когда я раздевался, то, очевидно, под воздействием «Антильских поцелуев» запутался в брюках и упал прямо на нее. Но вместо того, чтобы извиниться, принялся хохотать. Эглантина со злостью оттолкнула меня. «Да что с тобой сегодня?» – мягко спросил я уже немного позже, наконец улегшись в постель. «Поговорим завтра, – прошипела она, – когда ты протрезвеешь!» «Со мной все в порядке! – запротестовал я. – Выпил пару коктейлей с Мартеном и… впрочем, это не важно, но я вполне трезв! Что случилось?» Тогда она резко села в кровати и заявила, что ждала меня с одиннадцати вечера и надеялась, что мы сходим в клуб или кафе. «Но ты ведь сказала, что вечером поедешь к родителям!» – попытался возразить я. «Я с ними только ужинала! А потом рассчитывала, что мы куда-нибудь сходим». – «Извини, я не понял». Последовало долгое молчание, потом Эглантина, повернувшись ко мне спиной, продолжила свои обвинения. Я до сих пор слышу, как она четко выговаривает эти слова – хлесткие, будто вибрирующие от ярости (должно быть, Эглантина повторяла их про себя множество раз, и каждое из них было отточено, как кинжал): «Так или иначе, я думаю о том, стоит ли нам оставаться вместе. Да, разумеется, ты такой классный, я тоже, и мы похожи на пару, которая прожила вместе лет пятьдесят и которой не надо длинных разговоров, чтобы понять друг друга. Но вот в чем дело: нам обоим нет еще тридцати, а знакомы мы всего с полгода. Ищите ошибку». Потом она добавила (при этих словах я подумал: уж не намекает ли она на мои последние интервью для банковской картотеки?): «Наша история – это не история любви, а ее некролог». И больше уже ничего не говорила. Я тоже.
Я внезапно проснулся около четырех утра. Во сне мне почудилось, что грохнул взрыв. Скорее всего, это просто хлопнула входная дверь внизу. Я некоторое время сердито и настороженно прислушивался к окружающим звукам, как человек, который хочет уснуть, но боится, что его снова разбудят. Но не было слышно ничего, кроме мерного дыхания Эглантины. По крайней мере, она больше не гневалась… Однако сон все не шел. Я поднялся и на ощупь, хватаясь за мебель, подошел к письменному столу, залитому лунным светом. Снаружи все было как обычно, но окно ванной комнаты Бальзамировщика было широко распахнуто, и в нем горел свет. Это было на него не похоже. Небо было абсолютно безоблачным. Я поднял глаза, пытаясь отыскать Большую или Малую Медведицу, но, разумеется, не нашел. В этот момент мое внимание привлекло нечто, промелькнувшее в освещенном окне. Это было тело мужчины, гладкое и мускулистое… тело Квентина Пхам-Вана, юного банковского уполномоченного, который бесшумно и едва заметно пританцовывал, стоя перед огромным зеркалом. Он ритмично переступал с одной ноги на другую, и его ягодицы поочередно приподнимались. Правую руку он в такт движениям вскидывал над головой, которой одновременно покачивал из стороны в сторону. Я почти сразу отступил от окна – не столько из боязни, что он меня заметит, сколько из смущения застигнуть врасплох кого-то, кто полагает себя в полном одиночестве и не замечает, что на него смотрят. Я вернулся к кровати и лег.
Я пообещал себе, что утром проснусь первым, принесу Эглантине завтрак в постель и таким образом помирюсь с ней. Но когда я проснулся с тяжелой головой, было уже 10 утра и она уехала. Записки она не оставила. Однако мы еще раньше говорили с ней о возможной поездке в Шабли, откуда собирались привезти несколько бутылок «През» или «Водезир» и к ним – колбасок от Сулье и устроить пир. А потом можно было бы сходить в кино на «Настоящего мужчину» братьев Ларрье.
Но в результате я пошел смотреть его в одиночестве. Как нарочно, это была история пары, у которой не ладились отношения. Так что я вполне мог отождествить себя с главным героем. Однако финал вселил в меня надежду: они в конце концов помирились, были счастливы как пара голубков и завели множество детей…
Возвращаясь домой, я наткнулся на здоровенного турка, помогавшего мсье Леонару укладывать какие-то свертки в фургончик, которого я никогда раньше не видел. Насколько можно было судить по буквам ЖМЛ на нем, это был рабочий транспорт Бальзамировщика. Последний, кажется, был в хорошем настроении и даже в летнем наряде – сиреневая рубашка-«поло» и льняной бежевый костюм. В этот момент турок, у которого обе руки были заняты, выронил какой-то предмет, завернутый в газету, и не заметил этого. «Мсье!» – окликнул я и указал на предмет. Бальзамировщик сам поднял его. «Мой помощник – глухонемой», – объяснил он мне слегка смущенным тоном. Я заметил торчавшее из свертка крыло какой-то хищной птицы. Как выяснилось, мсье Леонар хотел перевезти кое-какие вещи к себе на работу, чтобы освободить место дома. «У меня так много вещей, а выбрасывать я не люблю!» Оказалось, что это семейное: его отец торговал подержанными вещами, мать долгое время работала в антикварном магазине в Париже. Когда он был маленький, он хранил даже коробки из-под конфет, обложки от тетрадей, мух и кузнечиков в стеклянных пузырьках.
Вдруг он вскрикнул: под ноги ему бросился какой-то черный монстр. Я узнал дога, принадлежавшего соседям напротив: «Это Жозефина!» «Какой ужас!» – пробормотал он. «Карлен», – уточнил я название породы, услышанное от Эглантины, но это не сделало мсье Леонара более дружелюбным. Собака посмотрела на нас небольшими глазками в черных кругах, издала что-то вроде озабоченного ворчанья, потом повернулась и удалилась царственной походкой. «Не любите вы животных!» – шутливо сказал я, прощаясь с ним. «Смотря каких», – пробормотал в ответ Бальзамировщик. Я был уже на лестнице, когда он добавил чуть громче: «Не в таком виде!»
Эглантина еще не возвращалась. Я позвонил ей на мобильный, потом домой, но и тут и там наткнулся на автоответчик. Ничего не оставалось, как сидеть и ждать. Я принялся перелистывать страницы «Йоннского республиканца» в надежде отыскать новые шуточки Филибера или ляпы какого-нибудь не слишком талантливого или начинающего редактора. Попутно я с удовольствием узнал, что Евхаристическое молодежное движение (ЕМД) и ассоциация «Пробка» под председательством (я улыбнулся) комика Жана-Мари Бигара проводят в эту субботу «сбор пластиковых пробок в пользу инвалидов и сирот Мадагаскара». Однако, в силу того что одновременно должен был проходить Второй открытый чемпионат юных шахматистов Оксерра, уик-энд объявлялся «интеллектуальным».
В окно я увидел, как Бальзамировщик и его глухонемой подручный вынесли из дома последний огромный ящик, держа его с двух сторон. Потом до меня донесся шум отъезжающего фургончика. Эглантины по-прежнему не было. Ужин с шабли отменялся.
Троицын день оказался одним из самых безумных за всю историю нашего дома. Как и в каждое воскресенье после обеда, внуки консьержки, близнецы, принялись играть в мяч во дворе. Было три часа дня. На этот раз их было слышно особенно хорошо – и не только из-за того, что погода стояла солнечная и окна у меня были нараспашку. Самое главное – их крики, вопли, удары мяча о землю и о стены, которые обычно ассоциировались у меня с плотскими наслаждениями, теперь играли негативную роль прустовского щелчка. В конце концов, то ли от усталости после работы, за которую я взялся, чтобы забыть об отсутствии Эглантины (окончательная правка интервью с Бальзамировщиком), то ли от того, что дети наконец угомонились, я начал клевать носом и наконец задремал прямо в кресле за столом.
Когда в 16.30 запищал домофон, я подпрыгнул одновременно от удивления и от радости. Наконец-то она! Наконец-то все наладится! Оказалось, ничего подобного: это была консьержка, которую я с трудом узнал – настолько ее голос был, вопреки обычному, пронзительным и встревоженным. Она хотела узнать, не видел ли я случайно близнецов. Я сказал, что да, не так давно они… «Нет, я имею в виду – сейчас?» Она была до такой степени расстроена – кажется, она в самом деле вообразила, что они могут быть у меня, – что я спустился следом за ней во двор. Она впала в совершенное отчаяние. Ее невестка, бледная и тощая, как жердь, с бесцветными волосами, заламывала руки, словно уже смирилась с самым худшим. Они принялись звонить во все квартиры, но, поскольку было воскресенье и к тому же Троицын день, дома, кроме меня, никого не оказалось. Мне, можно сказать, повезло. «А на улице вы искали?» Они ответили, что да, но напрасно.
– Нужно посмотреть еще раз.
Они последовали за мной без особой уверенности: детям было строго-настрого запрещено выходить за ворота, и обычно они не нарушали этого запрета. К тому же у них не было ключа, чтобы войти обратно. Но ведь никогда не знаешь, что у детей на уме, возразил я, отправляясь на разведку. У меня было подозрение, что, найдя двор слишком тесным для своих сомнительных подвигов, они отправились совершать их на площадь Сен-Жермен. Увы, там их не оказалось. Когда я снова вернулся к дому восемь по улице Жирарден и рассказал им о своей неудаче, они ответили, что мое предположение было заведомо ошибочным, потому что мяч, с которым играли близнецы, остался во дворе.
В этот момент я заметил по ту сторону ворот какое-то существо, движущееся по асфальтовой дорожке, и вскоре узнал в нем Жозефину, соседского дога. Значит, ее хозяева были дома и могли что-то видеть.
Мы позвонили у входной двери в дом 3, подъезд которого, расположенный в углублении стены и расписанный фресками в средневековом стиле, напоминал вход в ночной клуб. Отсюда был виден балкон второго этажа, на котором нагишом загорала супружеская пара. Услышав звонок, женщина поднялась, набросила халат и пошла открывать. Увидев собаку, она наклонилась и слегка шлепнула ее: «Ах ты негодница, что это ты делала за воротами?» От этого движения ее халат распахнулся, и она, выпрямившись, снова затянула пояс, впрочем, без особой спешки. Я заметил, что на ней «леопардовые» стринги, а на левой груди вытатуирован красный омар. Тут я вспомнил, что мадам Делажуа, так же как и ее муж, – психоаналитик.
Разговор был недолгим. Да, конечно, она знала, что дети играют во дворе: они так шумели! Но своими глазами она их не видела. При виде отчаяния консьержки и ее невестки она с профессионально-участливым видом выразила сочувствие, но было заметно, что пропавшие безобразники тревожат ее не больше, чем прошлогодний снег.
– Что там такое? – окликнул с балкона ее муж, прикрывая низ живота обеими руками.
– Ничего серьезного, – ответила жена, закрывая входную дверь.
И буквально через несколько секунд, забыв о том, что мы можем ее услышать (а может быть, и нарочно, кто знает?), добавила:
– Эти мелкие засранцы пропали. Может быть, похищены.
Консьержка с хрипом втянула в себя воздух, ее невестка еще сильнее побледнела. Мне стало жаль этих несчастных, я дал им номер мобильного Клюзо, и мы пошли к ним домой звонить. В кухне царил беспорядок, со стола было не убрано, пахло прокисшим молоком. Автоответчик комиссара сообщил другой номер, по которому нужно искать его в случае необходимости. По случаю праздников мы дозвонились лишь с пятнадцатого раза. Ответил голос женщины-диспетчера, которая пообещала разыскать комиссара.
Полицейский автомобиль без опознавательных знаков подъехал через полчаса. Я узнал прибывшего – это был коллега Клюзо из «Филлоксеры». Он быстро осмотрел двор, мяч, прикинул высоту наружной двери, после чего мы все направились в кухню консьержки. Полицейский достал диктофон и начал задавать вопросы. Через четверть часа мать близнецов, с лицом белее перекипяченного молока, принялась рыдать. Она в данный момент оформляла развод, и опека над близнецами, очевидно, была одним из наиболее важных пунктов, по которым могли возникнуть разногласия между ней и бывшим мужем. Она не стала говорить об этом прямо, но дала понять, что подозревает его. Он жил в южном предместье Парижа и занимался разъездной торговлей. К сожалению, она не смогла связаться с ним – часто бывает так, что он спит в своем фургончике. У Гуэна – так звали инспектора – был рассеянный вид; оказалось, он прислушивался к звукам музыки, доносившейся из квартиры психоаналитиков («Сен-Санс, „Симфония для органа“», – прошептал он, хотя никто его об этом не спрашивал). Консьержка в свою очередь принялась гневно обличать своего зятя. Поняв, что в моем присутствии больше нет необходимости, я откланялся.
Однако все эти исчезновения уже начали меня тревожить. Вернувшись к себе, я позвонил родителям Эглантины. К телефону подошла ее мать, и ее тон с самого начала показался мне слишком любезным, чтобы быть искренним. Она сказала, что недавно видела свою дочь – я могу не волноваться, – но не знает, где та может быть сейчас. Трусливое семейное притворство!..
В следующий раз я увидел Эглантину лишь в тот день, когда Жан Моравски стал кавалером ордена «За особые заслуги». Церемония состоялась в одиннадцать утра в конференц-зале муниципальной библиотеки. Я прибыл туда одновременно с Бальзамировщиком и был немало удивлен, что он тоже знаком с библиотекарем. Когда я спросил, как они познакомились, мсье Леонар напустил на себя загадочный вид и сказал что-то о «близости идеологий». Я подумал, что они оба, должно быть, франкмасоны (хотя не был вполне уверен). После торжественного вручения ордена и речи Моравски, в которой он поблагодарил множество людей – начиная с префекта, вручившего ему синюю ленточку, – я заметил Эглантину, стоявшую рядом с Од Менвьей и Жан-Жаком Тиньозо, заместителем мэра по культуре, которому Моравски тоже выразил признательность с не свойственной ему горячностью: «Чуткость и понимание, которые…», «Ценная помощь, которая…» Тиньозо покраснел от удовольствия. Но все же не так сильно, как я, когда Эглантина, перехватив мой взгляд, не отвернулась, а послала мне улыбку и прижала палец к губам, словно говоря: «Привет, дорогой. Увидимся попозже».
Вскоре собравшихся пригласили на банкет, и мы все столпились вокруг Моравски, чтобы его поздравить, – Эглантина, Од, Бальзамировщик и я. Подобно тому как это было в один из предыдущих вечеров, библиотекарь вновь забыл о своей легендарной воздержанности в спиртном и опрокидывал бокал за бокалом. Я снова стоял рядом с Эглантиной, почти касаясь ее, словно мы не расстались совсем недавно из-за мгновенной и дурацкой ссоры, смотрел на ее лицо и ловил каждое ее слово. Они с Од были удивлены хвалебной речью в адрес Тиньозо. Обе его хорошо знали – он был их начальником. Это был грубый, скрытный, мелочный человек, который к тому же никогда не дарил никому подарков. Моравски выслушал их, собрав лукавые морщинки в уголках глаз, потом процитировал Ларошфуко: [79]79
Ларошфуко, Франсуа герцог де (1613–1688) – французский писатель-моралист. – Примеч. ред.
[Закрыть] «Приписывать великим мира сего добродетели, которыми они не обладают, – значит безнаказанно наносить им оскорбления». На самом деле Тиньозо невзлюбил библиотекаря с самого момента его приезда в Оксерр десять лет назад. Хуже того: чем больше он донимал Моравски, тем больше, кажется, на него злился. «Такой феномен очень часто наблюдается среди чиновников, да и в других сферах, но я ни разу не встречал его анализа ни у Ларошфуко, ни у другого моралиста. Я мог бы дать ему название по имени этого жалкого типа: синдром Тиньозо! Я объясняю это следующим образом: чем больше человек совершает подлостей по отношению к кому-либо, тем сильнее стыдится; чем больше стыдится, тем сильнее избегает своей жертвы; чем больше избегает, тем больше верит, что имеет для этого все основания; чем больше в это верит, тем больше начинает опасаться. Таким образом, партия выиграна: жертва превращается в палача, а палач – в жертву!»
Тогда Бальзамировщик поинтересовался, почему Моравски сегодня не воспользовался случаем и не рассчитался с обидчиком.
– Еще не хватало! – воскликнул библиотекарь. – Месть – самая опустошающая из страстей!
– Это всего лишь другая ипостась справедливости! – возразил мсье Леонар.
– Я предпочитаю осуществлять ее мягкостью – это единственный способ, который поймет виновный, – уточнил Моравски.
Тиньозо, вне всякого сомнения, прибыл лишь для того, чтобы исполнить свои должностные обязанности: он почти сразу уехал, отказавшись от банкета и упустив возможность попробовать множество роскошных блюд: шейки омаров, суп из турецкого гороха, ветчину с вкраплениями шпика, «сладкое мясо» с грибами, местные сорта сыра и, конечно, сырный пирог. Запасшись некоторыми из этих деликатесов и бутылкой шабли, мы разместились в глубине зала. Эглантина как раз в этот момент собралась уезжать, но, прощаясь, она прошептала мне на ухо: «До вечера!», – и это наполнило меня счастьем, как воздушный шар – воздухом. Значит, она меня простила! Как долго я об этом мечтал!
На радостях я включился в беседу, испытывая от нее почти гурманское наслаждение. «Повар как будто готовил для 27-го полка!» – провозгласил Моравски с легким смешком. Од спросила, что он имеет в виду. «А я-то считал вас бургундкой, дорогая!» Как выяснилось, это выражение пошло из Дижона, где долгое время гарнизоном стоял 27-й пехотный полк, в результате чего весь город стал походить на военное поселение и каждый житель набрался разных цветистых выражений. «Надо как следует набить утробу!» – заявила Од с нарочито бургундским акцентом, раскатывая «р» на манер Колетт.
Глава кабинета префекта, уроженка 16-го округа Парижа, слегка поморщилась – должно быть, в этом провинциальном обороте ей послышалось ругательное «корова». Но Од объяснила ей это заблуждение.
– Да, понимаю, – ответила та, но было заметно, что она считает язык наших прабабушек гораздо лучше нынешнего.
– А я не склонен настолько культивировать язык прошлого, – заявил новоиспеченный кавалер ордена. – «Корова» меня не смущает. По сути, в таких вопросах я вполне агностик.
Внезапно что-то зазвенело, и Бальзамировщик подскочил на месте. Потом резко встал из-за стола, опрокинув картонную тарелочку, и начал хлопать себя по карманам, как делают все владельцы мобильных телефонов, когда слышат неожиданный звонок. Наконец он достал телефон, но не сразу сообразил, как заставить его замолчать, и продолжал смотреть на него с глупым видом, пока тот дребезжал все громче и громче. Од сжалилась и показала, на какую кнопочку нужно нажать для ответа. Мсье Леонар поспешно отошел, но все услышали, как он довольно громко спросил: «Ты где?», – что указывало на его знакомство со звонившим (впрочем, как я узнал чуть позже, номер его мобильного был известен лишь одному человеку). Когда он вернулся и снова сел, заметно взволнованный, я заметил у него на висках капельки пота (а заодно и несколько седых волосков). Он был облачен в черный костюм – без сомнения, привычную рабочую одежду, которая, впрочем, вполне соответствовала и сегодняшней церемонии, – и, хотя галстука на нем не было, воротничок белой рубашки был застегнут, несмотря на жару. Вся компания, наслаждаясь шабли и сырным пирогом, вернулась к неисчерпаемой теме прогресса в истории человечества. Говоря о мудрости, умении жить и сексе, большинство сошлось во мнении, что никакого прогресса нет – это очевидно. Понемногу к нам присоединились и остальные приглашенные, развеселившиеся и слегка растрепанные. «В какую эпоху и где вы предпочли бы жить, если бы у вас был выбор?» – спросил кто-то. Каждый начал фантазировать среди насмешливого гула голосов. Вспоминали и Древнюю Грецию, и африканские племена, и Японию, и Прекрасную эпоху. [80]80
Во Франции – начало XX века. – Примеч. пер.
[Закрыть]
Это напоминало костюмированный бал. Когда очередь дошла до Моравски, все замолчали. Его голос был еще тише и печальнее, чем обычно. Он сказал, что все меняется только от плохого к худшему.
– Я часто думаю о прелестях прошлого, которых мы не знаем; но и в нашем времени есть свои прелести и удовольствия, которые потом исчезнут. Историки будут вспоминать их с ностальгией.
У Бальзамировщика был мрачный вид – кажется, он был согласен с Моравски.
– Но, возможно, появятся новые, о которых мы сейчас даже не подозреваем, – рискнула заметить Од.
Я был согласен с ней и ожидал продолжения, но Од замолчала. Не знаю, что вдруг на меня нашло – то ли выпитое шабли повлияло, то ли удовольствие от спора, то ли желание произвести впечатление на присутствующих, – но я, отпив еще пару глотков, принялся высокопарно вещать:
– Что с того, если я узнаю, что жизнь была более счастливой и утонченной в Китае во времена династии Хань, в Риме Цицерона, в Персии Хафиза или во Франции эпохи Регентства? Вернуться туда – значит вернуться к чему-то уже законченному, уже известному, то есть отказаться, к добру или к худу, от свежести и новизны того, чего еще не было. Да, оно чревато несовершенствами и даже настоящими бедствиями, но в нем больше свободы – в незнании того, что произойдет, и в возможности, пусть даже очень ограниченной, что-то изменить! Итак, я выбираю будущее!
Воцарилась тишина. Потом я услышал, как позади меня кто-то медленно захлопал в ладоши, выражая свое восхищение (или иронию – кто знает?). Я обернулся и узнал Квентина, друга мсье Леонара, на котором были голубые шорты и кроссовки. Под мышкой он держал зачехленную теннисную ракетку.
– Браво! – воскликнул он. – Прямо в точку!
Бальзамировщик поднялся, слегка покраснев (если можно так выразиться, поскольку его кожа, даже в моменты волнения, становилась лишь темно-бежевой).
– Ты мог бы и переодеться! – вполголоса заметил он другу и потом, уже громче, произнес, обращаясь к собравшимся: – Мсье Пхам-Ван, банкир… и спортсмен.
Все улыбнулись, особенно заметно – женщины. Надо сказать, что Квентин и в самом деле выглядел великолепно в своей обтягивающей футболке, с чуть влажными после душа волосами. От него слегка пахло туалетной водой. Он мгновенно расположил к себе всех – не столько потому, что столь эмоционально выразил поддержку моему выступлению, сколько благодаря своему хорошему настроению, поскольку жизнелюбие– вещь заразная.
Серьезный разговор быстро свернули. Моравски еще сказал, что человечество теряет память, что мы, сами не подозревая об этом, носим в себе «бесчисленные Атлантиды», что… но никто его не слушал: девицы и Квентин болтали об Эминеме и о новой лионской рэп-группе «Зеленая жвачка»; Од и глава кабинета обменивались политическими сплетнями; Бальзамировщик, покинутый всеми, с мрачным видом поглощал из маленькой розетки английский крем.








