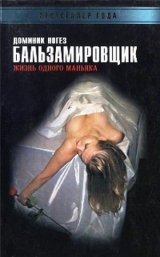
Текст книги "Бальзамировщик: Жизнь одного маньяка"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Должен признаться, я даже не пытался ее догнать. Мне неудобно было это сделать на глазах у всех присутствующих, наблюдавших за нами, и к тому же в этот момент официантка принесла другие заказанные нами блюда. Я решил сделать вид, что моя спутница просто вышла купить сигарет, и не стал говорить официантке, чтобы она убрала вторую тарелку, – лишь попросил, чтобы отменили заказ на атлантических крабов с рисом, сваренным на молоке, окруженных ломтиками репы, которых Эглантина заказала в качестве основного блюда.
Я с большим аппетитом съел свою порцию жареных устриц, а потом, не ослабляя темпа, пресловутые утиные яйца с гарниром из спаржи. Без особого труда я заставил себя думать о других вещах, а когда мои мысли случайно вновь вернулись к Эглантине, я почувствовал, что все больше и больше устаю от ее капризов и смен настроения; я находил ее уже не такой умной, как раньше, и одно лишь представление о ней как о возможной матери вызвало у меня ощущение, похожее на тошноту.
Ожидая свое основное блюдо, я решил не оставаться за столом, делая вид, будто рассеянно прислушиваюсь к разговорам окружающих (такой вид часто бывает у людей, обедающих в одиночестве), и направился в туалет. Проходя мимо Мейнара, я увидел, что его сотрапезник(ца) еще не прибыл(а). Официант только что поставил перед ним полный бокал виски, заменив им пустой. Сам же он говорил в мобильный телефон, напористо и довольно громко, как человек, наткнувшийся на автоответчик:
– …Это опять я, это по-прежнему я или, точнее, моя тень – ибо что я без тебя?
Я тут же подумал о юной мулатке, которую видел с ним много раз, а еще раньше – с другим, и сказал себе, что эта женщина, несомненно, не испытывает недостатка в поклонниках. Когда я, возвращаясь, снова прошел мимо Мейнара – он обратил на меня не больше внимания, чем в первый раз, – он снова говорил в мобильник, на сей раз уже не таким уверенным и чуть надтреснутым голосом:
– Летиция, я тебя жду, все тебя ждут, весь ресторан тебя ждет, и весь сад, и все розы ждут, и вся ночь…
Мне как раз принесли телятину в белом вине. Однако, едва положив в рот второй кусочек, я вдруг замер, перестав жевать. Не из-за того, что рецепт бабушки Жюльетт был плох, – напротив, он заслуживал всяческих похвал, но из-за истории с утиным яйцом. Ибо в этот момент я понял, что произошло. Словно освещенная вспышкой молнии, передо мной снова предстала та ночь, когда я так перепугался из-за непрошеного визитера. Приоткрытая дверца холодильника! Вот в чем разгадка! Если это вообще можно назвать разгадкой – ибо мотив такого нелепого поступка по-прежнему оставался совершенно неясным, особенно если моим гостем, как я теперь подозревал, был друг мсье Леонара. Рисковать жизнью, пробираясь среди ночи по стене в четыре метра высотой и десять сантиметров шириной, снова рисковать, влезая в окно к человеку, у которого – как знать? – может оказаться оружие, – и все это только ради удовольствия раздавить утиное яйцо между страницами альбома по искусству? Кстати, почему именно этот альбом? Он первым подвернулся под руку? Или?..
Я все еще терзался этими размышлениями, когда мое внимание – а также внимание всех моих соседей – привлек громкий голос, донесшийся изнутри ресторана:
– Парижские и оксеррские лицемеры!
Мейнар собирался произнести очередную речь, обращаясь к сидевшим рядом с ним посетителям, которых я не видел со своего места, но которые, должно быть, принадлежали к сливкам общества, поскольку он заговорил об их «привилегиях»:
– Разумеется, у вас есть все основания сюда притащиться! На встречу хапуг! Со всеми теми деньгами, которые вы высосали из государства и трудящихся!
Слово «трудящиеся» вызвало насмешки. Кто-то из объектов нападения ответил:
– Вы, должно быть, тоже высосали из них немало, иначе не пришли бы сюда и не сидели рядом с «хапугами»!
Но Мейнар, не обращая на него внимания, продолжал свою речь, отхлебывая виски. Иногда он встряхивал бокалом, отчего в нем звенели кубики льда.
– Вы ничуть не стыдитесь своих космических доходов, которых хватило бы, чтобы пожизненно обеспечить тысячи несчастных? Компенсировать им те чудовищные масштабы увольнений с работы, к которым приводит ваша собственная некомпетентность? Этих stock-optiiionnns?
На сей раз никто не ответил. Но Мейнар говорил так громко, словно вокруг него поднялся бурный спор. Даже на террасе посетители с беспокойством прислушивались.
– Думаете, я не знаю, кто вы такие? Знаменитые Центральные магазины! Известные семьи! «Работа, семья, родина!» И деньги в швейцарских банках, на случай, если здесь начнет припекать! Ах, лучшие из французов! Элита! Один-единственный девиз: «Быть на стороне сильного!» Вчера дядюшка Адольф, сегодня дядюшка Сэм! Потомственные предатели!
За соседним столом кто-то кислым тоном произнес фразу, в которой я разобрал только «отпор» и «скандалист». Очевидно, Мейнар знал говорившего, потому что тут же обрушился на него:
– А, прокуроришка! Старый сутенер! Каналья в горностаевой мантии! Правосудие для богатеньких!
Потом, все так же громко, хотя и запинаясь на некоторых слогах, он принялся за новые мишени – обращаясь то ли к конкретным присутствующим, которые были ему знакомы, то ли к, некой абстрактной толпе оксеррцев, французов и остального человечества. Особое его отвращение вызывал преподавательский состав, к которому, судя по всему, относились многие из собравшихся:
– Преподавательский корпус! Да уж, нечего сказать, хорош! Не корпус, а гниющий полутруп! [115]115
Игра слов: corps по-французски может означать и «корпус» (например, преподавательский), и «труп». – Примеч. ред.
[Закрыть]
Шляются вместе со своими первоклассниками выпрашивать сладости на Хэллоуин! Жалкие добровольные распространители американской колонизации! Прощайте, черные гусары Французской Республики, добро пожаловать, жалкие тыквоголовые вспомогательные войска глобализованной субкультуры!
Очертания грядущего скандала становились все явственнее. Какая-то женщина вскрикнула. Юный метрдотель быстро подошел к официанту, который принимал заказ и только что порекомендовал супружеской паре, сидевшей слева от меня (она – довольно тучная, в жемчужном ожерелье, он – в светло-зеленом пиджаке), «попробовать нюи-сен-жорж от мсье Фроссара – этот сорт будет прекрасно сочетаться с эстрагоновой приправой к кролику, которого вы заказали».
В этот момент грохот отодвигаемых стульев, сопровождаемый новыми раскатами гулкого мейнаровского голоса, заставил обоих мужчин устремиться внутрь ресторана. За ближайшим к Мейнару столом, где, должно быть, и собрался «совет нечестивых», множество людей поднялись с мест с явным намерением положить конец оскорбительным разглагольствованиям. Виновник смуты, то ли притворно изображая ужас, то ли желая сделать скандал еще более масштабным, с легкостью, удивительной для человека в его состоянии, взобрался с ногами на стул, оттуда – на стол, опрокинув свой пустой бокал и растоптав стоявшие на столе гвоздики. Еще более огромный и громогласный, теперь он говорил, обращаясь ко всем:
– Я скажу, что делает вас такими отвратительными, всех вас: это ваша бессознательность! Бес-соз-на-тель-ность!
– Мсье, прошу вас! – завопил официант, хватая его за ногу.
– Отвали от меня, пингвин!
(Почему «пингвин»? Должно быть, из-за униформы, которую официант носил, несмотря на жару.)
– Мева! – закричал «пингвин» другой официантке, не выпуская ноги Мейнара. – Сходи за Пьером! И вызови полицию!
– А вы, интеллектуалы! – гремел Мейнар, не обращая на него внимания. – Благонамеренные ученые ослы! Вы снисходительны к бездомным и безработным, само собой! Это вам ничего не стоит и позволяет разглагольствовать в свое удовольствие! Тем более что за простои в работе платит государство из наших налогов! Жалкие душонки и набитые портфели! Безответственные словоблуды!
– Кто бы говорил! – пробормотал мой сосед в зеленом пиджаке, наливая себе бокал нюи-сен-жорж.
– Но с чего это я говорю: «здравомыслящие»? У вас в головах нет ни одной здравой мысли! Одно только блеяние, а когда нужно повыть вместе с волками, тогда подвывание: «У-у-у-у-у-ууу!» При случае такие прекраснодушные создания могут и повыть: «Запретить! Линчевать! Побить камнями!» Ах, ну конечно, вы устраиваете такие славные концерты против Ле Пена! [116]116
Ле Пен, Жан-Мари (1928) – французский ультраправый политик, создатель французского Национального фронта. – Примеч. ред.
[Закрыть] Против войны в Ираке! Против насилия! А потом раз! И в приступе ревности убиваете вашу бабенку наповал ударом кулака!
В этот момент из кухни прибежал шеф-повар, здоровенный бородач с намечающейся лысиной, и вступил в переговоры:
– Слезайте, мсье!
– У-у-у-у-у-у-у-уууууу! – завыл в ответ Мейнар.
Юный метрдотель, с озабоченным видом прижав мобильник к уху, явно пытался вызвать полицию. Я решил вмешаться.
– Александр! – окликнул я Мейнара, с дружеской улыбкой приближаясь к его столу.
Передо мной все расступились, словно перед укротителем, готовым обуздать разъяренного хищника.
– Ламбер! – воскликнул он, не отвечая на улыбку.
Я только собрался возразить, что это не мое имя, как он продолжал:
– Ламбер! Лямбда! [117]117
Лямбда – буква в середине греческого алфавита. – Примеч. ред.
[Закрыть] Мсье Такой-как-все! Жан-прохвост! Надувала и К°! Не притворяйтесь, что вы мой знакомый. Вы никогда не испытывали ко мне особой симпатии! Вы один из них, такой же, как они, и вы никто!
Но я не отступил. Я предложил отвезти его домой. Я заговорил с ним о его знакомых, семье Менвьей. Потом придвинул стул к столу, чтобы помочь ему спуститься.
– По крайней мере хоть сойдите вниз, вы же упадете! Ну, давайте! Вы, который совсем недавно говорил о взаимоуважении, послушайте же других!
Признаюсь, мои слова не совсем точно передавали смысл его речей на стадионе во время творческого вечера, но он, кажется, задумался, словно пытаясь что-то вспомнить.
– Это было мое мнение на тот вечер. Мои мнения как гвоздики, которые носишь в петлице: нужно их почаще менять, чтобы быть всегда уверенным в их свежести.
И, произнеся, хотя с некоторым трудом, этот афоризм, который показался мне довольно забавным, Мейнар, к моему большому удивлению и к облегчению всех окружающих, ухватился за протянутую мною руку и поставил правую ногу на стул, а затем, пошатнувшись, но будучи вовремя схвачен за ремень поваром и официанткой, тяжело обрушился на пол. Но его выступление на этом не прекратилось – отнюдь.
– Много вы обо мне знаете!.. У меня нет принципов. Я долгое время в них верил, но теперь нет. Всю свою жизнь я предавал принципы. Я предал даже предателя в себе! Я не создан для выбора… для морали… для пустых умствований… для того, чтобы разбирать вершки и корешки… Я создан для прямых путей… одного-единственного направления… никаких перекрестков… создан, чтобы плыть… чтобы спать… лежать на спине в воде до конца времен… Создан для рая… или для преисподней… я испытываю ужас перед вашим чистилищем… о, эта дерьмовая заурядность… Или даже так: быть опекаемым, окруженным заботой, завернутым в вату… в любовь… любо-о-о-оовь! Кто-то, кто вас любит… самозабвенно… вечно… как собака… большая нежная собака, которая облизывает вас и защищает… или тело… огромное влажное тело… океан ласк… океан, чтобы ласкать его… даже не море… Тогда, да, ежедневная жизнь вдвоем… семейный воз… ломоть сельской ветчины… телепередачи… небольшие путешествия… регулярно, регулярно… воскресные прогулки по берегу Йонны… или Сены… в Шавийском лесу… тихое старение… что я говорю! Но вдвоем – даже не знаю… точнее, слишком хорошо знаю… только вдвоем, и никак иначе… никогда не получится побыть одному… в том-то и дело… но я – не одиндаже когда один… когда я один – это даже не половина… даже не четверть… ноль – вот кто! И даже не ноль – это было бы слишком хорошо, слишком понятно… ноль, окруженный пылинками… пылью… вот что я такое!
С этими словами Мейнар двинулся к выходу на террасу, словно актер, подходящий к краю сцены. Он прошел недалеко от моего столика. Присутствующие замерли. Персонал тоже. Более того – ни один автомобиль в этот момент не проезжал по бульвару. Несколько секунд стояла полная тишина. В небе сверкнула зарница.
– Мы ничто… и в то же время слишкоммногое! Слишком… слишком…
Он замолчал и, подняв руку, широким жестом обвел все вокруг – столики, террасу, ресторан, город, север, юг, запад и восток. Затем продолжал уже более слабым голосом, поскольку вдруг начал плакать, сначала тихо, потом все громче:
– Все эти ничтожества, которых необходимо терпеть, видеть, слышать… Вырвите мне глаза, проткните барабанные перепонки, отрежьте язык и яйца заодно… раз уж вы здесь… я не хочу больше оставаться в этой реальности, в вашей реальности… Забудьте обо мне, пожалуйста… заключите меня в скобки… я – черная дыра… я лишь прах… всего лишь чело… че…
И, словно дом на подгнивших сваях, который неожиданно обрушивается, бесшумно и медленно, как во сне, Мейнар, слегка пошатнувшись, растянулся во весь рост, попутно зацепив локтем и плечом столик супружеской пары, сидевшей рядом со мной, и, потянув скатерть, свалил на пол тарелки, приборы, кролика с приправой из эстрагона, соусницу, вино от мсье Фроссара, солонку и перечницу, – под грохот разбитой посуды и возмущенные крики. Потом перевернулся на спину среди осколков и остатков еды. На ноги его рухнул увесистый круп дамы в жемчужном ожерелье, а на лоб свалилась вставная челюсть ее мужа, оцепеневшего от изумления.
Именно этот момент выбрали для появления (хотя, вероятнее всего, так получилось само собой) комиссар Клюзо и еще двое полицейских. Последние бесцеремонно подняли с пола нарушителя спокойствия и потащили его на улицу. Клюзо приветствовал шеф-повара и «пингвина», затем пожал руку мне. Я услышал, как он пробормотал, жуя свой привычный окурок сигары:
– Как будто мне делать больше нечего!
И действительно, хлопот у оксеррской полиции хватало: началась настоящая вакханалия исчезновений! Ученик коллежа, который не вернулся домой после занятий по гимнастике; подручный каменщика, который задержался с приятелями после работы, чтобы выкурить сигарету; пожилая дама, вышедшая купить макарон в магазине «Джерри» и не вернувшаяся к началу передачи «Цифры и буквы», – исчезли! Как сквозь землю провалились! Вплоть до тестя нынешнего мэра – мирного пенсионера GIGN, который, как поговаривали, стал жертвой запоздалой мести, поскольку ставни на его окнах оставались закрытыми на продолжении двух суток (к нему приехала его старая любовница из Лозанны, для которой этот визит стал в некотором роде лебединой песней, и сочла странным, что он не торопится ей открывать).
А потом, словно всего этого было недостаточно, три дня спустя настала знаменитая последняя пятница сентября. Каникулы закончились. Жара сменилась первой осенней прохладой. Над Сен-Жерменским аббатством грациозно проносились ласточки, по вечерам устраивая концерты, которые делали Оксерр таким «французским»… В этот день на меня почти одна за другой свалились две новости: Квентин Пхам-Ван ушел от мсье Леонара, а мой дядюшка Обен умер.
ГЛАВА 9
Кончик указательного пальца, обтянутый резиновой перчаткой, проник в рот и приподнял верхнюю губу. Два пальца другой руки вцепились в челюсти и подергали их туда-сюда.
– У него зубной протез.
Протез был извлечен, промыт и отложен в сторону. Затем челюсть была заблокирована небольшим деревянным клинышком: теперь уже не понадобится подбородочный ремень, из-за которого лицо становится похожим на пасхальное яйцо.
Сквозь марлевую маску Бальзамировщик объяснял мне смысл всех процедур, которые он проделывал с телом моего дяди. Когда накануне, в этой самой комнате, его, сраженного роковой эмболией, с ужасом оттолкнула его партнерша, вдруг обнаружившая, что занимается любовью с трупом, он упал на живот и со всего размаху ударился лицом о ведерко со льдом, стоявшее рядом с кроватью. Поэтому выглядел дядюшка весьма непрезентабельно.
– В таких сложных случаях, как этот, я работаю с фотографией, – сказал мсье Леонар, когда я связался с ним и попросил подготовить дядюшку к похоронам и вернуть ему привычную наружность.
Фотографии у меня не было. Но я сказал, что могу сам прийти и помочь советами.
Сначала мсье Леонар отказался от этой работы. Когда я позвонил к нему в дверь, он долго не открывал. Он был бледен и плохо выбрит. Именно тогда я понял: что-то произошло между ним и Квентином. Он довольно скоро рассказал мне об этом сам – ему нужно было выговориться. Как выяснилось, три дня назад его юный друг ушел от него навсегда. И вот уже три дня он, мсье Леонар, не выходит из дому. Но неожиданно мысль о том, чтобы снова поработать, показать мне секреты своего мастерства над телом того, кто был мне дорог, вернула ему вкус к жизни. Для меня это было двойной удачей: мне предоставлялась прекрасная возможность, во-первых, расширить свои познания в танатопрактике, а во-вторых, закончить очередную карточку для картотеки. Но, несмотря на это, если бы все зависело только от меня, я бы обошелся без посмертных приукрашиваний. Смерть представляется мне одной из самых отвратительных вещей в мире, и я не хотел бы, чтобы ее лишали доли ее уродства. Но Аспазия с девочками настояли.
Аспазия – это я так ее называл. Я не знал ее настоящего имени. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что это была одна из самых необычных женщин, которых я встречал в своей жизни. Это она была с моим дядей в тот вечер, когда он включился в диспут с библиотекарем, но тогда она очень быстро ушла, и я едва ее разглядел. Я окрестил ее Аспазией в честь знаменитой античной куртизанки. [118]118
Аспазия (ок. 470 – ок. 427 до н. э.) – милетская гетера, державшая в Афинах что-то вроде светского салона, где занимались философией, политикой, искусствами, возлюбленная Перикла и «несравненная учительница» Сократа. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Ибо куртизанкой она и была, до того как приобрела знаменитое заведение «Голубое сердце». Наконец-то я узнал, где оно находится – поскольку именно там умер мой дядя и именно оттуда она позвонила мне, когда это случилось. И именно там я в тот воскресный день собирался наблюдать за работой Бальзамировщика.
– Теперь я снова открою ему глаза. Видите: после смерти они немного ввалились. Поместим сюда… небольшие пластмассовые шарики… в каждый глаз… теперь снова закроем веки. Вот теперь совсем другое дело!
После того как с глазами и зубами все было улажено, он перешел к наиболее сложной задаче: к глубоким шрамам, которые острый край ведерка со льдом оставил на дядином лбу, на крыльях носа и левой скуле. Он вынул из своего металлического чемоданчика небольшую коробочку и сказал:
– Придется использовать воск. Теперь мне понадобится ваша консультация. Вот здесь, над переносицей, у него был гладкий лоб или?..
Я тут же вспомнил о небольших очках дяди Обена, и у меня сжалось сердце.
– Нет, сморщенный. Он часто приподнимал брови, поэтому вот здесь образовалась морщина.
На какое-то время мсье Леонар склонился над дядюшкиным лицом, закрыв его от меня. Он брал из коробочки воск и вбивал его в кожу или наносил на нее легкими движениями указательного пальца, какие делают шпателем, замазывая трещину в стене. Потом он отошел и достал из чемоданчика еще какие-то коробочки. Раны исчезли, или, скорее, вместо них появились более светлые участки.
– Теперь краска.
И легкими движениями принялся наносить грим, смешивая желтовато-коричневый и розовый цвета, чтобы скрыть границы между воском и кожей. Потом настала очередь губ. Первый слой красной краски оказался слишком светлым. Мсье Леонар растушевал ее пальцем, потом, едва касаясь им губ, нанес следующий слой краски – темно-пурпурной, почти лиловой.
Затем он занялся волосами, что потребовало уже большего труда. Здесь от меня снова потребовалась консультация: зачесывал дядя волосы назад или носил на пробор? Пришлось пустить в дело обе руки, потому что серо-седые волосы, на висках становящиеся белыми, сильно свалялись и плохо поддавались расчесыванию.
– Что ж, в конце концов, это была прекрасная смерть, – заметил мсье Леонар.
Я не ответил.
– Свернуть за угол en epectase!
Я не знал этого слова и не совсем понял выражение «свернуть за угол».
– Это профессиональный жаргон.
«Свернуть за угол». Дорогой дядюшка в те редкие дни, когда я сталкивался с ним в Оксерре (или в детстве – в Париже, в те времена, когда родственники уже перестали с ним общаться), постоянно выходил из-за угла. На сей раз роковой угол был на перекрестке Фекодери и Ратушной, самом заурядном на вид: с улицы виднелась лаборатория медицинских анализов, где за стеклянным фасадом постоянно толпились очередные кандидаты в медики, волнуясь и терпеливо ожидая возможности сдать за счет службы социального обеспечения экзамен по маммографии или по анализу мочи, а потом дожидаясь результатов, более или менее удовлетворительных. Но если вы еще раз поворачивали за угол, направо во двор и до конца, и если вы знали код, чтобы открыть дверь С, тогда… О, тогда перед вами оказывалось «Голубое сердце»! Вам достаточно было подняться на четвертый этаж, позвонить в неприметную темно-зеленую дверь напротив лифта, такую же как в обычных буржуазных квартирах, с табличкой «Частный клуб, RV», обитую медными гвоздиками и с медным звонком, и приблизить лицо к глазку, сквозь который смотрела «сестра-привратница» (роль которой часто исполняла сама Аспазия).
Мое лицо, очевидно, вспомнилось ей, когда я назвал свое имя, два дня назад около девяти вечера позвонив в дверь – поскольку она сама меня вызвала.
– С вашим дядей произошло несчастье! – взволнованным голосом сообщила она мне по телефону.
Он уже давно дал ей мой телефон, «на всякий случай», добавила она. (Я сразу же вспомнил о боли в руке, на которую он жаловался во время нашей последней встречи. Несомненно, он подозревал, что что-то не в порядке.)
Любопытно – описывая мне дорогу к заведению, она упомянула, как некогда Бальзамировщик, о статуе Мари Ноэль. Можно было подумать, поэтесса – настоящая святая покровительница нашего города, хотя само заведение со святостью не имело ничего общего.
Прихожая выглядела солидно – широкий диван, обтянутый желтой кожей, ротанговые кресла и репродукции полотен Мондриана. [119]119
Мондриан, Пит (наст. имя – Питер Корнелис) (1872–1944) – голландский художник-абстракционист. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Остальные помещения – небольшие массажные салоны, большой чайный салон, ярко освещенный, с окнами, выходящими на улицу Бушери, – также казались весьма респектабельными. Но оттуда постоянно доносился шум льющейся воды. А некоторые комнаты в самой глубине квартиры обладали какой-то странной, темной аурой. Отчего-то создавалось впечатление, верное или нет, что они постоянно заняты, причем какими-то существами, которые там только и делают, что отсыпаются. Именно в одной из них дядюшка отдал Богу душу или то, что ему ее заменяло.
– Бедная Соледад перепугалась до полусмерти!
Соледад не была испанкой, несмотря на свое имя, прекрасные черные глаза и густые черные волосы. На самом деле ее звали Марион и она была родом из Санса. Аспазия заверила меня, что мой дядюшка – счастливейший из людей, поскольку умер в объятиях этой двадцатитрехлетней красавицы, в которую был безумно влюблен. Кроме этого, я довольно быстро понял, что между ним и Аспазией также существовала давняя и глубокая связь. По сути, именно ради нее он, решив удалиться от дел, предпочел Оксерр всем прочим городам. Должно быть, в молодости она была очень хороша собой. Она и сейчас оставалась красивой, хотя немного располнела и не слишком обращала внимание на качество косметики. Как, впрочем, и на одежду: брюки, блузка, коралловое ожерелье в несколько рядов – ничего общего с Бюль Ожье [120]120
Бюль Ожье (1939) – французская киноактриса, снимавшаяся, в частности, в фильме Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». – Примеч. ред.
[Закрыть] в «Салоне красоты „Венера“». Постоянно окруженная облаком дыма – она курила голландские сигариллы – и питавшая пристрастие к крепким напиткам, Аспазия обладала хрипловатым тягучим голосом, который действовал на собеседника успокаивающе, и необыкновенной мягкостью манер, которая странным образом сочеталась с легкой грустью, постоянно присутствовавшей в ней. У нее был запас прочности, свойственный женщинам, которые преодолели в жизни множество испытаний или были сильно любимы (а иногда и то и другое) – спокойное принятие окружающего мироустройства таким, какое оно есть, терпение и снисходительность к маргиналам и отверженным – возможно, даже излишние.
Они любили друг друга, мой дядюшка и Аспазия, и когда она открыла в восьмидесятые годы «Голубое сердце» – нечто среднее между респектабельным чайным и сомнительным массажным салоном, чтобы помочь тем своим коллегам, кто лишился работы или вышел из заключения (впрочем, в большинстве своем те и другие были молоды и красивы), – то это было сделано отчасти и ради него – чтобы удержать его рядом с собой, а также потому, что она искренне им восхищалась. В тот же вечер она показала мне его письма и архитектурные брошюры с дарственными надписями и даже рукописные листки неизданных статей.
Итак, именно она, даже больше, чем Соледад, настаивала на том, чтобы Обен Лалан – пусть даже его тело собирались предавать огню – выглядел презентабельно то недолгое время, которое проведет на том самом ложе, окруженном камелиями, где так блистательно встретил свою смерть.
Теперь он, вне всякого сомнения, выглядел презентабельно. С моей помощью мсье Леонар натянул на него темно-синие брюки и белую рубашку, принесенные Аспазией. Так как тело уже слегка окоченело, он помассировал бицепсы, и руки снова обрели гибкость. Затем он занялся пальцами: подровнял на них ногти и плотно прижал друг к другу, складывая ладони на груди. Их он тоже покрыл слоем грима.
– На руки смотрят прежде всего, – объяснил он. – Теперь помогите мне с подушкой.
И он, обхватив дядюшкин затылок, слегка приподнял его голову, под которую я подложил подушку.
– Голова – тяжелая часть тела, – сказал он. – Очень тяжелая. «Покажите мою голову народу, она того стоит» – помните эту фразу Дантона перед казнью? Так вот, когда палач выполнил его просьбу, ему пришлось держать отрубленную голову обеими руками. Обычно думают, что она легкая – ну, вы знаете, из-за всех этих картин: Юдифь с головой Олоферна, Персей с головой Горгоны, – где персонаж держит голову за волосы в вытянутой руке. Искусство лжет. На самом деле это очень тяжело! Хотите попробовать? (Хотя нет, ведь для этого пришлось бы ее отрезать.)
– Нет, спасибо, я поверю вам на слово!
Наконец мсье Леонар отступил на пару шагов, чтобы бросить последний взгляд на свое творение и дать мне оценить его. У дядюшки был умиротворенный вид. Его лицо… как бы это сказать? Оно отличалось от того, каким было при жизни, и в то же время было тем же самым! Словно бы ему сделали капитальную пластическую операцию, которая включала в себя изменение не одной-двух деталей внешности, но всего лица в целом и которая хотя и неуловимо, но все же преобразила его – в буквальном смысле: сделала более красивым и даже более живым, чем в жизни.
– Это он? – невольно спросил я.
– Да… почти идеально.
Мое замечание не было комплиментом, но, очевидно, мсье Леонар счел его за таковой и впал в лирическое настроение:
– Это… я не знаю, верующий ли вы человек, я – нет, но… это таинство воплощения! Полного человеческого воплощения! Именно это прекрасно! Нет нужды в Боге. Взгляните (он вынул сложенный листок из внутреннего кармана) – я выписал эти слова, это говорил один францисканский монах, Бернарден Сиенский. [121]121
Бернарден Сиенский (1380–1444) – итальянский священник, монах-францисканец, приобрел популярность своими нравственными проповедями. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Он говорил о Христе, но это так подходит и для меня… для того, что я делаю… что я пытаюсь делать.
Он запнулся. Я спрашивал себя, к чему он клонит. Но когда он прочитал написанное, я понял. По крайней мере, почти.
– «Вечность переходит во время, безмерность – в меру, создатель – в свое создание, бесформенность – в форму, несказанное – в слово, неописуемое – в скрижали, невидимое – в видение, неслышимое – в звук…»
Я понял, что он считает себя богом.
Появилась Аспазия. Она долго смотрела на тело покрасневшими глазами, потом вышла из комнаты, произнеся mezzo voce: [122]122
Вполголоса (итал.).
[Закрыть] «Мне он больше нравился живым!»
Не знаю, принял ли Бальзамировщик эту фразу за то, чем она действительно была, – так сказать, за литоту, стыдливую манеру высказать свою боль, или, напротив, увидел в ней враждебный выпад против своей профессии. Во всяком случае, он взглянул на хозяйку «Голубого сердца» исподлобья и ничего не сказал. Домой мы возвращались в его фургончике. Довольно скоро он пришел в обычное для него мрачное расположение духа. Должно быть, дело было не в Аспазии – он наверняка думал о Квентине. Я тоже на какое-то время помрачнел, тем более что причины для этого были, и между нами повисла тишина. Потом я заметил, что глаза у него блестят: он был готов заплакать. Мы вполне могли попасть в аварию. Тогда я попытался хоть как-то его развлечь и в шутливой манере принялся рассказывать ему о скандале, который устроил Мейнар – чуть раньше я узнал от Клюзо, что его отпустили, продержав десять часов в вытрезвителе; великий человек отбыл, плюнув на пол и объявив, что навсегда покидает этот «дерьмовый городишко». Но мой рассказ лишь сильнее раздражил мсье Леонара.
– Я не люблю всех этих обличителей, – заявил он.
Потом произнес более загадочную фразу:
– Я предпочитаю тех, кто не говорит, а действует.
Когда впереди показалось аббатство Сен-Жермен, я напомнил ему, что кремация должна была состояться послезавтра утром в крематории кладбища Конш.
– Вы собираетесь его сжечь?
Я объяснил, что такова была воля самого покойного; я привел все его аргументы, до мух и червей включительно.
– Да, в этом смысле ваш дядюшка прав: если не прибегать к услугам танатопрактика – а множество людей все еще отказываются от них, – то, что происходит с телом в гробу после похорон, выглядит не слишком красиво.
И он принялся описывать, как голова увеличивается в объеме вдвое, как вытекают глаза, отвисает челюсть, вываливается язык, и, хуже того, пищеварение продолжается и после смерти, кишечник работает, в тело проникают могильные черви и размножаются, в гниющей плоти возникают скопления газов, живот и мошонка становятся огромными, потом газ возгорается, что приводит к появлению «блуждающих огоньков» (из-за этого ради предосторожности между гробом и стенами могилы оставляют «санитарный метр» пустого пространства), запах гниения привлекает мух, они откладывают яйца, из них вылупляются личинки, которые зарываются в землю, и т. д. и т. д.
– Ах, это все настолько отвратительно! А кремация проходит чисто, без всяких гниющих останков.
– Да, но что остается потом? – возразил мсье Леонар. – Прах, который тут же развеивают или ссыпают в урну, которую замуровывают в крошечной безымянной нише, в мрачном зале, похожем на камеру хранения, в закоулке какого-то подземного лабиринта. Могила, по крайней мере, – на свежем воздухе, к ней можно прийти, посидеть и поразмышлять. Это создает эффект присутствия, почти реального существования. Пусть даже краткого и символического, но, тем не менее, конкретного. И так продолжается очень долго, по сути, вечно!
– Не полагайтесь на слова! «Вечно» применимо лишь к известным людям или к необычным могилам. А во всех остальных случаях эта вечность длится лет пятьдесят, не более того! К тому же это зависит от того, есть ли у покойного наследники и ухаживают ли они за могилой. В противном случае производится «административная эксгумация». Происходит «уплотнение» – вынимаются кости из всех гробов, какие есть в могиле, и складываются в один деревянный ящик. Иногда в таком ящике хранятся останки шести покойников. Потом ящик отправляется в оссуарий, и таким образом освобождается место в земле…








