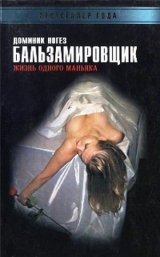
Текст книги "Бальзамировщик: Жизнь одного маньяка"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
– На кладбище Сен-Аматр? – спросил я, внезапно догадавшись, о чем речь.
– А ты откуда знаешь?
– Я там вчера был.
Оказалось, он тоже там был, так что мы вполне могли встретиться. Мы поболтали о том, как тесен мир вообще, и в Оксерре – в частности. Думаешь, что далеко друг от друга, а оказывается – так близко, что можно столкнуться.
– Или наоборот, – заметил Филибер с какой-то непонятной интонацией.
– Ты имеешь в виду Прюн?
Он разозлился и заявил, что с него хватит этой маленькой шлюшки и моих расспросов. Этот мерзавец не сказал мне, что Прюн совсем недавно объявилась, приехала к нему, но он ей не открыл. Итак, она была в городе, но я тогда этого не знал.
Прогноз погоды не предвещал ничего необычного, однако в ночь с субботы на воскресенье, около пяти утра, поднялся резкий ветер, а потом обрушился проливной дождь. Как кстати после трехнедельной жары! Я сразу же решил в одиночестве отправиться на ту самую велосипедную прогулку, от которой отказалась Эглантина. И даже немного продлить маршрут и доехать до Туси – местечка, куда Эглантина никак не соглашалась добраться. В девять утра я уже мчался на полной скорости по пустынной Парижской улице, потом отважился проехать по улице Тампль в запрещенном направлении и оказался гораздо быстрее, чем предполагал – всего за четверть часа, – на дороге Сан-Фарго. Правда, она была не такой красивой, как дорога вдоль берега Йонны, но здесь почти отсутствовало движение, по крайней мере в выходные. Дорога была полностью в моем распоряжении. Меня охватил безумный восторг, и я преодолел немногочисленные подъемы, словно гонщик Тур-де-Франс (и без всякого допинга), а на спусках распевал во все горло.
Дорога была в основном ровной, прямой и достаточно однообразной, кроме одного участка незадолго до Вильфарго, где ее пересекала небольшая речушка под названием Больш, такая очаровательная, что я остановился, чтобы окунуться. Потом, когда я уже сидел на берегу и обсыхал, до меня неожиданно донеслись крики и собачий лай. Я решил немного подождать, что будет дальше, и не пожалел об этом.
Вначале показалась одна маленькая собачонка, потом две, потом пять, а потом несколько десятков – всех пород, но преимущественно (если не ошибаюсь) бассетов, такс и фокстерьеров. Все были на длинных сине-бело-красных поводках, которые сжимал в руке странный тип – высокий старик в джинсах и синей футболке, с огромной белой бородой. На голове у него был фригийский колпак, на ногах – красные кроссовки. Я был поражен – старик как две капли воды походил на того, что смеялся равномерным механическим смехом, сидя в городской библиотеке Оксерра! Увлекаемый вперед своими собаками и пытающийся удержать их одной рукой, он быстро двигался вперед, восклицая с равными промежутками: «Франция! Франция!» Когда они достигли узкого мостика через речку, у подножия которого я уже собирался обуваться, некоторые из собак залаяли на меня, но их хозяин, кажется, меня даже не заметил, и весь кортеж продолжал еще быстрее двигаться в сторону ближайшего поселка. Теперь я заметил, к своему несказанному веселью, что на каждой собаке была надета желтая попонка с вышитым на ней крупными буквами названием одного из французских департаментов, а помельче (об этом я скорее догадался, чем разглядел в действительности) – названием главного города и супрефектур. Я еще немного подождал, потом подхватил велосипед и решил тайно проследовать за кортежем.
Мы преодолели примерно семьсот – восемьсот метров, когда первые собаки поравнялись с указателем, на котором было написано «Вильфарго». В этот момент старик во фригийском колпаке разом выпустил все поводки и в последний раз выкрикнул: «Франция!», – сопровождая это слово взрывом хохота. Затем он уселся на насыпь у подножия указателя и закурил, между тем как добрая сотня «департаментских» собак устремилась по главной улице поселка, волоча за собой трехцветные поводки.
Я пересек поселок, с грехом пополам уворачиваясь от своры, особенно от Сен-Маритима и Пирене-Атлантик, двух крупных коккер-спаниелей, которым заднее колесо моего велосипеда показалось особенно привлекательным. Любопытно, что редкие жители поселка, попадавшиеся мне навстречу, были скорее удручены, чем удивлены, собачьим нашествием, словно бы оно не было для них неожиданностью.
На протяжении еще одного километра я по-прежнему смеялся, но потом перестал, потому что моя фляга опустела и теперь меня мучила жажда. От ночного дождя осталось одно воспоминание – чертово солнце палило нещадно. Мне пришлось отказаться от первоначальных планов и сократить поездку. Добравшись до Туси, я, вместо того чтобы проследовать дальше к Мезий и Сан-Фарго, свернул влево, собираясь выехать к берегу Йонны со стороны Кравана. Вокруг простирались сплошные поля – ни единого дерева. На первой развилке, после особенно тяжелого подъема, я, чтобы немного срезать путь, снова повернул налево в направлении Кулонь-ла-Винез. Это название подействовало на меня как электрический разряд. Я представил себе кувшины, бочки и бутыли со свежим прохладным вином, целые бьющие фонтаны вина. Но когда я наконец добрался до места, то был страшно разочарован. Неужели это из-за воскресенья? Ни одной живой души – словно попал в деревушку из какого-нибудь вестерна во время сиесты! Такие же ряды деревянных домов вдоль пыльной дороги, под таким же палящим солнцем – но ни единого салуна поблизости! Повсюду вывески виноделен, однако двери наглухо закрыты. Никакой дегустации, даже простой воды негде набрать – ни крана, ни колонки. Единственным признаком жизни был звук включенного радио, раздававшийся из одного внутреннего дворика, видного с улицы, – там зрелая, хотя и обнаженная женщина (или наоборот, обнаженная, хотя и зрелая) выбивала ковер. Я решил, что неприлично было бы ее беспокоить. Итак, я поехал, буквально высунув язык от усталости, по направлению к Венселотт, надеясь, что дядюшка не откажет мне в глотке прохладной воды. К счастью, дорога теперь шла под уклон, и не прошло и десяти минут, как я, переехав Йонну по мосту, постучался в его дверь.
Никакого ответа. Я повторил свою попытку трижды, потом громко окликнул его по имени. Наконец я услышал слабый шум за дверью – она, очевидно, не открывалась автоматически. Это был классический скрежет ключа в замке, после чего дверь со скрипом приотворилась и в проеме показалось лицо дядюшки, но тут же скрылось – должно быть, его ослепил дневной свет. Его было не узнать: опухший, бледный, без очков, с помятым лицом – удивительно, но в это время, в 11 утра, он еще спал. На нем не было ничего, кроме синих пижамных брюк, по седоватой поросли волос на груди струился пот. Он сделал слабый жест в сторону большого кресла, на котором восседал во время моего прошлого визита. Сам же вновь улегся на матрас с серо-черными простынями.
Прием был, прямо скажем, не слишком восторженным. Однако мне так хотелось пить, что, едва поздоровавшись, я тут же взмолился о стакане воды.
– Будь как дома. Воды полным-полно в колодце во дворе.
Я уже собрался идти туда, но дядюшка расхохотался:
– Балда, нет там никакого колодца! Посмотри в холодильнике.
Когда я, напившись, вернулся в комнату и сел в кресло, он по-прежнему лежал, и вид у него был сонный.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – спросил я.
Он ответил не сразу. Потом произнес, стараясь, чтобы это прозвучало непринужденно, но в его голосе слышалась легкая нотка беспокойства:
– Рука побаливает, а в остальном все нормально.
И тут же, словно устыдившись, что не слишком хорошо исполняет хозяйские обязанности, дядюшка задал мне сразу два вопроса, один ироничнее другого: как поживают моя «прелестная невеста» и мой «еще более прелестный» друг-библиотекарь, которого я с ним познакомил не так давно? Я ответил, что он покончил с собой. Дядя широко распахнул глаза.
– Надеюсь, – наконец произнес он после продолжительного молчания, – что это произошло не от того, что его замучили угрызения совести из-за его убеждений.
– Каких убеждений?
Я знаю, о чем говорю.
– Когда я рассказал о похоронном ритуале Моравски, последовали новые саркастические замечания – не столько по поводу собора (любопытно: дядюшка Обен оказался вполне толерантным в этом отношении), сколько по поводу самого способа захоронения – предания земле.
– Это так архаично! – заявил он. – Отдавать свое тело в пищу мухам и червям! Они сжирают все, что находится в гробу. Отвратительно!
– Но отдавать его огню…
– А кто тебе об этом говорит? Если тебя кремируют – кажется, ты ведь это имеешь в виду? – то ни один сантиметр твоей кожи, ни один атом твоего тела не будут затронуты огнем. Кремация – это не просто сожжение. Температура в печи достигает 800 градусов, благодаря чему огромное количество жидкости, из которой в основном состоит человеческое тело, испаряется, а все остальное догорает, кроме костей, которые приходится дробить. В конечном счете остается горстка праха, которая выглядит вполне достойно.
– Но предание земле – это христианский обычай, – возразил я, чтобы немного подразнить его. – «Прах ты есмь и в прах обратишься…»
Он сделал вид, что не слышит. Однако этот разговор, казалось, немного его взбодрил. Он сел в кровати, опираясь спиной о подушку, и снова начал расспрашивать меня об Эглантине. Я что-то смущенно пробормотал. Но он почти не слушал и продолжал свои рассуждения:
– А все-таки тебе повезло! Она восхитительна! Кстати, на сколько она младше тебя?
Я удивился. Действительно, Эглантина была на два года младше меня, но внешне эта разница была не так заметна, чтобы задаваться вопросом на эту тему. К счастью, я достаточно быстро сообразил, что на самом деле дядюшка больше думал о ней, чем обо мне, поскольку он тут же пустился в восторженные рассуждения о красоте юных особ и – как бы это выразиться? – о настойчивом побуждении всегда иметь их «под рукой».
– И не только под рукой, – добавил он с легким смешком.
Потом он поднялся, быстро подошел к зеркалу в керамической голубой раме, висевшему недалеко от входа, и почти приклеился носом к стеклу, потому что сейчас на нем не было его небольших «дальнозорких» очков. После этого с довольно расстроенным видом исчез в соседней комнате. Судя по булькающим звукам, сопровождающим полоскание горла, это была ванная.
Он вышел оттуда довольно быстро.
– Кстати, я ее тут недавно встретил возле магистрата, – объявил он.
– Кого?
– Эрмину… Клементину…
– Эглантину, – поправил я.
И дядюшка принялся описывать ее мне в такой манере, которая красноречиво свидетельствовала о хорошем состоянии его либидо.
– Она была не одна, – неожиданно добавил он.
Я было навострил уши, но тут же выяснилось, что человек, сопровождавший Эглантину, был «старик» – может быть, ее отец?
– Так что, как видишь, я отсюда выбираюсь время от времени. Гораздо чаще, чем я мог бы представить себе несколько месяцев назад…
Очевидно, такое положение дел не слишком сочеталось с имиджем мизантропа, каким он хотел казаться нашей семье, на законных или ложных основаниях, в течение последних лет. Больше он об этом не говорил.
– На самом деле, вам бы хорошо иметь разницу в годах не в два-три года, а лет в тридцать!
Я со смехом запротестовал, сказав, что в таком случае я был бы даже более чем педофилом: Эглантины вообще еще не было бы на свете!
Но дядюшка Обен не слушал: он снова пустился в свои разглагольствования, которые были составной частью его обаяния:
– Каждый индивид, достигший половой зрелости, должен прожить первую половину своей жизни с тем, кто на тридцать лет старше его, а вторую – с тем, кто на тридцать лет младше. Таким образом проживаешь как бы две жизни, и каждая по-своему прекрасна: в двадцать лет живешь со зрелым, опытным человеком, который учит тебя жизни и остается с тобой до самой своей смерти; когда ты сам достигаешь сорока, то, в свою очередь, должен озаботиться тем, чтобы найти молодую особу, которая вернет в твою жизнь былую свежесть и очарование. Одним словом, чередование геронто– и неофилии. Такой расклад будет выгодным для всех!
– Надо бы тебя познакомить с моим соседом Бальзамировщиком, – сказал я. – Он как раз живет – ну, более или менее – с парнем, который лет на двадцать младше него.
– Двадцать лет – это не слишком много. Я знал старого профессора философии в Сорбонне (в те времена, когда еще была настоящая Сорбонна, а не «супермаркеты» Париж-1, 2, 3, 4 и так далее), который жил со своей маленькой племянницей. У них было семьдесят лет разницы – семьдесят! – и можешь мне поверить, что это не мешало им… играть в доктора (доктора гуманитарных наук, разумеется!).
Он громко расхохотался над собственной остротой, потом резко остановился, как человек, которого скрутила внезапная судорога. Но затишье было недолгим. Я напрасно пытался перевести разговор на другую тему – он непрестанно возвращался к прежней. Он дружески подшучивал надо мной, солидаризовался с молодыми людьми и выспрашивал подробности. Затем, снова улегшись, он вдруг без всякого перехода пустился в разговоры о женских половых органах. Он заявил, что это второе, тайное лицо женщины, не более, но столь же важное, как и другое, видимое всем. Это еще один признак, по которому можно их классифицировать. Либо вознаграждение, либо наказание. У иной приятное лицо, а «киска» вялая и дряблая; другая на вид страшненькая, но зато между ног у нее – сладчайший плод на земле; иногда у юной девушки половые губы, как у старухи, а у старухи – правда, гораздо реже, – как у девушки. И какое счастье, заключил он, отыскать полную гармонию – когда оба «лица» одинаково прекрасны! Потом он принялся напевать по-итальянски арию из «Дон Жуана»:
– «La blonda… la bruna… la grassotta… lamargotta… la puccina… la grande maestosa…» Блондинка, брюнетка, толстушка… Сами по себе эти определения ничего не значат, но часть тела – эта часть!..
Он заявил, что на месте Моцарта и Да Понте [110]110
Да Понте, Лоренцо (1749–1838) – либреттист, автор текстов опер Моцарта «Дон Жуан» и «Женитьба Фигаро», оставил мемуары. – Примеч. ред.
[Закрыть] составил бы каталог «кисок».
– Здесь ведь такое разнообразие! Одна – мясистая, другая – как несвежая устрица; одна похожа на розу, другая – на рану; здесь – райская долина, там – Верден в шестнадцатом году! [111]111
Имеется в виду Верденская операция 21.2 – 18.12.1916, во время Первой мировой войны, когда 5-я германская армия пыталась прорвать фронт французских войск в районе Вердена, но встретила упорное сопротивление. В длительных ожесточенных боях обе стороны понесли огромные потери. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Дядюшка разошелся.
– Тебе может показаться абсурдным, что такие мысли занимают меня в моем возрасте. Однако я думаю, что еще вполне на что-то способен. Стоило бы перейти к этому на деле, но…
Что он хотел сказать после этого «но»? «Но не хочется все начинать заново?», «Но что-то мне мешает?» Мне стоило обратить на это больше внимания: теперь я знаю, что в тот момент он пытался сказать мне о чем-то, что не давало ему покоя, – я понял это слишком поздно. Так или иначе, после недолгого молчания он переключился на другую тему, которая, как мне показалась, не была связана с предыдущей (но на самом деле была). Он заговорил с какой-то подозрительной бодростью, скорее притворной, чем естественной:
– Знаешь, я не слишком люблю святош, но одному из них готов отдать должное – возможно, потому, что он в некотором роде человек одержимый. Это Жан Гиттон. Ты знаешь, кто это?
Я, к стыду своему (впрочем, не слишком сильному), был вынужден признать, что нет.
– Ну, не важно. Он что-то вроде философа, друг Павла Шестого, как и других пап, а также Миттерана. Итак, вообрази себе, как этот восьмидесятилетний господин на полном серьезе заявляет, что сильные сексуальные ощущения вовремя совокупления представляют собой опыт по выходу души из тела, который предвосхищает воскрешение. Если перевести это на обычный язык, то получится, что ощущение, которое мы испытаем в день Страшного суда, будет похоже на супероргазм! Итак, ты видишь…
Он сделал жест, который означал: «Так что чего там стыдиться!» И ушел заканчивать свой туалет.
– Кажется, сейчас время аперитива.
Он появился из ванной выбритый, в светло-голубой рубашке-«поло» и наконец-то в очках. Потом потянул за веревочку, которая открывала бар с напитками, и за другие, накинутые на горлышки бутылок.
– Увы, вербеновой водки больше не осталось. Впрочем, ничего другого тоже нет. Может быть, ты со мной позавтракаешь?
Но я твердо отклонил приглашение. Мне нужно было преодолеть десять километров до дома, и я предпочитал сделать это на пустой желудок. При виде веревочек я вдруг вспомнил старика с его собаками и рассказал дяде эту историю.
– А, это Виктор! – тут же воскликнул он. – Ты видел Виктора, которого называют еще Господин-Большой привет! Это сумасшедший из Вильфарго. У него огромный дом, что-то среднее между фермой и замком, не очень далеко отсюда. Это его коронный номер – с собаками. Он проделывает это два-три раза в год, а уж на Четырнадцатое июля – обязательно. Потом ему – точнее, не ему, а окрестным жителям – требуется несколько часов, чтобы переловить собак, привести домой и распихать по будкам. Кажется, теперь у него завелся конкурент в Пуррене. Тот развлекается по субботам. Он собирает стадо из двадцати пяти коз – в последний раз из козлят, – каждая из которых обмотана европейским флагом, и выпускает их в центре города с криком: «Европа! Европа!» Кругом одни психи!
Потом он почему-то счел нужным добавить:
– Это может быть связано с твоим другом-библиотекарем. Такая вот ироническая реакция.
Я даже не успел возразить, что, если речь идет об иронии, значит, эти типы вовсе не сумасшедшие. С притворно-сокрушенным видом дядя принялся объяснять, что всегда ненавидел фашистов (это слово он произносил с сильным пришепетыванием) и что тут ничего не поделаешь. Я был вполне согласен с ним по этому вопросу, но не слишком хорошо понимал, какое это имеет отношение к Моравски или даже к Господину-Большой привет.
В качестве «фашистки» он заклеймил первую консьержку, с которой столкнулся в Париже в бытность свою студентом Академии изящных искусств, когда жил в убогой каморке на улице Висконти. Это была пожилая мегера, о которой поговаривали, что она сотрудничала с полицией и с немцами во время войны. К тому же она была редкостной стервой и всегда останавливала посетителей и в особенности посетительниц на первых ступеньках лестницы. С помощью супружеской четы преподавателей, совладельцев дома, она в два счета выправила себе документы (благодаря чему получила право досрочно выйти на пенсию). Пытаясь найти какой-то безобидный, но достаточно действенный способ заставить ее не высовывать носа из своей клетки (в обоих смыслах этого слова – лестничной клетки и той комнатушки, площадью в четыре квадратных метра, расположенной в неком подобии мезонина, где помещались уродливая собака консьержки и она сама, занимавшая едва ли не меньше места), дядя обратился к помощи граффити обидного или угрожающего содержания. Вначале он ограничивался вполне тривиальными оскорблениями, вроде «Консьержка шлюха», «У мамаши Ренардо не только руки в крови – у нее еще и геморрой», и «Консьержка сосет». Потом появились более изобретательные, хотя и не менее оскорбительные надписи: «Ренардо, пожуй свое говно!», «Консьержка, береги свою задницу!», «Ренардо, получишь по морде!» Потом непристойность стала проявляться в еще большей степени: «У мамаши Ренардо волосатый клитор», «Ренардо, на твою дохлую устрицу надо выжать лимон!», «Консьержка, засунь свой конец в начало!», [112]112
Игра слов: concierge – «консьержка», первый слог con – «п…да», второй cierge – «свеча». – Примеч. пер.
[Закрыть] а также почти сюрреалистическая надпись: «Консьержка не на лестнице, она И ЕСТЬ лестница». И наконец, самая угрожающая надпись: «Симона (так ее звали), тебе прочистят трубы, и это будет грубо!» – что, по идее, должно было заставить ее «поостеречься».
Дядюшка Обен, рассказывая мне об этих детских забавах, смеялся сильнее, чем я, слушая его рассказ. Должно быть, он это заметил, потому что, провожая меня до калитки, несмотря на палящее полуденное солнце, он сменил легкомысленный тон на серьезный и начал излагать мне свою теорию глобализации и антиглобализации. По его словам, это было более расширенное и более жестокое проявление «тысячелетнего противостояния» эксплуататоров и эксплуатируемых. Он меньше верил в расслоение «Север – Юг», чем в границу, проходящую через каждый континент, каждую страну, каждый город, фактически через каждый квартал: везде воздвигнуты постыдные стены, видимые или нет, которые нужно разрушить. Охраняемые районы против нищих районов, а в точках соприкосновения – терроризм и контртерроризм, причем каждое из этих явлений чудовищным образом служит оправданием для другого, более-менее обоснованным, особенно для того, кто в данный момент сильнее.
– Отсутствие стабильности, загрязнение атмосферы – все эти опасности выдумали сильные мира сего, чтобы сплотить свои ряды…
Лишь когда я уселся на велосипед и коснулся ногой педали, дядя прервал свои разглагольствования и поцеловал меня на прощанье.
– Возможно, мы скоро увидимся в Оксерре, даже раньше, чем ты думаешь, – сказал он с загадочной улыбкой.
Он и не подозревал, насколько был прав.
Держась по возможности в тени старых деревьев, росших вдоль берега Йонны, я добрался до города меньше чем за двадцать минут. Проезжая мимо шлюза, где Прюн несколько месяцев назад купалась голая, я почувствовал легкий укол в сердце. Вернувшись домой, я обнаружил, что завести велосипед во двор будет затруднительно: «мерседес» юного банкира занял чуть не всю улицу Тома Жирардена и стоял вплотную к воротам. До самого вечера я ждал новостей от Эглантины, но так и не дождался. В эту ночь, несмотря на долгую велосипедную прогулку, а может быть, как раз по ее причине, я никак не мог заснуть. Икры ныли, к тому же опять стояла жара. Самый слабый шорох резко отдавался у меня в ушах. Поэтому через какое-то время я стал различать со все большей отчетливостью ряд звуков, доносившихся из квартиры Бальзамировщика: легкие шлепки, перешептывания, приглушенный смех, потом резкий стук, взрыв хохота и тут же вслед за ним – испуганное шиканье. В конце концов я встал и подошел к окну. В квартире Бальзамировщика окно ванной комнаты было распахнуто на обе створки. Оттуда, где я стоял, были видны голова и шея Бальзамировщика, лежавшего на полу возле ванны. Квентин сидел на его груди, абсолютно голый, стиснув бедрами его голову, словно клещами, и проводил своим членом, еще недостаточно возбужденным, но уже отвердевшим, покрасневшим и удлинившимся, по его лицу. Точнее сказать, он сжимал член в правой руке, как небольшую дубинку, и колотил им по щекам, глазам и кончику носа своего партнера, одновременно произнося с громким смехом (мсье Леонар уже был не в том состоянии, чтобы удерживать своего друга увещеваниями на тему «Что подумают соседи?») фразы, пародирующие флоберовский стиль:
– Глаза, столь охочие до красивых мальчиков… Ноздри, любящие вдыхать влажный бриз… ах! не входит! И рот, который так кричит в моменты наслаждения…
И с этими словами засунул член в рот мсье Леонара. Irrumation – именно так, по словам Мартена, называли древние латиняне эту эротическую забаву.
Что на меня нашло в этот момент? Отвращение к чужому удовольствию? Христианское побуждение покарать этакое непотребство? Желание устроить розыгрыш? Или просто стремление как можно быстрее добиться тишины и снова заснуть? Я на цыпочках вернулся к ночному столику, взял с него бутылку с водой и выплеснул почти все содержимое в окно, а потом сразу бросился на кровать, чтобы не упустить последующих звуков. Тут же я услышал громкое «плюх», за которым последовала тишина. Лишь через некоторое время кто-то осторожно закрыл окно напротив.
Даже если бы вдруг случилось так, что я перестал бы думать об Эглантине больше чем на минуту, это необычное ночное «помазание» вернуло бы мои мысли к ней. На следующее утро я решил позвонить Дюперронам. Трубку взяла она! Оказывается, родители уехали в Англию на поиски младшей дочери. Заметив ее некоторое замешательство и ту настойчивость, с которой она старалась говорить только об истории с Прюн, я почувствовал, что она слегка недовольна своей манерой поведения по отношению ко мне. Я тут же воспользовался этим, чтобы разыграть – но не слишком демонстративно – оскорбленное достоинство. Боже милостивый, я предложил ей объясниться за ужином в «Приюте гурмана», в любой день по ее усмотрению (я не осмелился сказать: «Сегодня вечером»). Она сказала: «Завтра». Я ответил: «По понедельникам там закрыто, и по вторникам тоже». Тогда она сказала: «Сегодня вечером».
Я прибыл на пять минут раньше назначенного времени. Должен сказать, что мое настроение было неоднозначным. Дело в том, что в ожидании назначенного часа, уже приняв ванну, побрившись, смочив щеки лосьоном после бритья и облачившись в бежевый льняной костюм (а также изобразив честное и открытое выражение лица), я взял с полки, отчасти чтобы развлечься, отчасти чтобы упомянуть об этом в разговоре с Эглантиной, роскошный альбом цветных репродукций «Детали», который она подарила мне на Рождество. И сразу же обнаружил в нем почти точную копию Бальзамировщика, на картине Джованни Санти [113]113
Санти, Джованни (1446–1494) – итальянский живописец, отец Рафаэля Санти. – Примеч. ред.
[Закрыть] «Страждущий Христос»: те же большие черные глаза, тот же сосредоточенный взгляд, тот же довольно длинный нос и тонкие губы. Только волосы у мсье Леонара были короче. И вдруг, собираясь перевернуть страницу, я обнаружил, что не могу этого сделать: страницы были склеены. Разъединить их никак не удавалось, поскольку между ними было раздавленное утиное яйцо, содержимое которого еще не засохло окончательно. Я тут же подумал об Эглантине. Должно быть, она рассматривала альбом, держа в руке яйцо, которое собиралась выпить сырым, и оно выскользнуло. Но почему она не вытащила его оттуда? Или это было сделано нарочно? Но чего ради? Какое-то послание? (Но что она этим хотела сказать? Я рассмотрел страницы, которые были испачканы, – это был сплошной текст без иллюстраций, и ничто не могло послужить каким-то знаком.) Итак, я отправился в ресторан в некоторой растерянности.
Я нашел место на террасе, что оказалось не так просто. Из-за жары все хотели сидеть именно здесь. Мне неожиданно удалось сесть за один из столиков только потому, что кто-то снял заказ в последний момент.
Едва усевшись, я с удивлением заметил под аркой садовой калитки высокий силуэт Мейнара. Весь в белом, очень эффектный, хотя с немного огрубевшим лицом, как у человека, слишком привыкшего к аперитивам, он приблизился к юному метрдотелю, который только что усадил меня за столик. Тот, сверившись со списком, указал ему на внутреннее помещение. Снаружи не было ни одного свободного места – Мейнару не так повезло, как мне. Он выглядел разочарованным, пытался спорить своим гулким голосом, но ему все же пришлось смириться с ситуацией, после того как он тщетно обшарил глазами столики на террасе, все занятые. Я уже заранее изобразил улыбку, но он меня не заметил. Однако ему все же удалось получить столик недалеко от входа, рядом с огромным букетом роз в напольной вазе. Со своего места я мог заметить, как он тут же обернулся к двери. Он вообще часто оборачивался – явно кого-то ждал. Но появление Эглантины помешало мне выяснить, кого именно.
На самом деле в течение получаса я смотрел только на нее, восхищаясь ее свежим цветом лица, слегка озабоченным взглядом прекрасных глаз, подкрашенных бледно-голубыми тенями, чувственными очертаниями губ, платьем с узором из настурций и вьюнков, под которым очерчивались ее небольшие груди – между ними раскачивался подаренный мной золотой скарабей, словно взбираясь вверх. А потом я уже ничего не видел, по той простой причине, что она ушла.
Однако началось все хорошо. Я заказал два бокала розового шампанского, которое она любила, она держалась очень доброжелательно, почти готова была обвинить себя в нашей недавней размолвке и даже выразила намерение окончательно и бесповоротно обосноваться у меня. Потом, после некоторого молчания, вызванного нахлынувшими на нас обоих эмоциями, я, чтобы сменить тему, имел несчастье рассказать ей о ночной сцене, которую наблюдал через окно ванной комнаты Бальзамировщика. Но Эглантину это ничуть не позабавило. И еще меньше ей понравилось, когда я спросил полушутливым тоном:
– А ты не хотела бы, чтобы я проделал с тобой то же самое?
К счастью, в этот момент к нам подошел официант и принялся рассказывать нам о сегодняшних блюдах, словно экскурсовод в залах Версаля – о богатстве отделки королевской спальни, не скупясь на всевозможные эпитеты превосходных степеней. Салат «Тысяча овощей», по его словам, был заправлен «нежнейшим муссом из розового редиса, похожим на сладкий крем»; телячье рагу под белым соусом было приготовлено из «нежнейших кусочков мяса молочных телят с отборных пастбищ мсье Монбазака в Вантеже» и на вкус было «в точности таким же, как готовила моя бабушка Жюльетт». Что касается вина, которое он порекомендовал бы к этим блюдам…
– …С учетом жары я предложил бы вам охлажденное сомюр-шампиньи, точнее, «Кюве де Фадетт» урожая 1999 года от мсье Ревьяна – этот сорт предоставит вам великолепную палитру ощущений, в которой преобладает фруктовый вкус и аромат пряностей.
К несчастью, среди закусок, которые принесла нам чуть позже юная официантка в черно-синем форменном платье с белым корсажем, оказались утиные яйца-пашот в бульоне с шафраном.
– Кстати, об утиных яйцах… – начал я.
Но я так и не закончил эту фразу – хотя она была довольно запутанной, Эглантине хватило минуты, чтобы понять, в чем дело, и почувствовать себя оскорбленной. Это ей очень не понравилось. Я пытался загладить свою промашку, но лишь сильнее усугублял ситуацию. Решив обратить все в шутку, я сказал что-то вроде:
– Ты всегда была восхитительно непредсказуемой, и я подумал, что ты таким образом хочешь сделать мне сюрприз… – И добавил: – Некоторые засушивают цветы между страниц, а ты – яйца…
– Ты прекрасно знаешь, что у меня сейчас хватает проблем, но выбираешь именно этот момент, чтобы обвинить меня в таких идиотских поступках! – возмущенно воскликнула она.
Это было уже не смешно! Должно быть, я затронул какую-то болезненную для Эглантины тему, сам не зная о том. И тогда – ах, как мы способны ошибаться! – меня осенило: раздавленное яйцо было для нее способом показать (сознательно или бессознательно?) свое желание стать матерью, о чем она много раз давала мне знать – разумеется, не настаивая и по большей части лишь намеками. Итак, подбодрив себя сомюр-шампиньи мсье Ревьяна (который вполне оправдывал свою фамилию), [114]114
Reviens – «вернись». – Примеч. пер.
[Закрыть] я решил продемонстрировать абсолютную искренность и заговорил с Эглантиной (в достаточно нелепых выражениях, я это признаю) о ее «воистину устрашающей жажде материнства». Сперва она недоверчиво взглянула на меня, потом я увидел, как ее глаза наполняются слезами. Она схватила свою сумочку, поднялась, прошла через террасу и сад и мгновенно растворилась в сумерках на бульваре Вобан.








