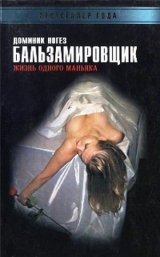
Текст книги "Бальзамировщик: Жизнь одного маньяка"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Эглантина не приехала, что показалось мне странным. Она, очевидно, провела здесь часть вечера – на это указывали ее ноутбук и книжка Стендаля, раскрытые на столе в гостиной. Я взглянул на раскрытую страницу тома «Привилегий». Небольшой, но совершенно фантастический текст. Сборище фантазмов. Автору грезилось, что Бог согласился дать ему все, чего он хочет. Например: «Привилегию (так он это называл) носить на пальце кольцо, сжав которое и глядя при этом на женщину можно было заставить ее страстно в тебя влюбиться». Но, поскольку получать все таким образом было бы достаточно просто, он сам заключил свои желания в четко установленные рамки. Получился свод правил, состоящий из двадцати трех пунктов, очень подробно расписанных и довольно забавных. Например, пункт 8: «Каждые сутки, в два часа ночи, привилегия найти в кармане золотой наполеондор», или пункт 16: «Привилегия получить в любом месте, произнеся: „Я бы хотел получить что-нибудь съестного“, – два фунта хлеба, хорошо прожаренный бифштекс, такую же баранью ножку, бутылку сен-жюльенского, графин воды, какой-нибудь фрукт, лед и полчашки кофе». Я спросил себя, что могло заинтересовать мсье Леонара в этой книге. Что за скаредная, расчетливая манера изображать из себя бога! Может быть, его привлекла возможность изменяться или изменять других (что, в конце концов, было вполне естественно для бальзамировщика)? «Одна из привилегий позволяет превратить собаку в женщину, красивую или уродливую», «Четыре раза в году можно превращаться в любое животное». Была даже странная идея «занимать два тела одновременно».
В этот момент вернулась Эглантина. Она увидела, что я читаю, и улыбнулась. Для нее все это было лишь волшебной сказкой, вроде историй о Мерлине или «Тысячи и одной ночи». Она вернулась от родителей. Те снова беспокоились из-за Прюн, от которой не было никаких известий. Они звонили в ливерпульский колледж, но никто не отвечал. Возвращаясь к Стендалю, она заметила, что «Привилегии» – это приемчики импотента. «Или романиста?» – предположил я.
ГЛАВА 8
Мы плохо спали из-за жары. Вдобавок рано утром (точнее, в 8.30) нас разбудил телефонный звонок Натали Моравски, взволнованной и взвинченной, как никогда. Оказывается, бумага, которую писал ее муж перед тем, как яд начал действовать (это было около двух часов ночи) была не чем иным, как подробным описанием его собственных похорон! Довольно необычно для атеиста. Впрочем, может быть, и нет. Когда не веришь в загробную жизнь, мизансцена собственного погребения – единственная слабость, которую можно себе позволить, личное карманное бессмертие, последний отчаянный кульбит перед тем, как навеки погрузиться в небытие.
Атеист – но пожелавший мессы! Неверующий, даже порой антиклерикал, – однако потребовавший, чтобы над его гробом прочитали отрывки из «Проповеди о смерти» Боссюэ! «Только из первой части», – уточнила вдова, которая все никак не могла поверить в подобную экстравагантность. (Позже, слушая текст, я убедился, что ничего экстравагантного здесь не было: первая часть «Проповеди…» не содержала в себе ничего, что не мог бы выслушать атеист.) К моему величайшему удивлению, единственная вещь, о которой мадам Моравски смогла договориться без труда, было место похорон: она была лично знакома с главным викарием епархии, так что погребальная церемония должна была состояться в соборе Сент-Этьенн. Для того чтобы избежать осложнений, возникших бы с церковью в случае самоубийства, она упомянула только о сердечном приступе – как об этом говорилось в сообщении, появившемся в «Йоннском республиканце». Она даже добилась того, чтобы ради церемонии из кладовой достали резную деревянную кафедру, которая хранилась там со времен Второго Ватиканского собора. Она объяснила это тем, что покойный просил зачитать «Проповедь…» с кафедры, к тому же чтобы чтецом был «комедийный актер или кто-нибудь еще с громким голосом и отчетливым произношением», – что касается этого последнего пункта, вдова даже не знала, к кому ей обратиться. Покойный библиотекарь также потребовал «короткого выступления», где «в общих чертах» были бы отражены основные этапы его жизни (он выписал их на отдельном листке). Это он поручил лично Мари-Клэр Сен-Пьер, своей коллеге с Мартиники.
Я пообещал, ничего не уточняя, заняться поисками «актера». Но у меня уже появилась идея: Мейнар! Мейнар, с его голосом, гудящим, словно бронзовый колокол. Эглантина успела снова заснуть, и я сам позвонил из гостиной Од Менвьей, чтобы через нее связаться с великим человеком. Она дала мне номер его телефона; он жил недалеко от нее. Я тут же попытал удачи. Но началось все не слишком хорошо: хотя было уже больше девяти утра, я, судя по всему, поднял его с постели, и он произнес недовольным, хрипловатым со сна голосом что-то неразборчивое.
Но наконец я, хотя не без обиняков, объяснил ему причину моего звонка, и после некоторого молчания он рассмеялся:
– Вы хотите, чтобы я читал «Проповедь о смерти» Боссюэ в соборе?
Теперь он рассмеялся уже громче. Потом резко остановился:
– Да вы издеваетесь, что ли? Да я его в гробу видал, этого «Орла из Мо»! И его проповеди тоже! И все ваши соборы! А что до смерти… мне на нее начхать, мой юный друг! Абсолютно начхать! – И Мейнар повесил трубку.
Стало быть, облом. Однако я смог договориться с Мари-Клэр Сен-Пьер. Племянник ее мужа был актером, в данный момент безработным; он бы охотно принял это предложение, чтобы заработать на кусок хлеба. Что ж, это было не так уж и плохо. Ибо первые слова Эглантины, после того как она проснулась и услышала мой рассказ о телефонном звонке Мейнару, были о том, что этот гигант с ораторским голосом – совершенно неуправляемый субъект.
Одной из коллег ее матери как-то раз пришла в голову неудачная идея пригласить его выступить перед своим классом как «человека из литературных кругов» (в одной-двух брошюрках, выпущенных некогда каким-то издателем из Коньяка, Мейнар в самом деле фигурировал в списке членов парижского Писательского дома). Он прибыл с опозданием на полчаса; поскольку у преподавательницы ничего не было предусмотрено на такой случай, она велела ученикам поочередно читать вслух с параллельным переводом отрывок из передовицы «Вашингтон пост». Когда Мейнар прибыл, то молча сел за парту в дальнем конце класса. Она уже хотела предоставить ему слово, но он сказал: «Нет-нет, продолжайте, это очень поучительно!» Тогда она попросила учеников ответить, какие у них мысли по поводу данного текста. Большинство ответили «мне нравится» или «мне не нравится» или попытались передать на «нормальном» французском метафоры мистера Чарльза В. Краутхаммера. Выражение лица Мейнара стало каким-то странным. Тут преподавательница решила сделать небольшое «отступление». Она спросила приглашенного, что он думает об этом тексте. Он ответил: «Вы знаете, журналистская болтовня меня не интересует!» Это вызвало у всех оцепенение. Опрос продолжался. Следующий ученик, один из лучших в классе, принялся комментировать стиль. Он сказал, что в выражении «удовольствоваться этим» есть нечто гедонистическое. «Почему?» – неожиданно спросил Мейнар. Тот заколебался, потом ответил, что в этом слове один корень со словом «удовольствие». Преподавательница уже улыбалась, гордая за своего ученика, как вдруг Мейнар, поднявшись, заявил ему: «А если я сейчас скажу тебе: „Засунь свой язык в задницу!“ – что, в этом будет что-то эротическое?» Потом, буквально испепелив взглядом онемевшую преподавательницу, он обрушился на нее: «Из-за того, что Расина, Вольтера и Флобера заменили всякими псевдоучеными говнюками и их пустой болтовней, вы получите поколение безграмотных идиотов, так называемых здравомыслящих, которые нахватались всего по верхам – будущих цензоров и потенциальных фашистов! Невежество приумножает глупость, которая является матерью всех пороков! Прощайте, мадам, никогда бы вас больше не видеть!» – и вышел.
Когда мы вошли в собор Сент-Этьенн, чтобы присутствовать на погребальной церемонии, народу там было уже значительно больше, чем обычно бывает на воскресной мессе. У Моравски было не так много друзей, но он был известным и уважаемым в городе человеком: в течение двенадцати лет он трудился на благо многочисленных читателей, студентов, исследователей, пенсионеров, растерянно стоявших перед огромными информационными картотеками в поисках латинской пословицы или генеалогического древа, – одним словом, он был настоящим гуманистом, и его смерть, сообщение о которой появилось на первой полосе «Йоннского республиканца», никого не оставила равнодушным. Тех, кто этим утром был готов потратить три четверти часа, чтобы отдать ему последний долг (и без сомнения, чтобы испытать приятное душевное волнение, которое обычно вызывает хорошо проведенная церковная служба), набралось не меньше сотни.
Среди них, к моей радости, был и Бальзамировщик. Он прибыл чуть позже нас и скромно сел на скамейку слева, недалеко от исповедальни. Я попытался привлечь его внимание, но он меня не замечал. Он казался слегка подавленным. Эглантина сказала мне, что встретила его вчера вечером возле дома. Его шофер-турок помогал ему залезть в фургон, и вид у мсье Леонара был совершенно измученный. «Никогда бы не слышать больше о перевозках!» – заявил он. Он мог заниматься этим лишь в редкие часы, свободные от работы, в бесконечных разъездах туда-сюда, и поскольку его «рабочее помещение» находилось в тридцати километрах от Оксерра, на это уходило безумное количество времени.
Тем большего уважения он заслуживал, придя сюда этим утром. Правда, иногда он выказывал признаки нетерпения, непрестанно оборачиваясь – несомненно, чтобы не пропустить момент, когда внесут гроб.
Наконец гроб прибыл. Он был накрыт фиолетовым покрывалом и украшен огромным венком желтых и голубых цветов. Он двигался рывками, почти в ритме погребальных колоколов, которые зазвонили с его появлением, – один из носильщиков был ростом выше остальных и вдобавок слегка прихрамывал. За гробом следовал священник, коренастый, седоватый, в фиолетовой ризе.
Служба началась самым что ни на есть классическим образом. Но после чтения Евангелия, по знаку священника, Мари-Клэр Сен-Пьер, очень красивая в своей черной шали и ожерелье из круглых красных бусин, вышла вперед, чтобы зачитать краткий перечень заслуг библиотекаря – очень точный, очень «посюсторонний», содержащий в себе все, что касалось его великолепной эрудиции или остроумного скептицизма. Затем певица в сопровождении трех музыкантов исполнила, на мой взгляд – весьма достойно, отрывок из «Глории» Пуленка. В этот момент священник сделал жест в сторону кафедры. Посмотрев в этом направлении, я подумал, что мсье Леонар, который сидел сзади, ничего не увидит. Но тут же понял, что его это совершенно не заботит, поскольку к нему только что присоединился Квентин Пхам-Ван, преклонивший колени на молитвенной скамеечке рядом с ним.
Через минуту появился молодой человек (никто не заметил, откуда), стройный и темноволосый, одетый в черный костюм и темно-зеленую рубашку, и встал за кафедрой. Он положил на аналой несколько листков бумаги, слегка постучал по микрофону, чтобы убедиться в его исправности, и начал:
– Отрывки из «Проповеди о смерти», произнесенной Жаком-Бенинем Боссюэ в Лувре, перед королевским двором, в среду, 22 марта 1662 года, в постный день.
Голос у него был удивительно сильный и глубокий для такого хрупкого тела.
– Дозволено ли мне будет сегодня разверзнуть могилы в присутствии двора и не будут ли оскорблены столь нежные взоры зрелищем столь мрачным?
Но ничего оскорбительного здесь нет, тут же пояснял оратор, поскольку сам Христос заставил себя открыть гробницу Лазаря. Взглянем же, подобно ему, в лицо смерти! Она скажет нам многое о нас самих.
– О смертные, узрите же то, что смертно! О человеки, узнайте же, что есть человек!
При этих словах в соборе воцарилась абсолютная тишина. Большинство голов повернулось к тому, кто произносил их столь торжественно; некоторые же головы втянулись в плечи или опустились. Исключение составляли разве что Бальзамировщик и его друг, которые вовсе не слушали проповедь и непрестанно перешептывались.
Они не услышали, как оратор заговорил о двух видах смерти и о двух частях своей проповеди: о той смерти, что связана с телом и разрушает его, и о той, что связана с душой и воспитывает ее.
– О смерть, мы воздаем тебе хвалу за свет, что проливаешь ты на наше невежество; ты одна убеждаешь нас в нашем ничтожестве, ты одна заставляешь нас узнать о наших достоинствах: если человек слишком заносчив, ты смиряешь его гордыню; если он слишком сильно презирает себя, ты придаешь ему отваги; и чтобы свести все его помыслы к честному нраву, ты учишь его двум истинам, которые открывают ему глаза на самого себя: что он жалок, но это преходяще, и что он бесконечно велик и таким пребудет в вечности.
В этот момент сноп солнечных лучей пересек цветные витражи, отчего краски на них заиграли, а очертания фигур святых и мучеников предстали во всем блеске своих страданий или своей славы. Рядом с исповедальней Квентин обхватил за плечи мсье Леонара, и его губы теперь постоянно находились вплотную к уху его друга – кажется, не столько для того, чтобы поверять ему какие-то тайны, сколько просто ради нежных прикосновений. Но никого это не смущало – по той простой причине, что, кроме меня, никто этого не замечал.
Выдержав паузу, оратор перешел к описанию человеческого ничтожества. Сам по себе человек нисколько не обладает истинным величием, поскольку ограничен во всех своих возможностях, и все, чем он измеряется, не значит почти ничего:
– Что такое сто лет, что такое тысяча лет, если одно-единственное мгновение уничтожает их? Множьте ваши дни, словно олени, о которых басни или история естествознания говорят, что они живут долгие века…
Вопреки себе, несмотря на всю красоту этих оборотов, я не мог оторвать недоверчивого взгляда от Квентина Пхам-Вана, который теперь верхом уселся на Бальзамировщика, запустив руку ему в волосы.
– …Живите столько же, сколько те огромные дубы, под которыми отдыхали наши предки и которые еще будут давать тень нашим потомкам; нагромождайте на этом пространстве, которое кажется таким огромным, почести, богатства и удовольствия, – но к чему вам будет вся эта груда, когда последнее дыхание смерти, совсем слабое, почти неощутимое, разрушит ее в один миг, с той же легкостью, что и карточный домик?
Мсье Леонар, сейчас выглядевший довольно смущенным, попытался умерить пыл молодого человека, и от его движения тот соскользнул на пол к его ногам, опрокинув молитвенную скамеечку. Но никто этого не услышал – все слушали только Боссюэ, говорившего устами комедийного актера, чьи слова эхом отдавались под сводом между высоких колонн и вызывали отклик во всех сердцах – во всяком случае, в моем и, насколько я мог судить, также в сердце Эглантины.
Даже те, кто вписал наиболее прекрасные страницы в книгу жизни, говорил тем временем королевский проповедник, увидят, как эти страницы будут разом перечеркнуты:
– Можно убрать одним перечеркиванием всего несколько слов; но в последний момент огромный штрих перечеркивает одним движением всю вашу жизнь и исчезает сам, вместе со всем остальным, в великой бездне небытия. Нет больше в этом мире ничего из того, что мы есть: плоть меняет свою природу, тело называют по-другому; и даже название «труп» не остается надолго – он становится, как говорил Тертуллиан, [107]107
Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент (155 (65?) – 220 (40?)) – один из наиболее выдающихся ранних христианских писателей и богословов, оставил после себя около 40 трактатов, 31 из которых сохранился. В историю вошел как автор знаменитой фразы «credo quia absurdim est» – «Верую, ибо нелепо». – Примеч. ред.
[Закрыть] «чем-то, для чего нет названия ни в одном языке»…
Квентин по-прежнему оставался на полу, пытаясь привлечь внимание Бальзамировщика. Запрокинув к нему лицо, в выражении которого смешались мольба и жестокость, он обхватил его ноги, потом бедра, потом руки. Мсье Леонару, слегка покрасневшему, становилось все труднее сопротивляться.
Жизнь, продолжал Боссюэ, – это театральная пьеса, где мы – не более чем случайные статисты. Мы можем занять место другого, и другие, в свою очередь, могут заменить нас.
– О Боже мой! Еще раз я спрашиваю, что же ждет нас? Если я брошу взгляд перед собой, какое бесконечное неведомое пространство откроется мне! Если я обернусь назад – какое ужасающее расстояние, на котором меня больше нет! И сколь мало места я занимаю в этой огромной бездне времен!
При этих словах чтец остановился и несколько мгновений оставался неподвижным и сосредоточенным. Потом собрал листки, погасил свет, который освещал кафедру и пюпитр. Священник, который слушал склонив голову, медленно выпрямился, встал и снова занял место у алтаря, лицом к пастве. Что до мсье Леонара и его друга… они тоже исчезли. Однако чуть позже, во время причащения, я заметил, что исповедальня, хотя и сделана из прочного черного дерева, кажется, сотрясается изнутри. Эглантина наконец заметила, куда я смотрю, и спросила меня, что там происходит.
– Ничего особенного, – сказал я. – Исповедь, наверное.
– Во время службы?
– Может быть, дело не терпит отлагательства.
В сопровождении мальчика из хора (если можно так назвать мужчину лет сорока в цивильном костюме) священник начал размахивать кадильницей вокруг покойного, затем обрызгал его святой водой и пригласил верующих сделать то же самое.
Мы все поднялись, довольно взволнованные. Взяв кропило из рук Эглантины и осенив себя крестом, я пристально взглянул на гроб, спрашивая себя, где именно было в этот момент лицо Моравски, на каком расстоянии от фиолетового покрова, – так близко от меня и уже так далеко, почти еще живое и в то же время уже готовое молниеносно погрузиться в «огромную бездну небытия».
Когда я повернулся, чтобы передать кропило тому, кто стоял за мной, то несказанно удивился: это был Бальзамировщик. Волосы у него были слегка всклокочены, и, хотя выражение лица было печальным, глаза сияли. Его приятель тоже оказался поблизости – галстук у него съехал набок, и остальные детали одежды тоже были не в лучшем состоянии. Когда пришла его очередь окропить гроб, он особенно отличился: сначала изящно преклонил колени, потом долго окунал кропило в чашу со святой водой, после чего, крестообразно взмахнув им, окропил не только гроб, но и некоторых своих соседей и наконец, снова преклонив колени, положил обе руки на гробовой покров и долго оставался в этом положении.
В этот момент певица запела в последний раз, великолепно исполнив «Добрый Иисус» из «Реквиема» Форе – простым и чистым голосом без вибрато, который почти заставил забыть о том, что для исполнения этой партии требуется мальчишеский дискант.
После церемонии, обняв Натали Моравски и трех ее детей, мы с Эглантиной вышли на улицу и столкнулись с Квентином Пхам-Ваном. Не хотим ли мы поехать на кладбище в его машине – она совсем недалеко отсюда? Мы не отказались.
Мсье Леонар уже ждал нас в «мерседесе». Не знаю, что нашло на Эглантину, – мне показалось, что она слегка рассержена на него. Разговор, волею обстоятельств, зашел о красоте похоронных обрядов. Разумеется, Бальзамировщик говорил об этом не умолкая – до тех пор, пока Квентин, хотя и был «добрым католиком», притворился, будто не знает точно, что включает в себя соборование. Бальзамировщик объяснил, что оно включает в себя предсмертную исповедь, при необходимости дополненную причащением.
– Ничего подобного! – безапелляционно заявила Эглантина. – По той простой причине, что многие умирающие уже не способны говорить. На самом деле это помазание оливковым маслом, которое священник наносит большим пальцем…
– На лоб, – закончил мсье Леонар, слегка раздраженный.
– Не обязательно.
– А вы когда-нибудь это видели? – спросил Бальзамировщик скептическим тоном.
– Я не видела, но я читала Флобера – он, как вы знаете, великолепно описал помазание, которое свершалось над умирающей мадам Бовари.
И, к величайшему удивлению остальных (по крайней мере, к моему), она принялась цитировать по памяти:
«…умастил ей сперва глаза, еще недавно столь жадные до всяческого земного великолепия; затем – ноздри, с упоением вдыхавшие теплый ветер и ароматы любви; затем – уста, откуда исходила ложь, вопли оскорбленной гордости и сладострастные стоны; затем – руки, получавшие наслаждение от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, которые так быстро бежали, когда она жаждала утолить свои желания, и которые никогда уже больше не пройдут по земле». [108]108
Перевод Н. Любимова.
[Закрыть]
(Как она объяснила мне позже, преподаватель французского, которого она очень любила, заставлял их в девятом классе учить наизусть целые страницы из Флобера.)
– Как красиво! – воскликнул Квентин, повернувшись к ней с широкой улыбкой.
– Во всяком случае, – добавила Эглантина, – одна из этих сцен стоила Флоберу судебного процесса. Прокурор Пинар…
Бальзамировщик с трудом подавлял раздражение. К счастью, мы приехали. Когда я снова перебираю в памяти тогдашние события, то мне кажется несомненным, что он начал недолюбливать Эглантину именно с того момента. Возможно, только потому, что из-за нее он потерял лицо в присутствии Квентина.
На кладбище неприятности продолжались. Могила находилась в той его части, которую не защищали высокие кипарисы, окаймлявшие главную аллею, рядом с очень красивым надгробием с колоннами, имитировавшим надгробие Наполеона в Доме инвалидов. Вначале я подумал, что одновременно происходят еще одни похороны, поскольку у ворот стояли два автомобиля, загораживая проезд похоронному фургончику Моравски; пришлось отправляться на поиски кого-нибудь из водителей. И в самом деле, чуть дальше слева собралась группа людей, которую было не слишком хорошо видно с того места, где стояли мы. Священник, ранее отслуживший мессу в соборе, отец Менге, только успел заговорить торжественно-мрачным тоном о «нашем брате Жане» и его «последнем пристанище», как со стороны другой могилы раздался громкий мужской голос:
– Бонне! БОННЕ! Где этот мудак?
– …он, живший среди книг… – невозмутимо продолжал Божий служитель.
– А покойник где? Вы что, все заснули? – продолжал в свою очередь тот же голос.
– …вскоре окажется в бесконечной библиотеке Небес…
– Да у вас задница вместо головы, ей-богу!
– …которая на самом деле состоит всего лишь из одной Книги – книги бесконечной мудрости…
– Живее, черт вас подери!
– …книги о добре и зле, обо всем, что существует на Земле и на Небе…
– Живее, мотор!
– …и где записаны наши судьбы. Аминь.
Казалось, с речами покончено, – но нет. Я увидел Бальзамировщика, которого надгробная речь отца Менге явно вывела из себя, – он говорил что-то на ухо незнакомцу, который только что приблизился к могиле и в свою очередь взял слово под изнурительным полуденным солнцем. По-прежнему перебиваемый криками, доносившимися со стороны съемочной группы, он также воздал честь неизменной преданности библиотекаря благородным деяниям, в особенности «битве разума и вселенского братства против фанатизма», и, хотя он не стал уточнять, о чем шла речь, в этих словах достаточно проявлялась идея Великого Блеска Франции. Наконец оратор скрестил на груди руки, поклонился могиле и замолчал.
На небольшом столике лежали десятки роз. Каждому из присутствующих нужно было взять по одной и бросить ее на гроб в знак прощания. Когда я бросил свою, думая о том, что без этого замечательного Моравски жизнь в Оксерре явно была бы гораздо менее интересной, я почувствовал, как Эглантина тянет меня за рукав. Она торопилась и хотела уехать тотчас же. Я заметил, что Бальзамировщик провожает нас глазами, и сделал легкий жест, изображающий замешательство.
По дороге к выходу я рассмотрел сборище, со стороны которого доносились крики и проклятия. Это действительно оказалась съемочная группа с огромной камерой, рельсами, микрофоном, прожекторами (несмотря на солнце), отражателями и гримершей, пудрившей полуголую молодую женщину. Оператор оказался низеньким человечком со светлыми волосами, торчащими из-под бейсболки, а режиссер (от которого было больше всего шума) – представительным человеком в красной рубашке навыпуск, с зачесанными назад седеющими волосами, на которых, как в гангстерских фильмах, сидела черная шапочка.
– Мотор, мать вашу! МОТОР! – взревел он, но его, кажется, никто не услышал.
Я еще успел заметить наполовину высунувшегося из могилы актера, изображавшего покойника, в черном рединготе и с мучнисто-белым напудренным лицом.
Когда мы вернулись на улицу Тома Жирардена, я еще издалека догадался о причине небольшого скопления людей перед нашим домом. В «Йоннском республиканце», который я прочел почти весь, поскольку автобуса пришлось ждать больше двадцати минут, а Эглантина не раскрывала рта, оказалась статья с новыми сведениями об исчезнувших близнецах. Наконец-то разыскали их отца, который, как быстро выяснилось, оказался ни при чем, но был страшно разгневан, что не удалось предупредить похищение, успех которого он незамедлительно объяснил безалаберностью своей супруги. Письмо, которое раньше пришло в полицию, оказалось фальшивкой – ряд графологических тестов без труда это установили. Расследование опять зашло в тупик.
На самом деле, как выяснилось, Эглантине вовсе не надо было спешить – сегодня она не работала. Она настояла, чтобы мы вернулись домой своим ходом только из-за того, что не могла больше выносить присутствия тех, кого назвала инфернальной парочкой. Она наконец призналась в этом между грушами и сыром, которыми мы перекусили – довольно скромно, если не сказать символически: было так жарко! Она не понимала той «прискорбной снисходительности», которую я проявлял по отношению к ним.
– Думаешь, я не видела, чем они занимались во время мессы! Вот скоты!
Я пожал плечами. Что я мог сделать? Ситуацию не спасло и мое предложение, сделанное, чтобы разрядить атмосферу, – совершить велосипедную прогулку вдоль берега Йонны. Эглантина ответила, что это невозможно, так как она должна идти с матерью за покупками. На этот раз уже я почувствовал раздражение. Должно быть, я наговорил лишнего. Если быть точным, я произнес слово «лахудра», обозначив им свою тещу (если можно так сказать, поскольку мы с Эглантиной не были женаты), а также пару названий из животного мира. Последовал довольно эмоциональный спор на классическую тему «родителей жениха и невесты», в ходе которого мне пришлось напомнить, что я таскался с визитами к ее родителям «в сто раз чаще, чем к своим собственным!».
– Неудивительно, если учесть, что твои живут на Мадагаскаре! – язвительно сказала Эглантина и ушла, как ни странно, даже не хлопнув дверью.
По этой причине я подумал, что она не слишком рассердилась. Но я ошибся: вечером она не пришла. Я остался дома и взялся за работу: нужно было привести в порядок сведения о могильщике с кладбища Сен-Аматр. Хотя работал я, надо признать, довольно вяло – точно так же, как ел, дремал, смотрел телевизор и в конце концов заснул, так и не дождавшись возвращения Эглантины. Именно тогда случилось кое-что странное. Резко разбуженный довольно сильным шумом, который, как мне показалось, доносился со двора – но, может быть, это был просто один из тех звуков, которые порождаются сном или же усиливаются им, – я подошел к окну. Ночь была безлунной, и мне понадобилось довольно много времени, чтобы глаза привыкли к темноте. И вдруг… Я не различал очертаний и красок, но явственно уловил какое-то движение, а потом почувствовал резкий выброс адреналина в крови: кто-то почти бесшумно пытался проникнуть в мою квартиру через окно кабинета! Я услышал легкий стук, за которым снова последовала тишина. Тут же я ощутил, как волосы у меня на голове поднимаются дыбом, тело отказывается повиноваться, а сердце колотится, как язык набатного колокола. Я почти окаменел. Затем, после бесконечно долгих минут, я на ощупь нашел и сжал горлышко бутылки (к счастью, стеклянной, а не пластиковой), стоявшей на ночном столике и наполовину полной воды.
Тишина (разве что не в моей грудной клетке). Дверь спальни, которая выходила в коридор рядом с дверью кабинета, была закрыта, но не на ключ (никакого ключа вообще не было), и я не мог помешать непрошеному гостю войти. В ушах у меня шумело. Я осторожно сел на кровать и принялся ждать. По-прежнему никакого шума – только отдаленный собачий лай со стороны Сен-Жермен. Прошла целая вечность, прежде чем я поднялся, тихо открыл дверь, пересек коридор, вошел в кабинет и, все еще сжимая бутылку в руке, включил свет. Мебель, бумаги, книги, прочие предметы, открытое окно, казалось, навсегда запечатлеются в моей памяти. Но никого здесь не было, и никаких странностей в обстановке я не замечал. Ничего, абсолютно ничего. Правда, перейдя в кухню, я обнаружил, что дверца холодильника приоткрыта – но, может быть, я сам неплотно ее закрыл. А что внутри? Йогурты, масло, молочные пакеты, куриные и утиные яйца (последние – прихоть Эглантины) – все как обычно. Кажется, я схожу с ума: кому пришло бы в голову лезть среди ночи в чужое окно только затем, чтобы стащить из холодильника яйцо или редиску?
Я снова лег, оставив свет включенным, сам не зная зачем. Я попытался читать газету, перечитал шесть раз одну и ту же фразу, но так и не понял ее смысла. Наконец меня сморил тяжелый сон, и я погрузился в него, полностью измученный.
Проснулся я поздно. Едва поднявшись, я тут же подошел к окну кабинета и выглянул наружу, чтобы попытаться понять, что произошло ночью. Мой взгляд остановился на наружной стене, которая соединяла центральное крыло дома с моим. До этого я о ней даже не вспомнил – она была в четыре метра высотой и такая узкая, что даже кошка едва бы прошла по ней (и однако, без всякого сомнения, именно этим путем Клемансо некогда проник в жилище мсье Леонара), но сейчас я подумал, что человек достаточно легкий и не боящийся высоты мог бы преодолеть это расстояние, уцепившись за край стены и передвигаясь с помощью рук. И тут мне пришла мысль о том, что вчерашний визит мог быть не первым: я вспомнил, как однажды, когда мы с Эглантиной занимались любовью, у меня возникло подозрение, что за нами кто-то наблюдает. И пока я смотрел на закрытое сейчас окно ванной комнаты мсье Леонара, в моей душе возникло ужасное подозрение, что именно оттуда кто-то неизвестный добирался до моих окон, чтобы развлекаться за наш счет.
Эглантина дала о себе знать лишь на следующий день. Ее сообщение на автоответчике говорило о том, что нам в очередной раз нужно «на время расстаться», а также о новой порции хлопот, которые Прюн доставила семейству: одна из ее подружек по стажировке, до которой дозвонились родители, «думала, что Прюн все еще в Ливерпуле», но вот уже неделю, как ноги ее не было в колледже. Чета Дюперрон уже собиралась отправиться в Англию и лично заняться поисками беглянки. Это навело меня на мысль позвонить Филиберу. Он ничего не знал и знать не хотел. К тому же он был полностью захвачен главным событием последних дней, которое требовало от него «кровавого» репортажа: в Оксерре начались съемки фильма «Нем, как могила» режиссера Жан-Пьера Моки. [109]109
Моки, Жан-Пьер (1929) – французский режиссер, актер и сценарист, анархист (фильмы «Большая случка» и др.). – Примеч. ред.
[Закрыть]








