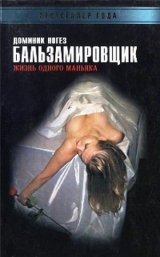
Текст книги "Бальзамировщик: Жизнь одного маньяка"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Все жестче в горле ссохшемся, все горче,
Не удержать сознания в горсти
Трясущейся. «Уйти? Чего бы проще?»
Я стоял совсем близко к ней и, поскольку она не отрывала глаз от страницы, мог наблюдать за ней в свое удовольствие. Она оказалась гораздо моложе, чем на первый взгляд издалека, и к тому же, ей-богу, была весьма хороша собой! Угольно-черные волосы были уложены в замысловатую высокую прическу, но несколько прядей ниспадали с боков, оставляя открытой шею, стройность и белизна которой вызывали желание прильнуть к ней устами. Должно быть, о том же думал и Филибер: его губы, находившиеся меньше чем в метре от объекта вожделения, слегка приоткрылись, а глаза были неотрывно устремлены на красивый склоненный затылок поэтессы.
Хрипят мне тени, в дикой пляске корчась.
Иуда над брусчаткою летит.
По зелени небес – чернильный росчерк.
При других обстоятельствах эти чередования конкретного и абстрактного – настоящие подводные камни для начинающих поэтов – вызвали бы у такого зубоскала, как Филибер, приступ безумного хохота. Но сейчас он оставался неподвижным и серьезным, как жрец, к тому же влюбленный в свое божество.
Множество раз запнувшись на труднопроизносимых словах, поэтесса наконец замолчала и подняла глаза, оказавшиеся светло-зелеными. Слушатели зааплодировали. Человек в черном костюме – как я только что узнал, он был священником, – пригласил «дорогих собравшихся» (которых сейчас насчитывалось примерно полтора десятка) выпить по стаканчику. Я воспользовался моментом, чтобы подойти к Филиберу.
– Ну, что скажешь? – прошептал он, взглядом указывая на поэтессу, которая в этот момент подписывала экземпляр своей книги маленькому говорливому старичку (оказавшемуся не кем иным, как ее дедом).
Я решил, что он имеет в виду стихи, и начал было разбирать их со всей серьезностью, но Филибер закатил глаза к небу:
– Да нет, о ней!
Слегка улыбнувшись, я поздравил его со всеми его любовными победами вообще и с этой – в частности. Но он намекнул мне, что я немного тороплю события: разумеется, это не замедлит произойти, но на данный момент у них еще «ничего не было». Я воздал должное терпению Филибера, памятуя о его многочисленных романах. С притворно-скромным видом он шепнул мне на ухо, что не нужно преувеличивать: в его жизни едва можно насчитать девятьсот девяносто девять женщин!
– С ума сойти! Ты ведешь список?
– Именно.
Молодая женщина наконец сплавила своего дедулю и осталась в одиночестве. Филибер тут же отошел от меня, чтобы налить ей вина.
В этот момент в зал вошли еще двое: мой приятель Мартен и верзила, которого я видел только что, но сейчас он был настолько же сдержан и благопристоен, как всего час назад – взбешен.
– Как насчет того исследования, о котором ты мне говорил? – спросил я у Мартена.
– Я все выбросил. Речь шла о Рембо, я заставил его дожить до сороковых годов двадцатого века, вступить во Французскую академию и так далее. Но я выяснил, что это уже было сделано. Нет, теперь у меня другая идея, в другом жанре, я тебе потом расскажу.
Заметив, что его спутник держится в стороне, он представил нас друг другу:
– Александр Мейнар, Кристоф Ренье.
– Очень приятно, – ответил недавний обличитель почти шепотом.
Он немного сутулился, чтобы казаться меньше ростом, и изредка бросал на окружающих пристальные взгляды, при этом слушая нас с неослабным вниманием. То ли для того, чтобы поддержать разговор, то ли из искреннего любопытства он спросил о стихах мадемуазель де Куртемин, и Мартен, который, как выяснилось, их читал, начал отвечать на вопрос со всей педантичностью.
– Слишком абстрактны для Жака Реда, [53]53
Жак Реда (1929) – французский поэт, автор сборников «Тяготы ремесла», «Аминь», «Кружение». – Примеч. ред.
[Закрыть] слишком конкретны для дю Буше. [54]54
Дю Буше, Андре (1924–2001) – один из наиболее заметных поэтов послевоенной Франции, лауреат двух главных французских поэтических премий. – Примеч. ред.
[Закрыть]
Мейнар не понял, как именно звучит имя второго автора, и Мартен уточнил: «Андре Дю Буше». И тут же Мейнар ни с того ни с сего разразился саркастической тирадой против нагромождений метафор у поэтов-любителей. Я слушал его и одновременно развлекался, краем глаза наблюдая за Филибером, который о чем-то ворковал с героиней дня. Заметив, что его речи вызывают у красавицы улыбки и иногда даже смех, он окончательно взял ситуацию в свои руки.
К нам подошла какая-то женщина с подносом и любезно предложила вина. Мейнар прервался, чтобы взять пластиковый стаканчик.
– Я бы вас познакомил с сегодняшней поэтессой, но я ее не вижу, – сказал Мартен.
– Как? – удивился я. – Вот же…
Я хотел сказать: «Вот же она», – но, повернувшись, обнаружил, что она куда-то исчезла. Мейнар тут же возобновил свою обличительную речь, повторив для новой слушательницы часть высказанного ранее. Мое внимание переключилось на остальных гостей: я задержался на нескольких хорошеньких мордашках, потом на священнике-издателе, который с помощью пространно-елейных речей пытался всучить «Стирание/Вычеркивание» какой-то даме с дочерью. Тут я заметил, как открылась дверь туалета и оттуда вышла Жеанна де Куртемин – одна, чуть порозовевшая и растрепанная. Затем, пока Мейнар со своим жоресовским красноречием говорил о возвращении рифмы в современную поэзию, рядом со мной неожиданно возник Филибер и с заговорщическим видом склонился к моему уху.
– Теперь тысяча! – победно прошептал он.
Двумя часами позже, когда я уже был дома и рассказывал Эглантине о перипетиях сегодняшнего вечера, зазвонил телефон. Это был Бальзамировщик:
– Вы все еще не передумали?
У его помощника возникли какие-то затруднения. От меня не требовалось ничего особенного – только надеть халат, не паниковать и без нужды не лезть под руку. Я должен быть у него завтра ровно в восемь.
ГЛАВА 5
События развивались очень быстро. Едва лишь я позвонил в дверь, мсье Леонар открыл мне и, не говоря ни слова, оглядел меня с ног до головы. Я надел все, что было у меня самого темного: антрацитово-черный пиджак, серые брюки и черные мокасины, приобретенные по случаю свадьбы сестры. Казалось, он был удовлетворен. На нем самом был красивый, полностью черный костюм.
– Вы завтракали?
Моему «да» недоставало уверенности. Мсье Леонар спросил, что именно я ел.
– Я выпил чашку чаю с лимоном.
– И больше ничего?
– Хм… да, больше ничего.
– Так не годится. Я не хочу, чтобы вы, не успев начать работу, упали в обморок.
Это «не успев начать работу» меня слегка встревожило. Мсье Леонар провел меня в кухню, где уже дымился кофейник, и вынул из шкафчика большую коврижку.
– Приступайте!
– Я должен съесть все?
– Во всяком случае, как можно больше. Нужно наполнить желудок.
Я все еще расправлялся с коврижкой, когда запиликал домофон. Это был шофер похоронного бюро, который сообщил, что его фургончик припаркован на площади Сен-Жермен. Пришлось быстро спускаться вниз, волоча два тяжелых чемодана. Нам предстояло заняться тремя телами поочередно, и я должен был помогать во всех трех случаях! Мы быстро добрались до Аппуаньи. Бальзамировщик, крайне сосредоточенный, за всю дорогу не произнес ни слова.
Мы без труда нашли нужный дом. У входа собралась небольшая толпа. В глаза сразу бросался гроб, стоявший у стены сбоку от двери.
– Спасибо коллегам, – проворчал наш шофер, усатый толстяк.
Расспросив зевак, мы выяснили, что фургон РСО (Ритуальной службы Оксерра) приезжал буквально две минуты назад, чтобы выгрузить товар, но служащий, посланный в дом на разведку, быстро вышел обратно и дал сигнал уезжать.
Мсье Леонар попытался найти в толпе членов семьи покойного, но без особого успеха. Мы лишь узнали из более или менее связных объяснений тех или иных собравшихся – булочницы, мясника и его жены, – что покойный, тело которого обнаружила соседка и который умер, скорее всего, от инфаркта, был вышедшим на пенсию трубачом, которого очень любили в этом квартале (за исключением тех дней, когда он напивался по случаю выдачи пенсии). Тут я заметил у двери, возле белых кроссовок девочки-подростка с конским хвостом и острых высоких каблучков ее матери, что-то подвижное и блестящее. Дождя не было уже несколько дней, и если бы здесь собралась лужа, солнце давно успело бы ее высушить. Впрочем, это была не вода, а какая-то другая жидкость – густая, вязкая, коричневатая, и она… Боже мой! Она вытекала из-под двери дома, ползла по ступенькам и собиралась в лужу внизу. Обладательница конского хвоста вскрикнула. В то же время от земли стала подниматься отвратительная вонь, окутывая небольшую толпу собравшихся и вызывая у наиболее чувствительных вначале тошноту, затем панику. Девчонка метнулась в сторону, задирая ноги так высоко, как только могла; ее мать рванулась было за ней, но, с разбегу натолкнувшись на мощный торс мясника в забрызганном кровью фартуке, потеряла равновесие и плюхнулась в лужу, завизжав при этом еще пронзительнее, чем прежде ее дочь. Поискав глазами Бальзамировщика, я наконец заметил его – нижняя часть лица у него была закрыта марлевой повязкой, в руках он держал два чемодана и направлялся к двери. Перехватив мой взгляд, он повелительным жестом велел мне следовать за ним. Так я и сделал, закрыв нос и рот собственным носовым платком, – жест почти бесполезный, ибо вонь была воистину сногсшибательной (несмотря на преувеличенный смысл этой метафоры, в данном случае даже она была неспособна передать силу этой обонятельной атаки, и резкой, и сильной. Могу сказать только одно: запах экскрементов по сравнению с этим показался бы мягким и ненавязчивым).
Я ощутил приступ тошноты. Мне казалось, я в точности ощущаю каждое движение кусочков съеденной коврижки у себя в желудке. Тем не менее я последовал за мсье Леонаром. Когда я перешагнул через порог, он был уже на верхних ступеньках лестницы, покрытой коричневатой массой, стекавшей на тротуар. Я даже не мог найти, куда ступить: свет в подъезде не горел. Собрав все свое мужество и изо всех сил прижимая платок к носу, я на цыпочках, как танцор, взбежал по лестнице. Внезапно послышался влажный хлюпающий звук: моя правая нога соскользнула со ступеньки, и я едва не упал. Носок и отворот брючины оказались измазанными в грязи. Однако я довольно быстро добрался до второго этажа. Бальзамировщик стоял в дверном проеме, и из-за его спины я не мог ничего разглядеть – только обонять. Носовой платок уже не помогал – вонь была ужасающей. Вслед за Бальзамировщиком я вошел в квартиру… и тут же выскочил обратно на лестничную площадку. Сквозь неплотно закрытые ставни в комнату проникало достаточно света, чтобы понять происхождение запаха: полуголый верзила лежал поперек кровати, кретоновое покрывало которой было насквозь пропитано отвратительной жидкостью, сочившейся из тела на пол. Смерть, должно быть, наступила несколько дней назад, и жара сделала свое дело. Наиболее ужасно выглядели провалившийся нос и остекленевший правый глаз (левый был закрыт), но особенно левая рука, которая свешивалась с кровати и вся сочилась трупной жидкостью – от короткого рукава футболки до почерневших кончиков пальцев, с которых равномерно падали на паркет капли, образуя лужу, сливавшуюся затем с основным потоком, вытекавшим на лестницу.
– Скорее найдите шофера и помогите ему принести гроб! – скомандовал Бальзамировщик сквозь маску.
Я повиновался. Втаскивать по лестнице гроб было все равно что восходить на Голгофу. Лестница была очень узкой, гроб то и дело задевал стены, отчего на нем появлялись царапины, вмятины и следы штукатурки. Что до меня, то, поскольку руки были заняты, я не мог больше прижимать к носу платок, и теперь ничто не защищало меня от смрада. Поскольку тяжесть груза мешала мне передвигаться на цыпочках, я чувствовал сквозь тонкие подошвы, как жидкость, разливающаяся под ногами, пропитывает их насквозь до самой кожи. Я снова ощутил приступ тошноты – на сей раз комок полупереваренной пищи чуть не подступил к самому горлу с характерным звуком. Мой напарник, вообразивший, что меня сейчас вырвет, отшатнулся и чуть не выронил гроб. Но мне удалось сдержаться, и в конце концов мы достигли лестничной площадки.
Бальзамировщик сделал нам знак опустить гроб рядом с кроватью.
– Это не понадобится, – сказал он шоферу, кивая на чемоданы.
Затем, открыв гроб, он протянул мне халат и пару зеленых резиновых перчаток.
– Будете нам помогать. Встаньте вот здесь.
Я встал в изножье кровати. Нужно было переложить тело в гроб. По знаку Бальзамировщика в тот момент, когда они с шофером подхватили труп за плечи, я взялся за его лодыжки. Они были скользкими от выступившей жидкости, и я едва не выпустил их. В тот же момент я увидел открытый глаз, который, казалось, изучающе смотрел на меня. Новый приступ тошноты, более сильный и резкий, чем предыдущие, скрутил мне внутренности, и струя желчи выплеснулась у меня изо рта на левую ногу трупа.
– Вдохните поглубже! – скомандовал мсье Леонар, очевидно забыв про ядовитые испарения. – Не смотрите на него. Смотрите только на ноги.
Труп весил, казалось, целую тонну. Нам удалось сдвинуть его с третьей попытки, и то всего лишь на несколько сантиметров. С четвертой мы повернули его на бок и сдвинули к краю кровати, так чтобы он оказался прямо над гробом. Пятой не понадобилось: он вдруг опрокинулся, словно сам по себе, и с глухим шумом обрушился в открытый гроб, лицом вниз. Гроб оказался маловат для этого толстяка: он туда не поместился.
Это огромное разбухшее тело с беловатой, наполовину сгнившей кожей, самым непристойным образом выпиравшее из гроба – ягодицы и повисшие руки оказались снаружи, – было последней картиной, которую я запомнил из всей этой сцены. Или, точнее, предпоследней – перед тем как полностью лишиться сознания, я еще заметил над собой синевато-белое лицо шофера, извергавшего прямо на меня мощные струи блевотины.
– Превосходно. Превосходно.
Именно это слово я услышал, когда пришел в себя. Нежное, мягко рокочущее, как пчела, произнесенное голосом, который я, кажется, знал, но на сей раз он, как никогда, ласкал мой слух. Он доносился откуда-то спереди. Я лежал на заднем сиденье роскошного автомобиля, на кожаных подушках, вытянувшись в полный рост. Чуть подавшись вперед, я увидел два затылка. Потом разглядел в зеркальце заднего вида лицо водителя – элегантного молодого человека азиатского типа, с правильными чертами лица, живыми черными глазами, ослепительной улыбкой, открывающей белоснежные зубы, и пухлыми губами.
– Это совершенно естественно, мой маленький Марко, – произнесли эти губы.
Через какое-то время первый голос снова заговорил:
– А знаешь, что может оказаться еще лучше?
– Всему свое время, – отвечал молодой человек, слегка жеманясь.
Я приподнялся на локте. Водитель тут же заметил меня в зеркальце заднего вида и сказал уже более нейтральным тоном:
– Кажется, наш друг пришел в себя.
Пассажир, сидевший справа, обернулся, и я узнал мсье Леонара. Я попробовал сесть.
– Не двигайтесь, – сказал он, – отдохните еще немного. Вы будете дома через пять минут.
Затем он объяснил мне, что я потерял сознание и «этот мсье, мой друг» (он указал на молодого человека за рулем) оказался настолько любезен, что в мгновение ока примчался в Аппуаньи на своем «мерседесе» одновременно с машиной «скорой помощи».
Ко мне начали понемногу возвращаться воспоминания о том, что произошло, – словно повторяющийся кошмар.
– А что с телом? – слабо спросил я.
Бальзамировщик объяснил, что его оставили «как есть» – сделать они уже ничего не могли, особенно шофер, которого «скорая помощь» увезла восвояси. «Решать проблему» прибыли другие представители похоронного бюро, с более просторным гробом, который пришлось втаскивать через окно с помощью лебедки.
Бальзамировщик и его друг довели меня до самой двери моей квартиры, поддерживая под руки с обеих сторон. К счастью, Эглантина была здесь – она поблагодарила их и взяла заботу обо мне на себя. Она помогла мне дойти до кровати и уложила.
– У меня ноги как ватные, но в остальном я себя чувствую очень хорошо, даже в какой-то легкой эйфории… Забавно, правда?
– Это называется «синдром Руссо», – объяснила она.
Жан-Жак писал об этом в «Прогулках одинокого мечтателя». Однажды в окрестностях Менильмонтана его сбила с ног огромная собака, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то не помнил ни кто он, ни где он. Ему казалось, что он заново родился, и он говорил о «сладостном миге», о «блаженном спокойствии».
– Нет, до этого не дошло, – сказал я, потирая ноющую левую руку (должно быть, я ударился, когда упал). – И потом, я не уверен, что рождение на свет – это «сладостный миг»: стоит только вспомнить недовольные, сморщенные мордашки и жуткий рев новорожденных. Я, например, вместо блаженного спокойствия ощущаю жуткий голод.
У Эглантины не нашлось ничего, кроме ветчины с помидорами, поскольку «если ты забыл – мы обедаем сегодня у Менвьей» (подтекст: у них всегда кулинарное изобилие). Однако она принялась за приготовление tortellini alla parma – она являла собой воплощенную заботу и предупредительность, вплоть до того, что готова была принести обед мне в постель, – с такой полной самоотдачей мы относимся к тем, кто в данный момент полностью от нас зависит.
Но я не был полностью зависим – мне удалось подняться на ноги. Голова слегка кружилась, но, если не считать ноющей руки, я чувствовал себя вполне бодрым. Прикончив половину моей порции тортеллини, в самом разгаре спора о том, как правильнее их называть по-французски (я говорил: «тортелен», она – «тортийон»: «Да нет, „тортийон“ по-итальянски – „тортильони“! – Тогда лучше их называть „фаршированные уши“ – они выглядят похоже!»), я вдруг ни с того ни с сего захотел Эглантину, как никогда прежде.
Должно быть, в моих глазах и в голосе, слегка дрожащем, было что-то до такой степени убедительное, что она не сопротивлялась, и нас притянуло друг к другу словно магнитом. Мне не мешал даже золотой скарабей, которого она в спешке не успела снять. Я не мог вспомнить, когда в последний раз испытывал такое возбуждение. Должно быть, столкновение со смертью вызвало бурное желание прожигать жизнь всеми возможными способами.
После обеда Эглантина снова поехала на работу – надо сказать, с весьма приличным опозданием и полностью растрепанной прической. Бурлившая во мне энергия не давала усидеть на месте, и я вышел на улицу. Вначале я решил пойти в кино. Но потом понял, что это совершенно неподходящая идея для такой роскошной погоды – птицы очерчивали плавные круги над собором Сент-Этьенн, откуда доносились звуки органа, на соборных ступеньках девочка с розой в волосах играла с огромной собакой, и в самом воздухе пахло свадьбой. Сама мысль о кинотеатре теперь внушала мне отвращение: я вдруг увидел с той ясностью, которая достигается лишь полной отстраненностью, что совершенно невозможно сейчас зайти в огромный темный зал, похожий на гробницу, наполненную цветными видениями – лошади, солнце, секс, праздники, цветочные гирлянды, – тогда как снаружи все то же самое существует на самом деле, под настоящим солнцем, сияющим над головой и ласкающим кожу.
У меня получился самый настоящий праздник – разрыв в привычной, обыденной жизни, и я проходил по сотне раз исхоженным улицам, названий которых я не знал и которые представляли собой лишь чередования разноцветных пятен, – без всякой спешки, разглядывая фасады домов, окна, дерево, росшее на выступе стены, вывески, лица, какие-то другие детали, и надо всем этим – солнечные блики. Я ни о чем не думал – только смотрел, счастливый, выпавший из времени и потока событий.
Потом я оказался на набережной де-ла-Марин, и шум проезжающих автомобилей вернул меня к действительности – к спешке, к ощущению времени, и я заметил, что уже вечер. Мне нужно было вернуться домой, переодеться и отправиться к Менвьей. Од Менвьей была коллегой или начальницей (я так и не выяснил) Эглантины в мэрии, но, так или иначе, они были хорошими знакомыми. Од, судя по всему, особенно не нуждалась в работе, будучи замужем за директором банка. Но это была живая и энергичная женщина, к которой я испытывал симпатию за ее неизменную любовь к бельгийскому сюрреализму и книгам в кожаных переплетах.
У Эглантины не было времени купить цветы, а сейчас, должно быть, все магазины уже закрылись. Тогда я решил зайти в какой-нибудь погребок, чтобы купить бутылку хорошего вина. Марочного шабли найти не удалось, и я остановил свой выбор на сан-стефанском Les Pagodes de Cos 1985 года, которое мне рекомендовал продавец и которое я уже покупал в прошлом году, – этот сорт нечасто встречался в Бургундии.
Перед уходом я позвонил мсье Леонару – я увидел в его окнах свет и решил извиниться за то, что оказался таким никудышным помощником (я также надеялся, что он спишет сегодняшний плачевный эпизод на слишком сильный шок и позволит мне еще раз присутствовать при его работе, чтобы дать мне шанс реабилитироваться). Но никто не подошел к телефону. Садясь в машину Эглантины на улице Мишле, я увидел «мерседес» его приятеля, припаркованный у Галереи современной живописи, где выставлялись и продавались картины художников-анималистов.
Когда мы приехали к Од, меня ждал сюрприз. Высокий, сухощавый человек, открывший нам дверь, был не кто иной, как недавний оратор-обличитель Александр Мейнар. Позже я узнал, что он близкий друг семьи Менвьей. Они все трое были знакомы еще с университетских времен. Когда он перебрался в Оксерр, то жил у них. В Париже он работал – или подрабатывал – на телевидении, где вел какую-то литературную передачу на кабельном канале. Он, не говоря ни слова, взял у меня из рук бутылку вина и исчез.
Потом мы оказались в гостиной с какими-то людьми, которых ни я, ни Эглантина не знали. Все, по современному обычаю, обменялись рукопожатиями и назвали свои имена – это означало, что никто не знаком друг с другом, – и общий разговор довольно долго не выходил за метеорологические рамки. Я с восхищением рассматривал огромный синий ковер, камин из светлого мрамора, декоративные растения, картины. Слева от меня, над диваном, где устроилась Эглантина, висел портрет юной девушки с разноцветными волосами. Чуть дальше, сбоку от кресла в колониальном стиле, сплетенного из ивовых прутьев, стояла большая, ярко раскрашенная скульптура. Оставив своих новых знакомых обмениваться вымученно-вежливыми репликами, я отправился бродить по гостиной, как по музею. Я решил рассмотреть скульптуру поближе, а по пути к ней заметил, что волосы девушки на портрете (где стояла подпись Оливера О. Оливера) – это на самом деле разноцветные нитки: оранжевые, зеленые, желтые, розовые, фиолетовые, – с болтающимися на концах катушками. Что до скульптуры из раскрашенного дерева, она изображала одетого в белое человека, который бежал, держа перед собой прозрачную коробку. Внутри были видны маленькие скелеты: кошка, готовящаяся прыгнуть на голубя (хорошая аллегория тщеты насилия, ибо хищник, как и его жертва, представлял собой всего лишь груду костей!). Вместо лица у бегущего (который был аккурат с меня ростом) была африканская деревянная маска из темного дерева – ее удерживали на ушах медные дужки. Нос у него был какой-то странный. Когда я приблизился вплотную, чтобы лучше рассмотреть, позади меня кто-то сказал:
– Нос – настоящий ослиный.
Это была хозяйка дома, присоединившаяся к гостям. Мы расцеловались.
– Франк очень сожалеет, – сказала она собравшимся, – но у него важное совещание со своим новым уполномоченным. Они присоединятся к нам позже.
Потом, уже тише, только для меня, она продолжала:
– Эта скульптура называется: «Доставить до захода солнца». Я ею восхищаюсь. Это работаЖана-Луи Фора – вы его знаете: это внук…
В дверь позвонили. Она пошла открывать и вскоре ввела в гостиную пару лет сорока: она – в шелковых брюках, с брошью от Гермеса, он – в бежевом льняном костюме, этакий непринужденно-изысканный стиль. Это оказался президент – генеральный директор фирмы из Тоннера, специализирующейся на производстве деталей для видеомагнитофонов. Я сразу же отметил, что говорит он слишком много и слишком громко, но, поскольку Од Менвьей вышла, а Мейнар, напротив, появившийся, не проронил ни слова, это было даже кстати. Он говорил о stock options [55]55
Stock options – опционы на акции, т. е. право продать или купить определенное количество акций компании в течение определенного времени и по определенной цене. – Примеч. ред.
[Закрыть] и о снижении налогов с каким-то высоким застенчивым типом в кудряшках, который через каждые десять секунд отвечал: «О'кей», между тем как его жена расспрашивала Эглантину о состоявшемся в прошлом месяце литературном вечере под открытым небом – на его проведение мэрия выделила скромную субсидию в размере одного процента всех затрат.
Большая часть приглашенных прибыла одновременно. В общей сложности нас оказалось десятка полтора. Я был весьма удивлен, обнаружив среди них Жана Моравски, библиотекаря, но успел лишь кивнуть ему: Мейнар немедленно завладел им, в то время как хозяйка дома представляла директору-президенту жизнерадостную рыжеволосую женщину с глубоким декольте:
– Лиз, это Жак. Жак, это Лиз, моя подруга из Канады.
Тот поднялся с места и энергично встряхнул протянутую руку:
– Hello! Nice to meet you! Where do you come from? [56]56
Здравствуйте! Приятно познакомиться! Откуда вы? (англ.)
[Закрыть]
– Э-э… из Монреаля.
Директор-президент несколько раз энергично повторил это название, произнося его на английский лад, и добавил:
– It's a nice city! [57]57
Симпатичный город! (англ.)
[Закрыть]
Рыжеволосая женщина, казалось, была в замешательстве.
– Вообще-то я… you know, I'm French-speaking. [58]58
Вы знаете, я говорю по-французски (англ.).
[Закрыть]
– Excellent! – воскликнул он, опять же произнося это слово по-английски, и поднялся, чтобы плеснуть себе в бокал скотча. – So, you are French-speaking! It's such a nice language! [59]59
Отлично!.. Итак, вы говорите по-французски! Это такой приятный язык! (англ.)
[Закрыть]
– Sure… [60]60
Конечно… (англ.)
[Закрыть] Но, может быть, мы могли бы перейти…
– Ах да, конечно, извините!
Воспользовавшись небольшим движением, я приблизился к Мейнару и Моравски. Они говорили о большой партии черновиков, писем, фотографий, газетных вырезок и различных счетов, которую Маршаль, наша местная знаменитость, передал в дар муниципальной библиотеке.
– Какое самомнение! – хихикнул Мейнар. – Это при жизни-то!
– Двенадцать коробок, – уточнил Моравски.
– Кому это интересно?
– Историкам, может быть?
– Ну, разумеется! Исследователям социального тщеславия, областных сельскохозяйственных выставок, муниципальных коктейль-пати, академических наград всех сортов… Но о чем говорит весь этот бумажный хлам? Не доверяйте архивам! Что касается меня, я регулярно подтасовываю свои. Если я когда-нибудь случайно обзаведусь потомством (здесь Мейнар утробно хохотнул), оно будет порядком озадачено.
Только я собирался спросить, что он имел в виду под этим «озадачено», как в гостиную вошла женщина, похожая на гномиху, в униформе горничной, и пробормотала несколько слов, которые никто не расслышал.
– Громче, Сюзанна, малышка! – воскликнула хозяйка дома.
Все замолчали. Лицо женщины, сморщенное, как печеная картофелина, под белой кружевной наколкой, державшейся чуть косо, покраснело. Губы, которые и без того казались тонкими – то ли из-за отсутствия зубов, то ли из-за полоски усиков над ними, – нервно искривились и стали почти невидимыми.
– Стол накрыт, мадам, – наконец просюсюкала она чуть громче.
Все поднялись и с шумом устремились в столовую. Места за столом были уже расписаны. Я оказался между женой начальника аэропорта Оксерр-Бранш и сестрой Од, достаточно близко от Мейнара, чтобы слышать все, что он говорил, или, как сейчас, слушать его молчание, потому что он ничего не ответил на вопрос жены англомана, которая поинтересовалась:
– А вы, дорогой мсье, в каком секторевы работаете?
Слегка раздосадованная, мадам Шевалье – так было ее имя, – повернулась к нам и завела разговор о криминале.
– Становится опасно выходить из дому! И этов городе, который раньше был таким спокойным!
И она рассказала о том времени, когда приехала в крупный бургундский город – ровно двадцать лет назад.
– Вы забываете Эмиля Луи, [61]61
Эмиль Луи, работавший в 1976–1979 гг. в качестве водителя при приюте умалишенных, похитил, изнасиловал и убил семерых девушек, которых он перевозил из дома в приют. – Примеч. ред.
[Закрыть] мадам, – перебила ее моя соседка слева. – Вполне возможно, что как раз двадцать лет назад он собирался расправиться со своими первыми жертвами.
– Да, но точно мы этого не знаем, – заметил мсье Шевалье, приходя на помощь супруге. – Тогда это не происходило в direct live, [62]62
Непосредственно рядом с нами (англ.).
[Закрыть] как сегодня.
Воцарилось молчание. Од Менвьей, очевидно стремясь найти общую тему для разговора, спросила с другого конца стола:
– Вы видели сегодняшнюю «Фигаро»?
Речь шла об убийствах в Оксерре – сообщение появилось в общенациональной прессе, да еще на первой полосе! Ну и репутация теперь будет у региона!
– Вчера вечером об этом говорили и по телевидению, в новостях TF1, – добавила Шевалье.
Эглантина, которую хозяйка принялась расспрашивать об истории с Прюн (до нее дошли слухи об этом), попыталась внести в разговор оптимистическую ноту: слава богу, исчезновение сестры оказалось лишь временным.
– Но зато произошли три убийства, – насмешливо возразил Мейнар, – и это уже окончательно и бесповоротно.
Эти слова произвели тягостное впечатление, и посреди всеобщего молчания снова появилась карлица, еще сильнее согнувшаяся под тяжестью огромного подноса, на котором рядами были выложены утиные яйца в томатном соусе – последний кулинарный шедевр Элуа, ресторатора с улицы Бель-Пьер.
– Я вас попрошу заняться напитками, Александр, – сказала хозяйка дома, обращаясь к Мейнару.
Тот вышел и вернулся с двумя откупоренными бутылками. В одной из них я узнал свою. Бросив быстрый взгляд на этикетку, он налил немного себе, как и полагалось, затем наполнил несколько бокалов, в их числе – мой и хозяйкин, и наконец попробовал. Несколько мгновений он смотрел перед собой отсутствующим взглядом, затем, вдруг взглянув на меня, медленно произнес:
– Кажется, это вино немного выдохлось?
Сомнение быстро сменилось уверенностью.
– Да, – подтвердил он, – выдохлось. Оно немного… слабовато.
Чувствуя смущение и вину, я поднес бокал к губам. И хорошо сделал – вино было отнюдь не «слабоватым». Наоборот, у него был нежный фруктовый привкус с ароматом фиалки, сливы и лакрицы, и это Pagodes de Cos 1985 года показалось мне одним из лучших сортов бордо, в котором легкая элегантность не была слишком испорчена танином.
Од, не знавшая, что это я принес бутылку, не протестовала. Тем не менее она казалась слегка озадаченной. Но позже, когда она осушила бокал, я увидел, как она с довольным видом наливает себе снова. Никто этого не заметил. Только что прибыл ее муж в сопровождении своего уполномоченного. В последнем я тотчас же узнал юного азиата, владельца «мерседеса».
– Квентин Пхам-Ван, – торопливо представил его Франк Менвьей, занимая место во главе стола.
Разговор тотчас же зашел об экономической ситуации и о биржевых курсах. Если среди гостей оказывается врач, беседа непременно сворачивает на всевозможные хвори, если владелец автосервиса – на неисправности в распределителе зажигания, присутствие же на званом обеде банкира обычно заставляет каждого задуматься о капиталовложениях. Через какое-то время, захотев наконец попробовать утиные яйца в томатном соусе от Элуа, муж Од предоставил отвечать на вопросы своему помощнику. Тот произвел на всех благоприятное впечатление: у него был приятный, чуть высокий голос, четкая артикуляция, с лица не сходила улыбка, и, кроме того, он умел сглаживать чисто профессиональные термины художественными оборотами, которые непривычно было слышать от человека из его среды. Так, он сообщил, что «акции ISM лихо перескочили отметку 50», что не нужно было « лелеять надеждуна тайм-шер в области недвижимости» и что «долгосрочным японским процентам сопутствует благоприятный ветер». Было понятно, что он – специалист международного класса, на данный момент гораздо более увлеченный лондонским Сити и банками Гонконга, чем бургундским захолустьем (но не прочь узнать и о нем), и это внушало доверие. Сестра Од спросила его мнения о статье «Деньги», недавно появившейся в «Монд».








