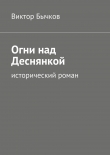Текст книги "Еврейское счастье военлета Фрейдсона (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Старицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
После обеда у меня отобрали халат и выдали, как ходячему, байковую бежевую пижаму. Еще подумалось, что она с покойного полковника Семецкого. Но вовремя вспомнил, что тут все стирают и дезинфицируют.
Перевинтил на нее ордена с халата.
Обулся в черные бурки на босу ногу. Хорошо, тепло, но некрасиво. Была бы кожаная отделка черной – было бы в самый раз. А так… коричневая только на белом войлоке смотрится. Но белый войлок по определению генеральский. Мне не по чину.
Сдавая халат сестре-хозяйке, выпросил портянки. Выдала, ношеные, но чистые.
И с чистой совестью пошел в курилку, пока она пустая, а то за разговорами с Коганом так покурить и не успел.
Скоро обмороженные бойцы, те, что выздоравливающие, ходить начнут, забьют курилку напрочь. И провоняют весь госпиталь своими мазями и махоркой. А их всё несут и несут. Немногочисленные санитары с ног сбились.
Накурившись, спросил у дежурной сестры палату, где обмороженные бойцы, вменяемые к восприятию. Путь на поправку имеют.
Вошел, духан гнойный как доской по носу ударил. Не удержался, открыл форточку свежему морозному воздуху.
– Одеялами закройтесь, товарищи бойцы.
Вынул выданную политруком брошюрку. В. Горбатов. ''О жизни и смерти''. Воениздат, 1941 год. Посмотрел из любопытства в исходные данные. Выпустили в середине декабря. Свеженькая агитация. Но оказалось даже не агитация, а художественное слово.
Бойцы затихли, ожидая.
Раскрыл наугад и стал читать.
– ''Товарищ. Сегодня днем мы расстреляли Антона Чувырина, бойца третьей роты. Полк стоял большим квадратом, небо было сурово, и желтый лист, дрожа, падал в грязь, и строй наш был недвижим, никто не шелохнулся''.
Бойцы в палате превратились в одно ухо и даже шушукаться, как школьники прекратили. А продолжил, не напрягая голоса, читать скупо, скучно, не как артист, и даже не как Коган умеет.
– ''Он стоял перед нами с руками за спиной, в шинели без ремня, жалкий трус, предатель, дезертир Антон Чувырин, и его глаза подло бегали по сторонам, нам в глаза не смотрели. Он нас боялся, товарищей. Ведь он нас продал.
Хотел ли он победы немцу? Нет, нет, конечно, как всякий русский человек. Но у него была душа зайца, а сердце хорька. Он тоже вероятно, размышлял о жизни и смерти, о своей судьбе. И свою судьбу рассудил так: ''Моя судьба – в моей шкуре''.
Ему казалось, что он рассуждает хитро: ''Наша возьмёт – прекрасно. А я как раз шкуру сберёг. Немец одолеет, – ну, что же, пойду в рабы к немцу. Опять же моя шкура при мне''.
Он хотел отсидеться, убежать от войны, будто можно от войны спрятаться! Он хотел, чтобы за него, за его судьбу дрались и умирали товарищи, а не он сам.
Эх, просчитался Антон Чувырин! Никто за тебя драться не станет, если ты отойдешь в кусты. Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За свою семью и за Родину! За свою судьбу и судьбу Родины! Не отдерёшь, слышишь, не отдерёшь нас от Родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. Ее судьба – наша судьба. Ее гибель – наша гибель. Ее победа – наша победа. И когда мы победим, мы каждого спросим: что ты для победы сделал? Мы ничего не забудем! Мы никого не простим!
Вот он лежит в бурьяне, Антон Проклятый – человек, сам оторвавший себя от Родины в грозный для нее час. Он берёг свою шкуру для собачьей жизни и нашёл собачью смерть.
А мы проходим мимо поротно, железным шагом. Проходим мимо, не глядя, не жалея. С рассветом пойдём в бой. В штыки. Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрём. Но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура наша была нам дороже отчизны.''
Я остановил чтение главы в густой тишине. Хоть ножом такую режь.
Вдруг их угла палаты раздался слабый голос, разбивая эту хрупкую тишину.
– Тот, кто это писал, не лежал по четыре часа на льду под пулеметным огнём – головы не поднять. Когда наши зашли с фланга и немецкий пулемёт сковырнули, никто со льда уже подняться не мог. Восемьдесят два человечка с роты там навсегда и остались лежать. Не пуля их убила, а холод и лёд. И глупость комбата.
Так… Началось в колхозе утро. Русский солдат пробует на зуб очередного агитатора. С неудержимой страстью русского мужика посадить в лужу интеллигента.
– Не могу судить, – отвечаю не без некоторой заминки. – Меня там не было. Во-вторых, я ничего не понимаю в наземной войне и тактике. Я летчик.
– Так чёж вы нам тада проповедь читаете про пяхоту? – это меня спросили уже с ближайшей койки.
– Попросили вам прочитать, вот и читаю. Я ни разу не политрук а такой же ранбольной как и вы. Разве что выздоравливающий уже.
Чувствую я себя под их взглядами просто обоссаным. Сижу на грубой табуретке и обтекаю. Неприятное ощущение.
– Не нравится вам. Не буду, – добавляю и встаю с табуретки.
В дверях сталкиваюсь с незнакомым мне старшим политруком.
Оборачиваюсь к обмороженным бойцам.
– Вот вам настоящий политрук, – указываю на него брошюркой, – у него и спрашивайте.
Обхожу эту нескладную фигуру и чешу по коридору в свою палату, слыша за собой тоненький комариный голосочек.
– Партия…, Сталин… Все как один плечом к плечу… Священный долг…
На ходу передумал и завернул в политотдел.
Кивнув замполитрука, я без разрешения влетел в кабинет к Смирнову и сходу ему вопрос.
– Что за новый старший политрук по палатам ходит?
Наглость, конечно, с моей стороны, но чуйка не то, что взвыла, заскулила слегка, а вот очко жим-жим.
– Какой политрук? – вижу по глазам, что полковой комиссар ничего не понимает.
Рассказываю, как что было.
Вызванный комиссаром в кабинет замполитрука вошёл сразу с подносом в руках – своего комиссара он знал, как облупленного. С заварочным чайником и стаканами в подстаканниках.
На вопрос о новом политруке доложил.
– Это, товарищ полковой комиссар, наш новый особист. Зовут его Гершель Калманович Амноэль. Звание старший политрук. Кстати я слышал, что с особистов политические звания скоро снимут. Вернут ихние. Энкагэбешные.
– Амноэль… Амноэль… – вспоминал комиссар, наморщив лоб. – Не было печали, черти накачали. Только почему старший политрук, он же майором госбезопасности был? А это бригадному комиссару вровень.
– Не могу знать, – вытянулся замполитрука. – Кипяток нести?
– Неси.
Когда замполитрука вышел, комиссар мне сказал, понизив голос,
– На язык замок повесь. Вспомнил я этого Амноэля. Он при Ежове карьеру делал именно тем, что на своих же доносы писал. И не анонимные, а собственноручные. И что удивительно нагло никогда не врал, а дело заводилось по его сигналу моментом. А сколько стороннего народа под вышку подвел этот упырь нам не пересчитать. Ну, Лоркиш… Ну, хитрюга. Не хотите грузина, вот вам еврей, жрите, не обляпайтесь.
Комиссар в сердцах стукнул кулаком по столу. Чайные ложечки зазвенели в пустых стаканах. Затем продолжил меня инструктировать.
– По марксисткой теории спорить с ним запрещаю. Он жуткий начётчик и талмудист в этом деле. Чуть, что не так – сразу донос накатает. Что ты эту теорию вредительски извращаешь. Как? Уже без разницы. Что правый, что левый уклонизм тут одинаково плохо. Лучше время потеряй его послушай. Попроси растолковать как правильно. Он это любит – поучать. Эх… не вовремя Мехлис на Волховский фронт укатил.
Тут замполитрука внес большой электрический чайник, парящий с носика.
– Что мне теперь с агитацией делать? – спросил я.
– То же, что Коган поручил – читать по палатам брошюрку Горбатова. По главе на палату. Потом сдвигаешь главы. Диспутов никаких с бойцами не веди – не уполномочен. Чай покрепче будешь?
– Если можно крепкий, – попросил я.
– Почему нельзя? – улыбнулся комиссар. – Чай не дефицит. Мы Китаю помогаем оружием, они нам чаем и рисом через Монголию. Индийский чай вот пропал, а я его вкус больше люблю. Раньше его морем в Одессу поставляли. Одесса теперь под румыном. Проливы у турок, что вот-вот могут в войну влезть на стороне Германии. На Кавказе приходится целый фронт держать против османов. А что поделать? Без Баку и его нефти нам очень плохо придется. И так вон авиабензин американский через Англию получаем. Пароходами.
Дождавшись, когда Смирнов стал прихлёбывать из стакана чай, спросил.
– Коган сказал, что вы с кем-то договорились о моей парадной форме для Кремля. На награждение. А то у меня ничего нет. Может можно как-нибудь в полк съездить. Товарищи, надеюсь, помогут.
– Не нужно. Сошьют тебе новую форму в Центральном ателье НКО. Оплатишь только работу. Тебе, как раз, жалование и за сбитый бомбер с полка деньги привезли. Получишь в кассе госпиталя. Они уже там. Мой совет: не пожадничай, и закажи себе, раз уж попал в генеральское ателье, зимние хромачи. Такие… с вкладными чулками из лисьих чрев.
– Из чего? – не понял я.
– Из лисьих брюшек, – пояснил комиссар. – Мех короткий на них, но густой и тёплый. Тебе – летуну, и в воздухе в них не холодно будет.
С новым госпитальным особистом я встретился в тот день еще один раз в столовой на ужине. Он подсел за столик, за которым харчился я в одиночестве.
– Не помешаю, – пропищал.
Я напрягся внутренне, но не возразил – место-то мной не куплено.
– Садитесь. Приятного аппетита. Нас тут кормят хоть и бедно, но вкусно.
– Что поделать, – ответил он мне тоном доброго дядюшки. – С того момента как отогнали от Москвы фашиста на сто пятьдесят километров, все фронтовые надбавки сняли не только с пищевого довольствия но и с денежного. Таковы правила. Москва больше не прифронтовой город.
Протерев общепитовскую алюминиевую ложку чистым носовым платком он, понизив голос, сказал.
– Извиняюсь, что не в официальной обстановке, товарищ Фрейдсон, но чувствую, что в здешнем, теперь уже моём, кабинете будет хуже.
Я сильнее напрягся. Вот не было печали…
А Амноэль продолжил.
– Должен перед вами извиниться от лица всего Управления Особыми отделами НКВД за действия моего предшественника. Надеюсь, что вы как советский человек не распространяете действия одного отщепенца на всю структуру особых отделов в армии.
– Спасибо. Извинения приняты, – ответил я, проглотив торопливо пшёнку, которую перед этим запихал в рот, стараясь как можно быстрее закончить ужин в такой компании.
– Я рад, что вы все прекрасно понимаете. А от себя я поздравляю вас с приемом в члены партии. И само собой с высшей правительственной наградой.
Я поблагодарил его по второму кругу. Блин горелый, он что, в друзья ко мне набивается? Вроде как я по возрасту не подхожу – он почти в два раза старше меня. Глаза впалые, под глазами набухшие мешочки. Морщинистый весь, усы пегие, залысины при сохранившейся остальной шевелюре. Гимнастерка богатая – шевиотовая. Подворотничок белоснежный, хотя и фабричный, но точно по размеру. Никаких значков и наград. То ли нет, то ли не носит принципиально. Ногти коротко обрезаны.
Я постарался быстрее закончить ужин и откланяться. Если я с ним вместе ужинать буду, то народ со мной начнет лозунгами разговаривать. Оно мне надо?
Даже курить ушел в туалет второго этажа. Но перекурить не удалось. В зажигалке кончился бензин.
В палате госпитальный старшина одаривал ранбольных табачным довольствием. Всем, даже майору, которому был положен ''Казбек'' выдали ''Беломорканал''. По пятнадцать пачек из расчета на весь январь месяц.
– Все. Фронтовая норма кончилась, – пояснил он нам. – Хорошо хоть ''Беломор'' удалось у интендантов выбить на средний и старший комсостав. Даже полковому комиссару ''Казбека'' не досталось. Чую погоним дальше немца, будут нам махорку выдавать. Выздоравливайте быстрее, товарищи командиры.
Дал нам расписаться в ведомости. Подхватил сидор с табаком на раздачу и пошел в другие палаты.
Ладно, у меня тумбочка и так куревом забита. Самым разным. Элитные папиросы, правда, закончились. А ''Беломорканал'' местный мне на вкус нравился. Не то, что ''нордовские'' гвоздики.
Айрапетян вынул из тумбочки пачку ''Казбека'' оставшуюся у него от прошлых выдач.
– Налетайте, товарищи, пока еще есть.
Мамлей, показав нам свои культи, заявил.
– Я бросил курить. Не хочу быть зависимым от других в такой мелочи. Стыдно.
– Ты тогда своими папиросами девочек поощри, что за тобой ухаживают, – посоветовал Раков. – Сам же без них даже писюн в утку заправить не можешь.
– Так они же не курят, – пожал плечами сапёр.
– На конфеты сменяют, – поддержал Ракова Данилкин. – Все жизнь им послаще будет. Разбирайте, братва, костыли, пошли в сортир курить.
– Подожди. Я только зажигалку заправлю, – посмотрел я на на просвет потолочной лампочки пузырек с бензином. Мало его осталось.
– Кончается, – посетовал я, заправляя зажигалку. – Надо было у однополчан заказать грамулечку авиационного. Не догадался.
– У старшины в следующий раз автомобильного попроси, – посоветовал Айрапетян, притягивая к себе подаренные мной костыли. Ну, как подаренные… По наследству доставшиеся. Ему уже сообщили, что переводят в ереванский госпиталь. И чувствовалось, что он весь в предвкушении от будущего на родине. Ждал он какой-то лечебной магии, что ли от родной земли.
– Автомобильный воняет, – ответил я. Откуда-то я это знал.
Утром после бритья всей палаты, наш цирюльник тихо попросил меня переговорить с ним наедине. Уговорились встретиться после завтрака в курилке на первом этаже. Брадобрея нашего, как оказалось, также кормили в нашей столовой завтраком, а на все остальные приемы пищи ему выдавался сухой паёк.
– У меня для вас плохие новости, – сказал он после того как первый раз затянулся стрельнутой у меня папиросой. – Я не найду столько лезвий для жиллетовского станка. Может вас что-то другое удовлетворит?
– А сколько есть?
– Сотня родных фирмы ''Жиллет''. Три сотни британских фирмы ''Блюберд ревендж'' – эти даже получше американских будут, ими раз по пять-шесть подряд бриться можно. Ну и в разнобой там штук полста наскребу. Может еще есть места в Москве, где они есть, но я такие не знаю.
– Итого четыреста пятьдесят лезвий всего, – констатировал я. – А договаривались на две тысячи четыреста. Маловато будет.
– Дорожный гарнитур для бритья я бы предложил вместо лезвий. Станок. Стаканчик для мыла, помазок барсучий не пользованный, поднос, коробочка для лезвий. Всё серебро. Несессер кожаный. Удобный.
– Фаберже? – Усмехнулся я.
– Нет, продукция Хлебникова. Она проще будет, чем у Фаберже, помещанистей, но вес серебра несколько больше.
– Так… – задумался я. – Понимаю, что у вас есть наборы и попроще, но вы исходите из количества лезвий за этот гарнитур.
Брадобрей только руками развёл.
– Огласите, пожалуйста, весь списочек, – подпустил я некоторого ёрничанья.
Он вздохнул, угостился еще одной беломориной, прикурил от протянутой мной зажигалки, выпустил дым и поинтересовался.
– Товарищ Фрейдсон, вы сразу скажите, что вам нужно и от этого будем плясать.
– Иголки, – ответил я сразу. – Булавки английские. Нитки черные, белые, зелёные.
– Полотно белое, – продолжил брадобрей.
– Немного. На подшивку подворотничков. Мне фабричные не нравятся. Можно пару отрезов сурового полотна или бязевого. – Это я матери вышлю. Матери самого Фрейдсона, пронеслось в голове. Надо же чем-то компенсировать то, что тело ее сына отнял. А чем? Дефицитом конечно. – Что еще можете предложить? Я же вижу, что у вас за пазухой что-то есть такое эдакое.
Брадобрей решился.
– Пальто кожаное американское с подстежкой из шерсти гуанако. Воротник зимний пристежной также. Кожа тюленя. Непромокаемая. Цвет, правда, желтый. Но на ваш размер точно. Зима кончится, можете подстежку снять и носить как демисезонный кожаный плащ.
– Что? Совсем желтый? – удивился я. – Как лимон?
– Нет, – усмехнулся наш парикмахер. – Желтой кожей называется коричневая. Желтые ботинки – коричневые по цвету. Традиция такая. У нас такие кожаные регланы шьют из черного хрома, правда зимний вариант не превращается в летний. Мех бараний там намертво пришит. Да и тяжелее они. А это пальто легенькое. Для себя искал такое да по размеру не подошло.
– Откуда такая роскошь?
– Американские самолеты перегоняют к нам в комплектации пилотской куртки, такого пальто, лётных очков и пистолета Кольт. Куртки до летчиков доходят, а вот такие пальто по дороге теряются. Если вам интересно, то я принесу его вам померить.
– За сколько лезвий?
– За тысячу.
– Приноси. Да… И иголки чтобы были разные по размеру.
– Цыганские, парусиновые?
– В том числе. Чай хороший есть?
– Вот чего нет, того нет. Можно плиточный достать. Он крепкий, но вкус не очень. Грузинский есть хороший. Цветочный. Тот, что не для народа, а для больших начальников. Но дорого. Потому как такового и в коммерческой продаже нет.
– А сколько чай стоит в коммерческих магазинах?
– Стограммовая пачка грузинского чая первого сорта, что до войны стоила восемь рублей, дешевле, чем за семьдесят пять не найти. И то качество стало хуже. Может, скинете число лезвий, а?
– Слово сказано, – покачал я головой.
– Слово сказано, – согласился он и больше не поднимал этот вопрос.
И мы довольные разошлись. Что я был довольный понятно. Но вот чем был доволен брадобрей я не въехал. В чем-то он меня все-таки обул. Но вот в чём?
9.
В палате рассказывали анекдоты. Выступал Айрапетян, рассказывая с неповторимым кавказским акцентом.
– Дэвушка, у тэбэ сиськи ест?
И тут же тоненьким голоском отвечает.
– А как же!
Пачему нэ носишь!
И все ржут. Застоялись товарищи командиры как жеребцы на конюшне.
– Что у нас хорошего? – спросил я.
– Ко мне мастер приходил, – похвалился майор. – Мерки снимал. Обещал быстро протез сделать. А это такое дело… С протезом меня в армии оставят на нестроевой. Голова-то целая осталась, а для артиллериста голова – главное. Особенно для крупных калибров, где траекторию надо грамотно рассчитывать. А это уже даже не военкомат, а артиллерийское училище – опыт передавать. Но все равно выслуга остается. Мне до пенсии всего девять лет осталось, если считать с фронтовыми.
– А разве в Ереване есть военное училище? – спросил Данилкин.
– В Тбилиси точно есть артиллерийское училище. А это рядом, – гордо ответил Айрапетян.
– Ну, да, два лаптя по карте, – усмехнулся Раков.
– В пределах Союза совсем рядом, – поддержал майора сапёрный мамлей.
– Рядом. Поезд меньше суток идет, – подтвердил Айрапетян.
– А как идет фронтовая выслуга? – спросил я.
Сначала они на меня посмотрели, как на ущербного какого. Но потом опомнились и учли мои мозговые травмы. Поняли и простили.
– День за три, – просветил меня бывший комэска. – Это в действующей армии.
– А запасной полк считается? – впитывал я полезную информацию.
– Смотря какой, – это уже Айрапетян снова вклинился. – Если в прифронтовой полосе то да. Точнее смотри список частей входящих в действующую армию. Лучше анекдот расскажи.
Что с ними делать? Рассказываю.
– Поймал мужик золотую рыбку. Та ему русским языком говорит: давай желание по-быстрому и отпускай в море. Мужик репу почесал и молвит: хочу, чтобы у меня всё было. Рыбка золотая кивает и говорит: что ж, мужик, у тебя всё было.
В палате недоуменное молчание.
Потом Раков заявил, выражая общее мнение:
– А где тут смеяться?
– Думайте, – усмехнулся я и вышел из палаты.
В спину донеслось приглушенное мнение.
– Опять у него какие-то жидовские штучки.
М-м-м-м… да этот юмор, всплывший в моей голове, оказался чужд местному населению. И мое счастье, что всё списывается пока на мою еврейскую хитромудрость. Моё еврейское счастье.
Все же кто я такой на самом деле?
То, что тушка у меня настоящего Фрейдсона давно понятно и доказано биохимией. Милая Берта Иосиповна Гольд это доказала на местном научном уровне – хоть в суд доказательства отдавай. А вот кто тот, кто в этой тушке проживает? То есть: кто я? Непонятно мне самому. Но явно не местный.
''А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель'' – вот опять, откуда это?
Давно решил, что я тут живу как Фрейдсон. За себя и за того парня. Но все же любопытно, чёрт подери, откуда что всплывает в моей голове. И откуда я знаю точный день победы? И даже год – 1945. Местным я его не говорю потому, как они убеждены, что победят раньше.
Пропаганда вовсю гремит о победе над немцами под Москвой, напрочь забыв, что месяц назад еще гремела о полномасштабном наступлении всей Красной армии от Баренцева до Черного моря и решимости выгнать агрессора с территории СССР уже в 1942 году. Не срослось. Только под Ростовым-на-Дону еще немцев потеснили. В других места Красная армия не смогла. Только силы и средства размазали по всему фронту, вместо того чтобы сконцентрировать их на прорывных операциях.
Так, что впереди у СССР еще тяжелые испытания грядут.
Нелегко гибнуть, точно зная о победе. Еще тяжелее гибнуть в неизвестности: как оно там дальше будет? Тем сильнее я уважаю, ежедневный подвиг этих людей, что не сломались и не смирились, и бьют врага как могут. И мое место среди этих людей, кто бы я ни был.
В голове откуда-то всплыло, что право носить на День Победы георгиевскую ленточку еще надо заслужить. Тем более, что Звезду Героя я тут получил авансом. За прошлые заслуги этого храброго еврея Фрейдсона.
После обеда вылез на прогулку. День ясный. Небо голубое, чистое, почти весеннее. Солнце светит вовсю. Снег на сугробах искрится, скрипит под бурками. Деревья в инее. Сказка.
Походить особо не удалось, так как хорошо расчищенной от снега оказалось всего одна дорожка, по которой через парк госпитальный персонал бегал на остановку трамвая. Да и в длинных полах тулупа путаюсь.
Ладно, для моциона есть длинные и широкие коридоры старинного здания госпиталя.
Сел на лавочку. Ноги в бурках, сам весь в тулупе закутанный на ватную душегрейку. Воротник поднял. Пригрелся. Тепло мне, хотя морозец крепкий – градусов семнадцать. Воздух свежий. Лепота. Даже курить не хочется.
Размечтался о том, как на награждении в Кремле я увижу живого Сталина. Тут народ его действительно любит. Это было для меня потрясением. И не наносное это, а глубинное искреннее чувство. И никак не укладывалось у меня в голове эта беззаветная любовь к вождю с нелюбовью, недоверием и подчас ненавистью к начальству вообще.
Погрузившись в эти размышления, я не обращал никакого внимание на окружающую действительность. Но вдруг что-то меня как подбросило.
– Соня! – крикнул я в спину проходящей мимо девушке в армейской шинели и буденовке.
Она оглянулась. Точно Соня Островская. Мой ангел жизни.
Радость разлилась. Сердце как елеем облили.
Подбежал. Схватил в объятия.
– Соня, как я рад, что ты на свободе. Теперь всё будет хорошо.
И я, набравшись смелости, поцеловал девушку в уголок холодных губ.
– Не надо. Не прикасайтесь ко мне. Я грязная! – уперлась она руками мне в грудь.
– Какая же ты грязная? Не наговаривай на себя, – оглаживал я ее плечи в грубом сукне.
– Я изнутри грязная, – выкрикнула девушка с надрывом.
– Они изнасиловали тебя? Да? – прорезала меня догадка.
– Если вы беспокоитесь о моей физиологической девственности, то она на месте. Я по-прежнему целка. Они мне душу изнасиловали. Они заставили меня написать на вас клеветнический донос. Так что не прикасайтесь ко мне! Я гадкая! Я недостойная. Я хотела любить вас, а сама предала. Прощайте, Ариэль.
Слёзы брызнули из ее красивых глаз.
Девушка с силой вырвалась из моих рук и торопливо пошла к госпиталю.
Я бросился за ней, но запутавшись в полах тулупа, упал в сугроб.
– Мы еще увидимся? – крикнул я ей вслед, стоя в сугробе на карачках.
– Нет, – твердо сказала девушка, обернувшись, – Не надейтесь. Я вечером уезжаю на фронт с санитарным поездом. Не ищите меня. Когда вы рядом, то мне хочется наложить на себя руки.
Когда я выбрался из сугроба, Островской и след простыл.
Сука Ананидзе! Так легко отделался!
Прикурить удалось только с третьего раза. И это с зажигалкой. Со спичками вообще бы не получилось – так меня трясло.
Ладно, я тут со своими хотелками, хотя Соня мне почти каждую ночь снилась. Девочке почто жизнь так искорежили. Я ей теперь как живое напоминание ее нравственного падения. Какая уж тут любовь…
– Вы не подскажете, как мне найти ранбольного Фрейдсона? Мне сказали, что он сейчас на прогулке, – раздалось за спиной.
Оборачиваюсь. Сержант НКГБ – петлицы краповые, по два кубаря на них. В шинели и шапке-финке. В хромовых сапогах! В такой мороз…
– Я Фрейдсон. Что надо? – буркаю.
И снова затягиваюсь горькой папиросой.
– Не больно-то вы вежливы, – улыбается эта ''кровавая гебня''.
– Есть с чего, – смотрю на него исподлобья.
– Вы должны поехать со мной?
– На какой предмет.
Мля-я-я-я… Очко-то жим-жим. Научился я уже их бояться.
– Я откомандирован от Наградного отдела Верховного Совета Союза ССР, проводить вас в Центральное ателье индпошива Управления вещевого снабжения НКО. Машина у главного подъезда стоит. Она и я в вашем распоряжении весь день. Считайте меня сегодня чем-то вроде вашего адъютанта.
Ростом сержант выше меня, что нетрудно. Статный, крепкий, круглолицый, румяный, светлоглазый блондинистый русак. Совсем молоденький. Говорит правильно. Никакого провинциального говора нет. Располагающая к себе внешность.
– А вы сами, откуда будете? – интересуюсь.
– Охрана Верховного Совета, – спокойно отвечает.
И вроде не врёт. По крайней мере, в глазах врунчики не бегают.
– Но я не могу покинуть госпиталь без разрешения, – тяну я время, прикидывая как мне к комиссару оторваться от этого новоявленного конвоира. Чтоб хотя бы знали: кто и куда меня увёз.
– Оно у меня есть, – заявляет эта морда на голубом глазу.
Сержант решителен, но и я не пальцем деланный. Заявляю в обратку:
– Это у вас есть, а у меня нет. Так, что надо выписать увольнительную у комиссара.
– Тогда не будем терять время и пойдем к комиссару. Наша машина хоть и не лимитирована комендантским часом – пропуск у нас на всю ночь, но само ателье не работает круглосуточно.
Возвращаясь в госпиталь, я вдруг вспомнил.
– Мне тогда еще деньги в кассе получить надо.
– Не обязательно сегодня. Сегодня с вас только мерки снимут, – информирует он меня.
– А вам уже приходилось заниматься такой службой?
– Не один раз.
– И кого так возят?
– Таких как вы – героев. Народ с фронта, в чем только не приезжает. Так, что Верховным Советом на подобающее случаю обмундирование деньги давно выделены.
К Смирнову заскочил один, без сопровождающего гэбешника. Потребовал хоть какой-никакой документ, а то у меня ничего с собой. Не дай, Карл Маркс, что случится…
Смирнов усмехнулся и озадачил замполитрука, который не только принес мне мое удостоверение, еще полковое на старшего лейтенанта, но и оформленное по всем правилам увольнительное удостоверение на трое суток. Комиссар размашисто расписался и поставил печать.
– Почему на трое суток? – удивился я.
Комиссар в ответ съязвил.
– Не дай, Карл Маркс, что-нибудь случится. Но харчиться, в госпиталь заезжай вовремя. Согласно распорядку дня.
И засмеялись на пару с замполитрука.
Сержант ГБ терпеливо меня ждал в коридоре. Только шапку теплую снял со светлой головы.
В гардеробе санитар, забрав у меня тулуп, выдал взамен черный полушубок. Не дублёный, а крытый дешёвым грубым материалом – чертовой кожей. Но чистый не затасканный. Ушанку оставил мне ту, что на мне на прогулке была. А бурки у меня свои.
И поехал я в шикарном темно-синем ''Бьюике'', как есть: в пижаме с орденами.
Сопровождающий меня сержант провел по мраморной лестнице на последний этаж бывшего Гостиного двора, того что практически на Красной площади стоит рядом с храмом Василия Блаженного, и сдал с рук на руки женщине в переднике и цветастых нарукавниках. Сам сказал, что обождет меня в машине у подъезда.
Ателье меня не впечатлило. Обстановка казенная, простенькая. Ничего лишнего.
Зато люди приветливые, улыбчивые и ко всему привыкшие. На мой госпитальный прикид никакого внимания не обратили. Будто так и надо.
Молодых сотрудниц не было. Все мастерицы были в возрасте. Отнеслись ко мне по-матерински. Захлопотали. Напоили чаем с довоенным чуть засахаренным малиновым вареньем и велели ждать какого-то Абрам Семёныча.
Качая головами, робко касались пальчиками фрейдсоновских наград. Я догадался, что раз ателье генеральское то молодые люди здесь гости не частые.
Абрам Семёныч оказался главным закройщиком. Невысокий пузатенький седой старик лет шестидесяти с торчащей во все стороны курчавой шевелюрой. С толстыми линзами в золотой оправе на мясистом носу. Бритый. Чем-то он смахивал на артиста Михоэлса в фильме ''Цирк''. Точнее на отца этого Михоэлса. Одет был хорошо. В отглаженные серые в тонкую полоску фланелевые брюки. Чёрный креповый жилет на белую рубашку с крахмальным воротом. Галстуков он видно не признавал. Воротник был застегнут на золотую запонку. Такие же запонки на жестких двойных манжетах. На ногах мягкие черные туфли из шевро. Видно: любит себя человек. Вот и ходит на работу во всём довоенном великолепии.
Закройщик снял с шеи мягкий портновский метр из клеёнки и без лишних разговоров стал меня обмерять, диктуя эти показания белобрысой ассистентке бальзаковского возраста с модным коротким ''перманентом''. Та записывала в маленький блокнот.
– Нут-с, что желает молодой человек от нашей скромной швальни? – спросил он, глядя мне прямо в глаза.
Черные его зрачки гротескно искажались в толстых линзах очков.
– Ничего особенного, – скромно отвечаю. – Что положено… В чем положено быть на награждении в Кремле.
Сопровождающий меня сержант ГБ просветил меня по дороге, что денег с меня за обычный набор полушерстяной формы не возьмут. За все уже уплачено Верховным советом. Как бы мне в подарок.
– Род войск? – Абрам Семёныч утвердил свой портновский метр снова себе на шею.
– ВВС. Командный состав. Капитан, – кратко отвечаю.
– Дополнительными средствами обладаете?
– Смотря на что, – усмехаюсь.
– Кант на петлицах вам делать стандартный из тонкого галуна или шитый золотой канителью? Соответственно нарукавные шевроны и знак авиатора на рукав.
– Давайте шитые. Я доплачу.
Ну, что там того золота… на две петлицы и шеврон.
– Материал на галифе обычный или чистошерстяная диагональ?
– Конечно диагональ, – подтверждаю. – И гимнастерка габардиновая.
Если уж попал в пещеру Алладина, то надо выбирать наиболее прочные и долговечные материалы.
– Будет небольшая доплата.
– Согласен, – подтверждаю.
На все согласен, даже не зная, насколько доплата будет ''небольшой''.
– Та-а-а-кс… Сапоги. – Внимательно смотрит на меня Семёныч через свои ужасные линзы.
– Вот про сапоги я хотел поговорить отдельно, – подмигиваю. – Мне сказали, что вы здесь индивидуально шьёте зимние сапоги с чулками из лисьего меха. Это так?
– Аид? – тихо спрашивает меня с подозрением.
– Аид, – так же тихо соглашаюсь. – Деньги есть.
Измерив мою ногу, Абрам Семёныч сказал.
– Новые мы вам пошить к сроку не успеем. Ни хромовые, ни юфтевые. Но…
И увидев мое разочарованное лицо, поспешил добавить, понизив при этом голос до интимного шепота.