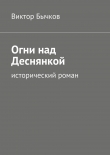Текст книги "Еврейское счастье военлета Фрейдсона (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Старицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– А первую когда? – спросил Ваня-хант из вежливости.
– В сороковом, когда он с финнами воевал, – влезла Лиза.
– За то и выпьем, чтобы все похоронки ложными оказались, – подытожил сержант, и все сдвинули рюмки со звоном.
Налили даже мелкой. Видно Засипаторовна Лизавету за взрослую держит.
Закусили солёной семгой и копчёным хариусом. Мочёной морошкой и брусникой.
Фамилия капитана оказалась Питиримов, по имени попа, который его отца крестил. По национальности он по отцу был хант, а по матери русский.
Сержанта величали Евпатий Колодный. Тот был из чалдонов. Коренной.
Тут и пельмени поспели. Вкуснотища! В московских ресторанах так не сготовят, ни за какие деньги.
Потом и я из сидора московскую ''белоголовую'' бутылку вынул. Что тут на трёх здоровых мужиков какой-то литр? Да еще под такую шикарную закусь? Бабы пили мало.
Гулеванили за полночь, периодически выходя покурить в сени. Сержант не забывал каждый раз круто посоленную корочку захватить кореннику в угощение.
Разговоры, как всегда при таких гулянках, наполовину порожние. Тут, в глубоком тылу, на Полярном круге, война казалась людям чем-то таким далёким. Пока ещё чуждым. Обычного течения жизни она не нарушала.
Проснулся поздно. Никто и не подумал меня будить.
Милиционеры уже уехали в свои Лабытнанги.
Лизавета пекла блины. Сегодня, оказывается, второй день масленицы.
Ладная, крепкая девка. Грудь высокая торчком. На кофте две заплатки – нанка сиськами протёрлась. Талия узкая и бёдра вполне зрелые. Глаза у нее зелёные. Волос блондинистый. Лицо простоватое, но очень милое и симпатичное.
– Где мать? – зеваю.
– На работе. Это я в школу не пошла. Какая может быть школа, когда брат-герой с войны приехал? А ты у нас в школе выступишь?
– Урок мужества, что ли провести?
– Ну, типа того.
– Проснемся – разберемся. Где тут умыться можно?
– В сенях. Как выйдешь: направо умывальник. Держи утирку, – протянула она мне вафельное полотенце.
– Сколько этому дому лет? – спрашиваю, возвратившись, отдавая полотенце.
– Почти сто, – отвечает девушка. – Что ему будет? Он же из лиственницы. Отец твой его купил, когда на матери женился перед самой революцией. Его, говорят, сюда надолго сослали.
– С чем блины будут?
– С топлёным маслом и еще мама обещала сметаны принести.
– Балуете вы меня.
– А кого нам еще баловать, как не тебя, – смеётся.
Полез в свои сидор и чемодан – доставать пока продовольственные гостинцы. Выкладываю нас стол. Куча впечатляет. Одна банка тушенки в сидоре пробита пулей. Вслепую. Пуля так в банке и осталась.
– Ну и зачем всё это тащил? У нас тут не голодное Поволжье, а севера. Тут, чтобы с голоду помереть, надо совсем безруким быть. – Упрекает меня Лиза.
– Так, что мне, в Москве все надо было бросить? Пропало бы.
– Прости, не подумала. А со стола убери все в угол на лавку. Мать придет, разберёт. Могу и сама разобрать, но ей это приятно будет.
Стопка блинов все росла.
– А за что ты звезду получил? А то меня все теребить будут, а я, как дурочка, ничего не знаю.
– Тебе как: своими словами или газету дать почитать?
– Так про тебя и в газете писали, – восхищается девушка. – Давай газету. Только не сейчас. После того, как блины поедим. А то руки жирные. А кого ты еще, кроме Сталина, видел из правительства?
Рассказываю, как нас награждали и про приём в Кремле. И кого из Политбюро и Правительства страны там видел.
И про сам Кремль, и про то, как его изуродовали маскировщики, чтобы немецкие бомбардировщики его не замечали.
И как меня, разутого и раздетого, обмундировывали в Центральном ателье для генералов.
Лизавета внимательно слушала. Вопросы задавала. Потом спросила:
– А помнишь?..
– Не помню. – Перебил я ее. – Ничего не помню, – развел я руками. – Понимаешь, я под новый год умер. На ровном месте. Я даже с неба без парашюта падал и то живой оставался. А тут… И через несколько часов, уже в 1942 году, воскрес. Но с тех пор ничего не помню, что было до нового года.
– Бедненький. Как мать-то расстроится.
– Вот я и думаю, как ей все это сказать? Да и про школу… Ума не приложу, как там выступать мне? Там же спрашивать будут: как я учился? И прочее… А я не помню. Я даже как фашиста таранил, не помню. И летать мне врачи запретили.
– Выпьешь? – спросила Лизавета, ставя стопку блинов на стол. – Настойка есть клюквенная.
– Выпью, – согласился я.
Вот так вот. Путано. Не связанно. Провёл я репетицию разговора с матерью моего тела.
А блины мы ели с привезенной мною сгущенкой, той самой премиальной от политуправления. Лиза, как все девочки, сладкоежка и была на седьмом небе от гастрономического удовольствия. Значит, не зря я этот хабар сюда тащил. Не зря от бандитов отбивал. Стоило хотя бы ради того, чтобы посмотреть на это счастливое девчоночье лицо.
– Поели. Теперь поработать надо. – Откинулась Лиза спиной на стену.
– Что делать будем? – подхватил я с готовностью.
– Баню топить. Вчера не до того было. А вообще-то положено гостя сначала пропарить, и уже только потом поить-кормить, спать укладывать.
– Дрова колоть? – предположил я.
– Разве, что щепу на растопку. Еще осенью накололи полный дровяник.
– А веники есть?
– Только берёзовые. Речники летом с верховий привозят, спекулируют по малости. Так, что пошли: твоя очередь воду таскать.
– Откуда?
– Колодец у нас свой: во дворе. Ватник в сенях висит. И переоденься во что-нибудь. Или ты теперь и воду носить будешь при параде в геройской звезде? – смеётся.
Когда мать вернулась с работы, баня была раскочегарена на полную мощность. Лиза, правда, не голышом, в полотняной сорочке до колен, хлестала меня, растекошенного на липовом полке и только срам прикрывшего простынкой, двумя вениками сразу. Качественно хлестала, гоняя горячий воздух буквально в сантиметре от тела, но, не используя веник в качестве розги.
– А тебя отхлестать надо? – гляжу на ее потное лицо, чтобы не смотреть на мокрую рубашку, облепившую девичью грудь.
– Не боись, мать отхлещет, – смахивает Лиза ладошкой пот со лба. – Она у нас в банном деле мастерица. Не то, что я.
– Еще как отхлещу, – пригрозила мать, приоткрывая дверь в парную. – Выгоняй отсюда гостя. Я сейчас к тебе сама присоединюсь. А тебе, Лёша, там, в мыльне, мочалку приготовила и ушат с тёплой водой. А ''банное'' мыло это ты привёз? У нас такого не было.
Пили чай, лакомясь настоянным на калине мёдом. Чай у матери в заготконторе продается без карточек, но только для тех, кто лисьи, да песцовые шкурки сдаёт. Ну, а кто шкурки сдаёт старается кладовщика задобрить, а то скажет кладовщик: остался только чай третьего сорта… А чай тут на северах валюта. За чай расконвоированные зеки, что хочешь сделают, а среди них разные умельцы попадаются.
Чувствовал себя после бани я как заново народившимся. Но не все коту масленица, бывает и Ильин день.
Хорошо, что все такие благостные поле бани. Легче было мне говорить самому родному для моего тела человеку горькие слова.
Мать после того, как я рассказал ей про свою амнезию, опечалилась.
– Что сказать? – промолвила она после недолгого молчания. – Скажу: слава богу, что живой остался и даже головкой не трясёшь, как другие контуженные. То-то вчера чуялось мне в тебе что-то чуждое. Будто и не родной ты мне. Но осмотрела я тебя в бане всего – мой это сын. Даже родинки в правой подмышке, которые вроде как целуются, когда ты рукой двигаешь, твои. С детства мне знакомые. И сердце твоё знакомо бьётся.
Вот так вот и решился основной вопрос философии в одной отдельной семье: что первично, а, что вторично. Материя, как то и положено в марксизме, победила.
– Откуда Лиза взялась, если в моей официальной биографии о ней ни слова, ни полслова? – спросил я, когда Лизавета по каким-то делам вышла в сени.
Мать подпёрла голову ладонью, поставив локоть на стол, и поведала с интонацией сказителя былин.
– Действительно ничего не помнишь, – констатировала. – А ведь сам игрался с ней, когда в отпуск после училища приезжал кубарями хвастать. Сестрёнкой называл. Ну, слушай. Отправила я тебя в казённый дом – училище твоё лётное, а сама осталась одна. В тридцать три года. Молодая баба еще, если сзади посмотреть, – усмехается. – И так получилось, что сошлась я с Маркелом Татарниковым, мастером-наладчиком в доках. Он как раз овдовел перед тем за год. Стали жить вместе. А так как он ссыльный к нам попал как вредитель, то брак мы не оформляли, чтобы твоей карьере не помешать. Вредно тебе в родственниках лишенцев иметь. Детей совместно, как видишь, не нажили. А Лизка – дочка его от первого супружества. Мамой меня зовёт, но я не мать ей, хотя за дочку держу. И люблю как дочь.
– А где сам Маркел твой, почему не вижу?
– И не увидишь. По осени пошли они на Обь артелью царь-рыбу промыслить на перемёт. На зиму балыков наделать. Да перевернулась лодка. Было их в ней шестеро. Выплыло двое. А как я выла, как выла… С работы приду, клюковки дёрну и сижу, вою. ''Маркелушка, голубь ты мой сизокрылый, на кого ты меня покинул. Возьми меня под правое крылышко''. Вроде жила – не тужила, а, оказалось, любила. Крепко любила я этого малоразговорчивого мужика. Твоего отца так не любила. Замуж пошла потому, как позвал. Я, сирота, с девочкиных лет в услужении по людям. Не девушка была. Кто меня из местных в жены возьмёт, не девушку? А отцу твоему не сколь баба, сколько бесплатная прислуга в дому нужна. Деньги у него водились. Дом вот этот купил. В школе инородцев арифметике учил. А так всё больше писал что-то, керосин жёг. И всё письма рассылал. Всё жаловался, что ему тут и поговорить-то не с кем. Чтобы на мне жениться, крестился он в Васильевской церкви. Я-то православная, а он жид. Сказали: низ-з-з-з-зя! Он и полез в купель. Был Лейба, стал Лев. Отчество осталось прежнее только – Агициевич. А я стала Фрейдсон. Налей клюковки, помянем Маркела и Лёву заодно. Всё крещёные души. Пусть Господь упокоит их в райских тенётах, хоть и не по заслугам их, а лишь по молитве нашей.
Пришла Лиза с корчагой парного козьего молока в руках. Возмутилась.
– Клюковку дуете. Без меня. Пока я козу за сиськи тягаю, вы тут бражничаете.
– Садись, – мать похлопала ладошкой по табурету. – Как раз отца твоего поминаем.
Выпили не чокаясь.
– Так, что там про моего отца дальше? – спросил я, только чтобы Маркела не обсуждать при Лизе. – Какой он партии революционер был?
Мать поняла меня.
– Анархист какой-то вроде. Но в авторитете. Письма ему часто писали, советов спрашивали. Газеты присылали. Книги. Пару раз какие-то мутные люди приезжали: деньги привозили, ружьё вот это. – Показала она рукой на курковую ''тулку'', висящую на стене рядом с патронташем. – В посылках частых папиросы асмоловские, какие у нас не продавали, чай английский заморским фруктом бергамот духмянистый, орехи, сласти восточные. Мне больше всего нуга лимонная нравилась. Уважали его на материке.
– Мацу не слали? – ехидничаю.
– Нет. Он вообще в бога не веровал. Верил в коммунизм, но как-то на особь. Не так, как большевики. Хорошо мы с ним жили, грех жаловаться. Ругаться он на меня, ругался, но, ни разу не ударил. А как я забеременела тобой, революция случилась. Царя сбросили. Тут Лёва весь покой и потерял. А как ледоход на Оби прошел, сорвался в Петроград первым пароходом. Оставил мне двести шестьдесят рублей на прожитьё и погнал. Он бы и раньше на собаках умчался. Да желающих везти его в верховья реки не нашлось. Пару открыток за всё время прислал, керенок три аршинных ленты, да детское приданое богатое на твоё рождение. Посылка эта еле к зиме до нас добралось. А потом и похоронка на него пришла, в восемнадцатом. Ты уже к тому времени ползал и гукал вовсю.
Мать улыбнулась своим воспоминаниям.
– Наказал он мне строго: если сын – назвать Ариэлем. А если дочь – то Эстер. Я его не ослушалась – муж же, как можно? Записали тебя по новому закону в управе Ариэлем, а крестили в церкви Алексеем, божьим человеком. Тебя все тут знают как Алексея. Так что не удивляйся.
– А как я в евреях оказался, если крещёный?
– При советах нас всех не по богам, как при царе, а по племенам рассортировали. По новым декретам. Я на жизнь прачкой зарабатывала. Так что… – махнула она рукой. – Комиссар наш поселковый ко мне куры строил. Из хохлов. Фамилия у него была смешная: Чернописько. – Смеется. – А я ему не дала. Как представлю – смех разбирает. Какая тут любовь? Вот он меня не как рабочую, а как батрачку-крестьянку записал при переписи. В отместку. И еврейкой сделал. Сказал: ''Раз у тебя дети жиденята, то и сама ты того же племени''. И штемпель поставил. А мне-то что? Хоть горшком назови, только под юбку не лазь. Не стала я, потом, ничего переделывать, тем более жаловаться. В двадцатые годы единственной еврейкой на всё село было выгоднее быть. Как заготконтору поставили, так меня туда сразу и взяли. Главный по заготконторам, который с Тюмени был, звался Аршкопф Роман Аронович. Сначала младшим счетоводом меня назначили. Потом и на склад поставили. Счетовод – служащий, а кладовщик – рабочий. Так и тружусь на одном месте. А Лёве в краеведческом музее отдельный стенд соорудили, как выдающемуся революционеру и герою Гражданской войны. Я им все фотокарточки его отдала, книги и оставшиеся от него рукописи, чернильницу медную. Думаю, не за грех тебе будет у того стенда сфотографироваться при полном параде. Глядишь, где и поможет в карьере.
Мать еще опрокинула рюмку клюковки, что-то напряженно думала и, не без внутренней борьбы, решилась.
– Но то всё дела прошлые. А нам надо сегодняшним днём жить. Я вам так скажу, дети мои… Вот вам мой материнский наказ. Пока у Лёшки отпуск, делайте мне внука.
– А-а-а-а… – только рот открыл я от изумления.
– Да. – Хлопнула она ладонью по столешнице. – Тебя убьют, нам хоть внук останется. Родная кровь. А мне надоело на тебя похоронки получать. Крайний раз, только-только по Маркелу отвыла, оплакала. Бац. Несут: ''Ваш сын пал смертью храбрых…''. Чуть сама концы не отдала. Думаешь, как это оно? Одно меня спасло – не верила я похоронкам. Ждала живого. Хоть безногого, хоть безрукого, хоть такого – беспамятного, но живого. А сейчас боюсь. Боюсь тебя обратно на войну отпускать. Но ведь не послушаешь же?
– Не послушаю, – твёрдо ответил. – Моё место на фронте. А эта звезда только сильнее обязывает.
– Вот и я о том, – горько выдохнула Мария Засипаторовна. – Сделаешь Лизке ребёнка и вали на свою войну.
– Да она мала еще, – возмутился я.
– Мала-а-а-а?… Я тебя в шестнадцать родила. И ничё… Вон какой здоровый герой получился – даже смерть не берёт. Правда, Алёшенька, в том, что третьей похоронки на тебя, даже ложной, я не переживу. Как бог есть, не переживу. Сделайте, дети, как я прошу. Уважьте. Мне хоть жить будет ради кого.
– Тебе лет-то сколько? – спрашиваю похожую на соляной столп Лизавету.
– Пятнадцать. В октябре исполнилось, – отвечает как робот. Без эмоций. А сама, то бледнеет, то краснеет, то пятнами идёт.
– Мать, я лётчик. Я и после войны в армии служить буду. Не вернусь я в деревню.
– У нас теперь город. – Лиза открыла рот.
– Да хоть столица, – бросаю в раздражении.
– А столица и есть, – не унимается девушка. – Столица Ямало-Ненецкого округа. Не хухры-мухры.
Но я уже переключился на мать.
– У меня в Москве теперь квартира отдельная. Комнату мою фашист разбомбил, так товарищ Сталин сам распорядился найти мне жильё. Дали квартиру в хорошем доме в самом центре Москвы. Я думал тебя туда забрать, – говорю матери.
– Не поеду я в твою Москву. Тут у нас в голодный год хоть рыба будет. А в вашем муравейнике, случись чего – сразу зубы на полку. Да и Лизку я не брошу. Она мне старость скрасит. Внука давай, а больше от тебя ничего нам не надо. Приводи в свою фатеру московскую столичную фифу, нам ее отсюда не видать будет. Ребенка только признай, когда родиться, чтобы Фрейдсоном был, сыном и внуком героев.
– Давай, мать, не пороть горячку, – ищу заполошно выход из столь неординарной ситуации.
– А когда ее пороть? Седни нас в покое оставили – матери утешиться, а завтра народ попрёт в наш дом как на первомайскую демонстрацию. Знакомые, а их у меня много – все же в заготконторе работаю. Улица наша так точно. Домой шла – уже спрашивали. Я и на работе три дня отпуска взяла. Так, что в покое нас оставят только на ночь. Вот вам и время внука заделать. Иль тебе Лизка не по нраву?
– Лиза нравится. – Не хочется мне обижать девушку, как бы всё не обернулось. – Девка она красивая. Не нравится мне, что меня рассматривают только как быка-производителя.
В ответ мать только хмыкнула.
– А ты о ней подумай, как следует. Сколько вас – ражих мужиков поубивает на войне? Даже в нашу глухомань похоронки идут на каждого второго. Не от кого рожать ей будет. Разве, что от селькупа – их в армию не берут. Лизка, а ты, что стоишь столбом? Что молчишь?
Та край скатерти теребит. Глаз не поднимает.
– Мама, я вашей воле покоряюсь, но я никогда не смотрела на Лёшу иначе, как на брата, – выдавливает из себя девушка.
– А теперь посмотри на него как на мужика. – Нажимает голосом Мария Засипаторовна. – Как на отца твоих детей. Всё. Решено. Спать будете вместе в дальней комнате за кухней. Идите уже. Мне поплакать нужно. Своих мужей помянуть.
13.
Отпуск мой больше напоминал командировку от Главного политуправления, разве, что без пайковой сгущенки. Те же митинги, встречи и беседы. Про войну, про фашизм, про то, почему врагу столько земли отдали? Чуть ли не полглобуса. Почему зеки не воюют, а сидят на шее у народа? Про всё дай ответ честному народу. И за себя ответь, и за товарища Сталина.
Хорошо, была у меня тренировка в Москве по таким мероприятиям, так, что справился.
Лизавета везде со мной под ручку, тигриным взглядом отваживая от меня конкуренток. Герой приватизирован.
Пришла в себя девчонка, осмелела. Во взгляде уверенность появилась. Но я-то помню, как в тусклом освещении прикрученного фитиля керосиновой лампы, в первую нашу ночь она мелко дрожала всем организмом и не давала с себя ночную сорочку снимать, зажав ткань кулачками у горла. А глаза зажмурив. При этом мне очень хорошо были видны ее бёдра и курчавый белобрысый треугольник в месте схождения ног, и тонкая талия с чуть наметившимся животиком, и умопомрачительная девичья грудь с мелкими коричневыми сосками.
Класть сразу в койку девочку в таком вздёрнутом состоянии, только портить. Аккуратно и ласково поглаживал ее по шелковистой коже, унимая боязливые мурашки. Пытался целовать плотно сжатые губы.
– Ты не хочешь ребенка? – шепчу в ухо, чуть покусывая мочку.
– Хочу, – шепчет. – Но боюсь.
– Давай сегодня просто поспим рядом. Привыкнем друг к другу.
– Я в рубашке останусь.
– Как скажешь.
– Свет погаси.
– Разве ты страшная?
– А причём тут страшная?
– Только с крокодилками спят в полной темноте, чтобы их не видеть. А на ощупь все бабы одинаковые.
Смеётся.
– Я красивая?
– Для меня, да.
Легли наконец-то. Целуемся даже.
– Лиза, Лиза, Лизавета… Ты совсем целоваться не умеешь, – шепчу.
– Я и не целовалась ни разу еще с мальчиками.
– А с девочками?
– Что я зечка, что ли, кобеляжем заниматься? – возмущенно шипит.
– А на яблоке или помидоре, что лучше, потренироваться не пробовала?
– Откуда у нас помидоры? Только солёные в банках. Они вялые и склизкие.
– А вот так тебе приятно?
– Да. Погладь там еще.
– Успокоилась?
– Да. Но давай сегодня ничего делать не будем.
– Просто так поспим?
– Нет. Ты меня еще погладь.
– А ты меня?
– Такой большой? Как он во мне поместится?
– Не сразу и не весь. Вот это место у тебя вообще-то безразмерное. Только пока оно сухое. А это плохо. Не сжимай ноги, я там поглажу. Не дрожи, ничего плохого с тобой не случится.
– Давай просто поспим. А то уже ночь глубокая, а завтра вставать рано.
– Уговорила. Туши лампу.
Здравствуйте, утром квадратные яйца. Но перетерпим. Важнее девочке на всю жизнь отвращения к сексу не привить.
Утром Лиза меня сама разбудила. Ошарашенная донельзя. Оказывается, решила она приласкаться ко мне, пока я сплю, и кончила на моей коленке. Теперь вся мокрая.
Тут я и сам возбудился не на шутку.
Приподнял девочку и посадил сверху, а наделась она уже сама, почти без крика. Скорее с удивлением.
А меня, после вчерашнего, надолго не хватило. Излился почти моментально.
– Я теперь женщина? – спрашивает с удивлением.
– Обязательно. Воды омыться от крови ты приготовила нам, женщина?
Весь день Лиза ходила как пыльным мешком приголубленная, прислушивалась к чему-то внутри себя. Но к ночи девушка была готова к новым подвигам. Вела себя в койке скромно, сдержанно, но нетерпеливо.
Если самого себя спросить: почему я на эту связь пошел? То самый честный ответ будет даже не в том, что девушка мне понравилась и неплохой получается отпускной роман. А в том, что, забрав у матери сына, я внуком восполняю, таким образом, ей потерю.
Утром, пока Лиза доила козу, мать выступила с неожиданным предложением.
– Тот денежный аттестат, что ты мне присылал, перепишешь на Лизу, когда она понесет от тебя. Дополнительный будет документ, если придется твое отцовство доказывать.
– Зачем его доказывать? – не понял я. – Я не отказываюсь.
– А если тебя убьют до того, как малыш родится. Я не дура, понимаю, что навязала тебе девчонку, но я не хочу, чтобы ты ее забирал с собой. Они мое утешение в старости. А ты свободен, в своей Москве, жениться на ком хочешь. Хоть на дочке генерала.
Тут Лиза пришла с молоком, и стрёмные разговоры мигом прекратились.
А потом и самые нетерпеливые визитёры пошли, с утра пораньше. И каждый думает, что именно я воюю с их родственником в одной части, хотя я лётчик, а их родственник понтонёр.
На второй день я сразу выдавал ''дежурную котлету'': воевал только в небе Москвы. Нигде в других местах не был. Так, что думайте, прежде чем вопросы задавать.
Мать меня отдергивала, что нельзя так с людьми… Я отбрёхивался тем, что их много, а я один. И у меня отпуск по излечению, а не для их развлечения.
Спас меня на четвертый день первый секретарь окружкома ВКП(б) Петр Иванович Гулин, пустив все такие встречи в организованное русло, а у наших ворот выставил милицейский пост – любопытных отгонять. С пониманием человек, с таким и работать приятно.
Ваня-хант примчался через неделю, привез самогона и мороженую оленью тушу в подарок.
– Три оленя, две яранги – это город Лабытнанги, – смеётся.
На этот раз он прибыл сам-один в санях, запряженных большим рысаком, из чего я сделал вывод, что на ночлег напрашиваться он будет к нам. И не прогадал.
Первый митинг у ''Дома ненца'' собрал огромное множество для Салехарда людей – почти четыре тысячи.
– Больше только в день объявления войны собиралось, – приметил товарищ Гулин и дал мне слово, как первому герою-ямальцу.
Хорошо, что я все формулы магического марксизма еще при вступлении в партию выучил. А о войне… Я стал говорить не о подвигах на фронте, а о госпитале, который забит под завязку обмороженными бойцами. Потому, хоть страна и готовилась к войне, но никто и предположить не мог, что на нас попрётся вся объединённая Европа и придётся призывать столько человек в армию. Фронту не хватает тёплых вещей. И если на нас – лётчиков всем обеспечивают, то до вашего брата – пехотинца не всегда доходит, а чаще всего не хватает.
И тут пошел партхозактив отчитываться перед народом.
– С июня 1941-го по февраль нынешнего года по Ямальскому району было подписано по государственному займу 210 тысяч рублей, – не то секретарь райкома, не то предисполкома зачитывал. Заранее подготовился. – Собрано 2550 штук теплых вещей – все отправлены в Фонд обороны. К тому же и в частном неорганизованном порядке жители Ямальского района отправляют посылки на фронт с тёплыми вещами, как родственникам, так и ''неизвестным бойцам'' с письмами.
– У нас в Новом порту, – отчитывался мужик рабочего вида, – 23 тысячи рублей собрано на строительство танковой колонны ''Омский колхозник''. Это не считая того, что новопортовские рыбаки вдвое увеличили улов обского осетра, муксуна, ряпушки, щёкура, который составил свыше 830 центнеров.
– У нас в колхозе ''Красная Москва'' ударница Марина Вэнго создала женскую ненецкую рыболовную бригаду. И мы докажем, что женщины Севера ни в чем не уступят мужчинам. И с самого начала вольёмся в движение двухсотников, – выкрикивала с каким-то остервенением девушка-нацменка.
– Кто такие двухсотники? – спросил я Гулина.
– О! Это такой важный почин снизу у нас. Двухсотники – это те, кто выполняет норму на сто процентов и больше. – Хвалится Петр Иванович, словно сам за каждого по две нормы выполняет.
Но тут нас перебил звонкий мальчишеский голос.
– Мы, комсомольцы-селькупы, зимой ловили куропаток, добывали пушного зверя. Все это мы сдали государству. Нам объяснили, что мех – это то же золото, за которое Англия продает нам оружие. Нам бы патронов побольше, а то над каждым трясёшься…
– Не только селькупская молодёжь заменила отцов и старших братьев на охоте. Наиболее отличились в этом комсомольцы Самойлов и Кугаевский из посёлка Яр-Сале. А в Надымском районе семнадцатилетняя девушка-ненка Вэла Опту добыла за зимний сезон 360 белок, перевыполнив взрослую норму на 150 процентов. Мы ее представили на почётное звание ''стахановец военного времени''.
– Я вам про наболевшее скажу: о бочкотаре. Железа не стало на обручи, выкрутились дедовским способом. Вязали обручи из тальника. Так тут другая напасть – недостаток леса на клёпку. И если с сухосоленой рыбой можно обойтись просто плетёными из того же тальника корзинами, то рыбу в рассоле куда складировать?
Другие не отставали и каждый о своём речи вёл. Народ внимал, несмотря на пятнадцатиградусный мороз. И, видно, что ему это интересно.
Так, что митинг получился отчётным и зачётным для местного начальства. Даже фотограф присутствовал. Начальство тоже желает иметь почётное звание ''гвардейца тыла''.
Самой трудной задачей для меня было отказаться от распития спиртосодержащих напитков с начальством после таких мероприятий. А зачем мне ребёнок, по пьяночке заделанный? Отговаривался, что врачи запретили на время лечения спиртное напрочь. Иначе потом в небо летать не пустят. Слава богу, сочли причину уважительной.
Ваня-хант, видать, живёт тут очень непросто, постоянно застегнутым на все пуговицы. Весь на юру, доступный всем ветрам и взглядам. По душам поговорить не с кем, чтобы так, без последствий. Его и так в Лабытнанги как в ссылку отправили, хоть и на повышение. На ''армейские деньги'' он полковник.
– А всё началось с заготконторы, – покачав головой на мою трезвость, хряпнул он стопку самогона. – Я тогда здесь, в Салехарде в лейтенантах служил, даже не в старших. Вдруг в городе стал по рукам ходить неучтенный сахар-песок. Много. А время было такое – еще карточки не отменили. Всех, кого можно обыскали. Мать твою и то трясли, все подворье обшмонали, хотя у нее репутация честнейшего человека. Всех протрусили – везде, что по бумагам, что по натуре – тютелька в тютельку. До грамма. Откуда спекулятивный сахар берётся? Без понятия! Дошло до Тюмени. Приехал оттуда целый старший майор и говорит мне: не раскроешь – пойдёшь в рядовые милиционеры, раскроешь – верти в петлицах дырки под вторую шпалу. И хрен бы я что раскрыл, если бы твоя мать не заметила, что свеженький, присланный с Тюмени, с Облпотребсоюза на вырост в местные начальники, молодой приказчик Лазарь Окунь, у каждого вновь раскрытого мешка с сахаром на ночь ставит ведро с водой. А утром ведро пустое. Потянул я эту ниточку и посадил почти весь Тюменский Облпотребсоюз. Они эту аферу с сахаром в двух десятках посёлков уже вертели и на том останавливаться не собирались. Печенье в ту же схему запустили и чай. Но там навар не тот. Всех на нары определил. И самого главного потребсоюзника – товарища Аршкопфа Романа свет Ароновича паровозом пустил. Только его у меня из рук НКГБ вынуло. Пошел Роман Аронович по этапу не как крадун-растратчик, а по пятьдесят восьмой статье, как троцкист, не разоружившийся перед партией. И потащил Роман свет Ароныч за собой столько народу по области и не только, что наши чекисты ордена получили за раскрытие особо крупного заговора.
– Но шпалу-то тебе дали?
– Дали. Но в Тюмень, как надеялся, не взяли. А тут в округе на меня стали со всех кабинетов косо смотреть. Каждый же в чем-то замешан. То, что в Москву осетровые балыки да муксуна чемоданами отсылают в Разпредупр, чтобы по ротации куда-нибудь в теплые края распределили, тут вообще почитается за мелочь. А балыки эти, как сам понимаешь, неучтенные нигде. В итоге кинули мне еще шпалу в петлицу и сослали за речку в Лабытнанги большим начальником, на железной дороге хищения искать. Мое счастье, что я еще нацкадр, русского давно бы уже замордовали.
– Ну, за твое хантыйское счастье, – поднял я рюмку с морсом чокнуться.
– А у тебя какое счастье? – повторил мой жест Ваня самогоном.
– У меня? Еврейское, какое же еще? – смеюсь.
– А что такое еврейское счастье?
– Еврей покупает яйца по рублю за десяток, варит и продает вареные по рублю за десяток. В чем гешефт? – спрашивают. Отвечает: во-первых, я при деле, а во-вторых, навар мой.
– У нас счастье лучше, – смеётся Ваня. – Наше счастье: украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить.
– Как дальше жить думаешь? – интересуюсь у одноклассника.
– Достиг я в карьере своего потолка. Выше, Лёша, меня уже не пустят. Жениться думаю, детей завести пяток, да и врастать в Лабытнанги. Место это, если подходить как к своему, очень даже неплохое. Опять же ''чугунка'' есть. Она работы будничной исправно подбрасывает.
– Присмотрел уже: на ком жениться?
– Есть. Как не быть? Хорошая девочка. Красивая. Коми по национальности. Только подарка необычного требует.
– Что требует?
– Иголку необычную, чтобы шкуры хорошо шила. А где я ее возьму, если по всей округе обычную-то иголку не найти. Это я тебе говорю. Я тут, что угодно найти могу, кроме того, чего вовсе нет.
– Подожди, – хлопнул я его по плечу и вышел в комнату.
Обратно вошел уже с парусной боцманской иглой в руках.
– Такая подойдёт?
– Лёша, благодетель! – взревел обрадованный жених. – Это откуда такая роскошь?
– По случаю досталась, – пожал плечами. – Такой иглой паруса сшивали в царском флоте. Владей. Тебе мой подарок на счастье.
– Проси, что хочешь? – бормочет Ваня, вертя большую бронзовую иглу в руках.
– От тебя? Самую малость: если меня убьют, то помоги матери оформить Лизиного ребенка, как моего законного сына.
– А ты, я смотрю, еще тот ходок. Когда только успел?
– Дурное дело оно нехитрое. Так получилось. Но о ребенке я должен позаботиться заранее.
– Можешь не беспокоиться. Чем могу всегда помогу.
Стукнула в сенях дверь – или мать с работы, или Лиза со школы.