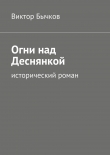Текст книги "Еврейское счастье военлета Фрейдсона (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Старицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Большинство комментаторов и у нас и на западе называют дату первое сентября 1939 года. Но… в этот день началась не мировая, всего лишь германо-польская война. И началась она как региональный конфликт, также как нападение Италии на Эфиопию в 1935 году или нападения Японии на Китай в 1937 году. Но вот объявление войны самой Германии со стороны Англии и Франции и их колоний третьего сентября 1939 года моментально превратило германо-польский конфликт в мировую войну, которая грохочет сейчас по всей планете. Итак, начало второй мировой войны 3 сентября 1939 года. Остальные страны уже присоединялись к тому или иному военно-политическому блоку. И так было до нападения фашисткой Германии на СССР. Для нас эта война является справедливой, освободительной… воистину Отечественной, каковой являлась в начале девятнадцатого века война против Наполеона. И будьте уверены, товарищи. Победили Наполеона, победим и Гитлера. Нет в этом никаких сомнений. А Бонапарт ведь в восемьсот двенадцатом году Москву даже взял и сжег…
Вечер вопросов и ответов продолжался до ужина.
На помощь политруку пришел комиссар. Говорить так красиво и эмоционально как Коган он не умел, но говорил грамотной речью. Хотя и суховато.
После ужина была баня, куда мы вместе с Данилкиным шкандыбали уже сами, а Ракова на носилках носили санитары.
Выдала мне пожилая угрюмая санитарка с отёчными ногами бахилу из клеенки на завязках – гипс не мочить, кусочек темно-коричневого хозяйственного мыла и лыковую мочалку – пучок плоских пластин древесного луба. И терли мы друг друга этим предметом народной пытки с плохо пенящимся мылом, аж похрюкивая от удовольствия и только и сожалея, что парной тут нет, как нет.
– А смена белья будет? – кто-то крикнул сквозь туманную взвесь испарений от противоположной стены мыльни.
– А как же, – подхватил Раков, – наша палата будет меняться с вашей.
Но свежее белье всё же выдали. Даже новое совсем. Ни разу не надёванное. Везёт мне – чуть ли не каждый день белье меняют.
– Кто знает: завтра кино показывать будут? – спросил Раков перед сном.
– Коган вернется – у него спросишь. Он теперь здесь главный по развлечениям, – ответил ему Данилкин. – Если вернется в палату…
Судя по тому, что стол в палате занят рулоном ватмана, коробкой разноцветной гуаши, пузырьками с тушью и прочими агитационными принадлежностями политрук в нашу палату возвращаться планировал.
Кавалерист помолчал немного и добавил.
– А все-таки… что ни говори…. но ходить, пусть и на костылях… гораздо лучше, чем лежать пластом. Ничего, братва… Будем жить… Назло врагам. Они рушат, а мы все опять отстроим… красившее, чем было. Обязательно. Ариэль, курить будешь?
– Спасибо, но не хочется что-то, – ответил я.
Мне не хотелось курить. Мне хотелось Сонечку. Но ее и сегодня в госпитале не было.
Я спал. Мне снился зеленый крапивный болгарский шампунь в прозрачном пластиковом флаконе, в руках моих зажаты две голубые поролоновые губки – мягкие, нежные, в срывающихся хлопьях пышной мыльной пены. А между этими губками зажмурив глаза, счастливо улыбаясь, вальяжно потягивалась голенькая Сонечка, благодарно принимая от меня необычную ласку.
4.
Утром подняли меня еще до подъема тихой побудкой.
Дежурная сестра с заспанным мятым личиком равнодушно выдала мне баночку из-под майонеза, пустой спичечный коробок и одноразовый деревянный шпатель которым доктора любят лазить в глотки пациентам, приговаривая: ''Скажите а-а-а-а…''. Молча зевнула, типа, что с мен взять кроме анализа и махнула рукой в сторону туалета. Подождала меня в коридоре и отвела меня в полуподвал. Причем мои вымученные с ранья анализы она торжественно несла впереди в эмалированном судне таком кривом. Коробок завернула в оберточную почтовую бумагу и подписали ''Фрейдсон'', чтобы случаем не перепутали. А баночку сверху закрыла пергаментной бумагой и замотала такую импровизированную крышку ниткой, а вот подписывать не стала. Никакой логики в действиях.
Оглядывал я всю дорогу аппетитные колыхания симпатичной медсестричкиной кормы, припомнился мне анекдот армейский. Генерал на пенсию выходит, медкомиссия, анализы… Медсестра ногу подвернула и баночку с его мочой разбила. Испугалась. По-быстрому осколки замела, замыла, другую баночку достала и сама в нее напрудила… и шито-крыто все.
На следующий день вызывает генерала начальник госпиталя и, мнясь, ему сообщает.
– Все у вас в порядке, товарищ генерал. Разве что вот… по анализу мочи выходит, что вы беременны, – и руками разводит, мол, я тут не виноват.
– А что?… – генерал спокойно подкручивает ус. – Все может быть. Все может быть. По службе тридцать лет сношали не вынимая.
А вот, наконец, и лаборатория в белом кафеле вся, в белой мебели. Стекло кругом в самых разнообразных видах как в террариуме, в котором живет… черепаха Тортилла. Нет, женщина, конечно, даже в белом халате и со шпалой в зеленой петлице, но уж больно похожа. Фигура плоская, шея кожистая, нос крупный, рот широкий и очки с толстыми линзами. Лет так сорока. Ровесница века…
– Доброе утро, молодой человек, – здоровается она, кивая белой шапочкой-таблеткой. – Садитесь, вот сюда. Костылик можете пока отставить в сторонку. Буду вас вампирить. Пить вашу пролетарскую кровь.
– Я из крестьян, – возражаю из вредности.
– Мда?… – поднесла она какой-то бланк почти вплотную к очкам. – А написано Фрейдсон. Вы из-под Одессы?
– Нет, я с Урала.
– Еще интереснее, – улыбнулась врачиха. – Точно сны Фрейда. В Гражданскую там застряли?
– Не помню. Я теперь много чего не помню. Я об землю без парашюта упал. С тех пор и не помню… Простите, не знаю вашего имени-отчества
– Ой, что это я так… – смутилась врачиха и представилась. – Берта Иосиповна Гольд, биохимик.
– Берта Иосифовна, – повторил я, мягко ее поправляя.
– Никак нет, – улыбнулась врачиха. – Именно Иосиповна. Через букву ''Пэ''. Именно так моего отца писарь в кантонисты записал. Давно. До исторического материализма еще. Вы крови не боитесь?
– Я вообще-то, Берта Иосиповна, Герой Советского Союза, – надулся я. Мне вдруг стало за Фрейдсона обидно.
На что биохимик Гольд только что руками не всплеснула.
– Ой…. Не видала я героев, которые от вида собственной крови в обморок брякаются как барышни на выданье в мужской бане. Хотя чужую лили только в путь. Только честно – боитесь?
– Не знаю, – честно ответил я. – Не видел я еще своей крови после того, как воскрес.
Врачиха засмеялась заразительно. А отсмеявшись, по-доброму так предложила.
– Вы чаю хотите?
– Очень хочу, – сознался я.
Меня еще не кормили и не поили. Даже водой.
– Тогда ускоряем процесс… давайте сюда ваш пальчик. Кровь надо брать натощак. И можете отвернуться. Ваша мужественность в моих глазах не пострадает. Я вспомнила, что слышала о вас. О вашем беспарашютном падении.
Говорила, а сама колола мне пальцы и цедила из них ярко-алую кровь по двум десяткам тонких трубочек. Потом капала на маленькие стеклышки, размазывала по ним капли моей крови тонким слоем. И напоследок большим толстым стеклянным шприцом откачала у меня из вены грамм сто темной бордовой крови, больше похожей на выдержанное вино сорта ''нэгро''.
Крови я не испугался. О чем с гордостью тут же заявил врачихе.
– А почему у меня анализы только сегодня берут? – поинтересовался.
Врачиха усмехнулась.
– Я тут служу только по выходным. А так по жизни я научный сотрудник Института биохимии в Академии наук. Летом сбежала на фронт, так как я все же окончила медицинский, а не биофак или химфак университета как остальные у нас… И посчитала, что я не вправе отсиживаться в тылу. Но академик Бах пожаловался лично Сталину, что военные отняли у него ''руки'' по важнейшей теме ''химии ферментов''. И меня вернули обратно аж из Смоленска как нашкодившую кошку под конвоем. Вот так вот, – вздохнула она горестно. – Не вышло из меня героини. Увольнять меня из армии не стали, поступили хитрее. Главсанупр[17]17
ГЛАВСАНУПР – Главное санитарное управление Наркомата обороны СССР.
[Закрыть] определил меня сюда врачом-лаборантом и тут же отправил в местную командировку в Академию наук – Баху с Опариным на расправу. Но один день в неделю я обязана отработать на армию, – улыбнулась она. – Так что живу без выходных.
Оставив возню с кровью, врачиха срезала с меня клок волос из-за уха, собрала стриганки с ногтей, кусочки кожи… все это разложила по разным коробочкам.
– Это зачем? – удивился я.
– Приказано сделать вам полное обследование, включая биопсию и сравнить с теми анализами, которые я делала при вашем первичном поступлении сюда. Я только исполнитель. – Берта Иосиповна снова поднесла вплотную к очкам какой-то листок и прочитала, – двадцать восьмого ноября прошлого года.
– Как же вас с таким зрением в армию призвали? – удивился я.
– Я их таблицу выучила наизусть. А очки одела такие, чтобы только видеть, куда окулист указкой тыкает, – цыкнула врачиха зубом этак с гордостью. – Ну вот, как раз и чайник вскипел. Вы любите чай пить покрепче или пожиже? А то академик Бах как придет к Опарину в лабораторию, то всегда приговаривает, что ''хозяин русский, а чай жидок''.
– Если есть такая возможность, то покрепче, – улыбнулся я этой доброй женщине.
Мы пили чай, наслаждаясь процессом. С вкуснейшими горчичными сушками-челночками.
Потом только я пил чай, а Берта Иосиповна быстро манипулировала трубочками, пузырьками и реактивами, не уставая говорить со мной о химии, в которой я неожиданно проявил вполне приличные знания. Откуда я это знаю? Не спрашивайте, тогда я не скажу вам куда идти. Не знаю! Но… знаю. Такой вот парадокс.
– Вы не тем занимаетесь по жизни, – в конце беседы заявила Берта Иосиповна, – в вас пропадает исследователь с широким кругозором. Если вас комиссуют, то я готова составить вам протекцию к нам в институт.
– Я летать люблю. И к тому же у меня нет образования, – отмахнулся я.
– Зато есть Золотая Звезда, которая откроет вам двери любого учебного заведения. Можно ведь и вечером учиться? – наставительно наседала она.
''Мышь, высохшая в лаборатории'' – так называл таких женщин один из моих знакомых. Кто?.. Не помню.
– Вы успели защитить диссертацию? – сменил я тему. Человек… любой человек все же охотнее всего говорит о себе любимом.
– Нет, – улыбнулась она. – Сбежала на фронт. Как из-под венца. А потом ученый совет эвакуировался в город Фрунзе[18]18
совр. Бишкек.
[Закрыть]. Но какие мои годы… Вернется Академия из Средней Азии – защищусь.
– Берта Иосиповна, а кому понадобились мои повторные анализы?
– Вашему лечащему врачу и этому… Ананидзе, – прыснула она в кулачок.
Так… Опять Ананидзе. А я уж было расслабился. Грешным делом подумал, что на воду дует доктор Туровский, раз молоком обжегся.
Ладно…
Еще не вечер…
Не будем упиваться грядущими бедствиями.
Может еще и пронесет.
В палату вернулся как раз к утренней сводке.
''В течение ночи на четвертое января наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Заняли ряд населенных пунктов и в их числе город Боровск'', – вещала черная тарелка красивым женским голосом. – 'За третье января уничтожено девятнадцать немецких самолетов. Наши потери пять самолетов. Части нашей авиации уничтожили двадцать три немецких танка, три бронемашины, более двухсот девяносто автомашин с пехотой и грузами, около ста повозок с боеприпасами, автоцистерну с бензином, взорвали склад с боеприпасами, сожгли четыре железнодорожных эшелона. Рассеяли и уничтожили до двух полков пехоты противника''.
– Обхода еще не было? – спросил я, после того как закончилась сводка.
– Дык, и завтрака еще не было, – откликнулся танкист. – И брадобрей пока не появлялся.
– И политрук наш куда-то свою однорукую шкуру занес, – добавил кавалерист. – Курить пойдем? Пока время есть.
– Хорошо, что я бросил эту вредную женскую привычку, – сделал Раков многозначительную рожу.
– Почему женскую? – купился Данилкин.
– А ты присмотрись. Бабы так до войны табак не смолили.
– У нас, между прочим, в стране половое равноправие, – заметил я. – Что и отражается в продпайке на табачном довольствии.
– У-у-у-у-у… Уже начитался, – Раков взял баян и отвернувшись от нас заиграл ''Старенький дом с мезонином''.
А после завтрака понеслось… ЛФК, динамические мышечные нагрузки и реакции на них, разве что бегать не заставляли, зато приседал на одной ноге, держа гипс на весу под секундомер до и после. Такое ощущение, что меня проверяли на готовность к вступлению в отряд космонавтов.
В палату приполз исключительно на морально-волевых. Упал на койку и тупо уставился на то, как Коган ваяет на ватмане траурное объявление по полковнику Семецкому.
– Саш, ты случаем на художника не учился? – спросил, глядя, как четко он выводит буковки гуашью.
– Нет. Специально не учили нигде, разве что только в бойскаутах. При НЭПе еще. Но считаю, что пропагандист должен уметь все: и писать, и рисовать, и грамотно речь толкать. Все сам.
– Как же ты тогда коммунистом стал? – удивился Раков, что даже прекратил свое тихое пиликанье на баяне. – Из бойскаутов-то. Я мальцом помню, как они с пионерами дрались. Сурово махались. Даже шестами, с которыми ни те, ни другие не расставались.
– Люди, Коля, к коммунизму приходят разными путями, – не отрываясь от своего занятия, ответил Коган. – Но потом уже идут, глядя в одну сторону – в светлое будущее.
– Прервись. Покурим, – напросился я.
– Покурим, – согласился политрук. – И конника с собой возьмем. Пойдешь, Иван? – посмотрел он на Данилкина.
Иван кивнул.
А Коган продолжил.
– Кстати я выяснил, что все твои вещи, в том числе и папиросы которые тебе и твои товарищи с полка притащили и в пайке выдали за декабрь, уполномоченный Ананидзе забрал из той палаты, в которой ты до морга лежал. Ну и пьянку же вы там устроили по поводу твоего награждения. Героическую. Где только столько хорошего спирта достали? А на Новый год добавили. Ты и окочурился с перепою в новогоднюю ночь. Пришли вас проведать – все в лежку. Только остальные храпят мертвецки, а ты упился до полной потери пульса. А еще еврей… Вот тебя в морг и снесли. Так что выцарапывай теперь у уполномоченного свое тряхомудие. А там, как сказали – твои летуны с полка ПВО тебя ''Дюбеком'' да 'Северной Пальмирой'' побаловали. – Данилкин на этом месте присвистнул коротко, – И со спиртом тоже они, наверное, расстарались, потому как называли тот напиток мною допрашиваемые загипсованные личности ''ликер Шасси''.
Разогнулся. Осмотрел свое творение, массируя единственной рукой поясницу.
– Ну вот, пусть теперь просохнет, а мы пока покурим и вы – рукастые – мне эту наглядную агитацию повесить поможете в холле.
В обед, поедая пустые капустные щи, я уже вполне успокоился и подумал, что ''тараканьи бега'' отменяются, как меня через дежурную сестру вызвали к товарищу Ананидзе.
''Перетопчется, – подумал я. – Мясные биточки с картофельным пюре да с подливой я тут не оставлю. И вообще у меня законный обед. Вот и пусть этот Ананидзе чтит Устав''.
Кабинет особиста был… если одним словом, то аскетичный. Ничего лишнего. А то, что есть весьма скромного облика.
Сам Ананидзе оказался маленьким плотным в смоль чернявым с глубоко сидящими колючими карими глазками. Казалось, он родился с шилом в заднице. Просто посидеть спокойно пять минут не мог. Вечно вскакивал и нарезал круги по кабинету. Может именно поэтому протокол вел приткнувшийся в углу молодой молчаливый сержант госбезопасности с сытой мордой, однако, носящий в петлицах вместо треугольников по два кубаря. Сам Ананидзе к моему удивлению хвастал комиссарской звездой на рукаве гимнастерки и именовался званием ''политрук''. В петлицах он гордо нес такие же три кубаря, что и мне положены. Возраста он был на взгляд неопределенного.
– Опаздываете, товарищ, – встретил меня уполномоченный недовольным тоном.
Я нарочито постучал костылями по полу и заявил на такой прикол с его стороны.
– В следующий раз посылайте за мной двух рысаков с носилками. Будет быстрее, чем я сам на костылях пришкандыбаю. И то только после обеда. Так зачем я вам понадобился?
– Т-а-а-ак… – протянул Ананидзе, наморщив лицо. – Побеседовать с интересной личностью. Присаживайтесь. Меня зовут младший лейтенант госбезопасности Ананидзе Автондил Тариэлович. Мой ассистент – сержант госбезопасности Недолужко Сергей Панасович. Я уполномоченный Особого отдела по Первому коммунистическому красноармейскому госпиталю.
– Тогда почему на вас форма политрука? – спросил я.
– Приказ наркома обороны. Вы такой не помните разве?
– Нет, – пожал я плечами. – Не помню.
– Тогда не будем терять время. Побеседуем? – предложил он.
Сержант в углу в разговоре участия не принимал. Прикидывался ветошью. Очинял карандаш. Аккуратно и неторопливо.
– А мы что делаем? – удивился я.
– Треплемся мы, – ухмыльнулся чекист, – а должны беседовать. Я же должен в ходе этой беседы вам задать несколько вопросов.
– Спрашивайте, – разрешил я ему и мой тон чекисту явно не понравился. Это видно было по его лицу.
Первый его вопрос меня прямо ошарашил.
– Ваше имя, отчество и фамилия?
– Ойц! – скопировал я Когана. – Как будто вы его не знаете? – удивленно спросил я.
Спрятав свое раздражение, особистский политрук Ананидзе практически спокойно пояснил.
– Ведется протокол, так положено. А что я знаю или не знаю это не существенно. Существенны только ваши ответы.
Сказал бы я им что положено, на кого положено и как положено, но доктор позавчера предупредил, что надо быть терпеливым и, по возможности, вежливым.
– Мне сказали, что зовут меня Ариэль Львович. Фамилия – Фрейдсон.
– Кто сказал?
– Доктор Туровский, военврач второго ранга.
– А сами вы что скажете, без Туровского.
– Не знаю. Точнее, не помню.
И так по всей паспортной части анкеты прошлись. Ананидзе старался быть терпеливым и только один раз сорвался. Когда я, усмехнувшись ему в лицо, заявил что переспрашивать по нескольку раз уже известную ему информацию про мою национальность – это как бы ''за гранью бобра и козла''. И добавил.
– Вы антисемит?
У Ананидзе даже акцент прорезался.
– Гинш! Ты чито себе думаешь, что если грузин вспильчивый, его дразнить можно? Да? Умный. Да? У нас такие умные свои мозги на параше высирают. Понял. Да?
– Не понял, – честно ответил я. Никакой вины я за собой не чувствовал.
Сержант-протоколист оставался невозмутимым как олимпийский бог и только химическим карандашиком чиркал себе по бумаге плохого качества. А особист к моему удивлению быстро взял себя в руки, успокоился и уже совершенно без акцента задал очередной вопрос.
– То есть вы без посторонней помощи не можете ответственно заявить, что вы это и есть старший лейтенант Фрейдсон? Летчик-асс. Тысяча девятисот семнадцатого года рождения.
Я пожал плечами.
– Прошу вас отвечать на поставленный прямо вопрос, – снова особистский политрук вскочил со стула и стал ходить по комнате за моей спиной, постукивая ладонями по ляжкам.
Сознаюсь, это слегка нервировало.
– С момента моего воскрешения, – я постарался говорить спокойно и подбирать слова, – я помню только то, что произошло после этого знаменательного события. Что было до него – вся моя жизнь, для меня сокрыто мраком. В том числе и мое имя.
– Вот, – с удовольствием заключил Ананидзе, – Сержант, прошу обязательно включить последний ответ в протокол. – Это очень важно. А за что вы получили орден?
– Не помню.
– В какой летной школе учились? В каком городе?
– Не помню.
– Когда школу Абвера закончили?
– Не помню.
– Вот ты мне и попался, – обрадовался Ананидзе, – гнида фашистская. Шпион гитлеровский.
– Я не могу быть гитлеровским шпионом – я еврей, – спокойно ответил я.
– Ой-ой-ой… – гаерничал чекист. – Как будто мы евреев не видели в роли немецких шпионов. Кстати, твоя подельница уже во всем созналась, встала на путь исправления и сотрудничества со следствием. И тебя во всем изобличила.
Он раскрыл папочку с крупным заголовком ''Дело'' и показал мне издали в ней подшитые листочки из школьной тетрадки в косую линейку с крупным округлым почерком. И даже помахал этой папочкой слегка.
– Бред какой-то, – наверное, глаза у меня стали круглыми.
– Откуда вы можете знать что бред, а что не бред? Вы же, назвавший себя Фрейдсоном, утверждаете, что ничего не помните. Или вспомнили, как вместе со свой подельницей – гражданкой СССР Островской Софьей Михайловной, тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения, с преступной целью заменили в морге госпиталя труп умершего от ран Героя Советского Союза летчика Фрейдсона?
– Вам бы романы писать про майора Пронина, – усмехнулся я.
– Кто такой майор Пронин?
– Не помню.
Действительно не помнил. Фамилия ''Пронин'' как-то сама собой из меня выскочила.
– Мы проверим. Мы всех проверим. И Пронина вашего проверим. Мы все кубло ваше вычистим, – натурально слюной брызнул Ананидзе. – От карающего меча партии не скроется никто!
– Где Островская? – спросил я, весьма озадаченный.
– Там, где надо, – буркнул Ананидзе. – Мой вам совет: лучше сознайтесь сразу и сами. Чистосердечное признание облегчает вину.
– Наверное, облегчает, – ответил я на эту филиппику. – Только вот в чем вопрос: я ни в чем не виноват. Облегчать мне нечего.
– Запираетесь? Запирайтесь! Не вы первый не вы последний. Итак… по поводу вашей так называемой ретроградной амнезии вы обязаны пройти квалифицированную комиссию в специальном институте НКВД. И когда будем иметь на руках обоснованное заключение ученых о вашей вменяемости и нормальной памяти, то поговорим уже по-другому. А там и до трибунала недалеко. В Москве все недалеко. Хоть в этом вам повезло.
И стал писать какую-то бумагу. В двух экземплярах. Оторвался от этого занятия только один раз, когда сержант положил ему на стол протокол беседы.
– Пишите, что с ваших слов записано правильно, – пододвинул Ананидзе ко мне этот протокол. – И поставьте подпись.
– А если не подпишу? – спросил я.
На что особист заметил притворно-ласковым тоном.
– Не поможет. Мы с сержантом подпишем акт о том, что вы отказались от подписи и приложим его к протоколу. Будете подписывать?
– Нет, – твердо сказал я. – Это же беседа, а не допрос. Раз допроса нет, то, скорее всего, у вас и уголовного дела на меня нет. Меня из партии никто не исключал, чтобы отдавать под следствие.
По поводу членства в партии и уголовных дел меня в курилке Коган уже просветил. Коммунисты в СССР формально под суд не попадают. Их предварительно и своевременно исключают из партии. А если суд оправдает, то и в партии восстановят без проблем и без перерыва в партстаже.
''А Сонечку я тебе, гнида, не прощу…'' – подумал я мстительно.
Ананидзе снова перешел на наставительный тон.
– Нахождение вас в рядах партии не мешает органам проводить определенные оперативные мероприятия, – улыбнулся особист победоносно. – Сержант, проводите лицо называющего себя Фрейдсоном на психиатрическую экспертизу. Там уже ждут.
И протянул ему листок, который только перед этим исписал и даже поставил на него фиолетовую печать.
– Вставайте и пошли, – сказал мне сержант, надевая белый полушубок и затягивая на нем ремни. Листок, полученный от Ананидзе, он засунул в кожаную планшетку.
– До встречи, – кивнул мне Ананидзе. Он оставался в кабинете и даже не встал из-за стола, прощаясь. Вынул папиросу из черной картонной коробки и постучал ей о столешницу, другой рукой охлопывая карманы в поисках источника огня.
За дверью нас ждал еще один мордатый сержант госбезопасности уже в полушубке и валенках.
– Нам усим наливо, – сказал он негромко.
И рукой показал.
И все.
Неразговорчивые сопровождающие мне достались.
Мы пошли налево, и вышли в холл, где уже висело траурное объявление по полковнику Семецкому ''Смерть вырвала из наших рядов…''. Коган и Данилкин втыкали в щит объявлений последние кнопки. Данилкин держал, а Коган втыкал.
Я с сопровождающими прошел мимо них, кивнув успокаивающе.
Дальше был гардероб для посетителей, забитый шинелями личного состава формируемых санитарных поездов. За стойкой дремал седой дед в черной овчинной телогрейке поверх белого халата исполняющий видать сегодня роль гардеробщика.
Я, стуча костылями, направился в его сторону. Потому как резонно рассудил, что должны меня для улицы обмундировать соответствующе. Сержанты гебисткие оба сами в добротных романовских полушубках, валенках и меховых ушанках. На улице морозно не по-детски.
Тут меня окликнул второй сопровождающий. Недолужко все больше в молчанку играл.
– Куди, холера, побиг, – услышал я в спину.
– Как куда? – удивился я, оборачиваясь. – Одеваться для улицы.
– Не потрибно. У довгий направо и на вихид. Там у двори нас автобус чекаэ. В ньому пичь топиться. Жарко буде дюже.
– Не… так не пойдет, – покачал я головой и демонстративно покрутил босой ногой обутой только в тонкий кожаной тапок без пятки. – Не положено так красному командиру.
Недолужко стоял рядом и делал вид, что его это совсем не касается никак.
Второй сержант аж пятнами пошел по лицу от злости.
– А ну вороши милицями, жидок порхатий. Буде тут вин мени указвати що належить, що не належить.
Подскочил борзо ко мне и толкнул в спину, указывая направление. Я еле на ногах устоял.
Вот они – ''тараканьи бега'', – понял я. – Начались. И еще понял, что из госпиталя уходить мне нельзя, ни под каким видом. Пропаду, и звезда героя не поможет.
Уперся устойчиво костылями с паркет и лягнул со всей дури назад загипсованной пяткой этому гебистскому антисемиту в колено. Хорошо пошло. Давно известно, что чем больше шкаф, тем громче он падает.
Он и упал, заверещав, как хряк перед зарезанием.
– Ой, мамо, вин мене вбив. Ой, як боляче. Шмаляй його, Недолужко.
Недолужко, на ходу вынимая из кобуры пистолет, двинул в мою сторону. Молча. Ошибка было его только в том, что он подошел ко мне слишком близко.
А у меня в руках все же костыли. Твердые да длинные. И на гипсе я уже вполне уверенно стою.
Костылем снизу по запястью и пистолет улетел в сторону.
Наотмашь костылем по наглой упитанной морде. Нажрал, гад, ряшку на госпитальных харчах раненых объедая.
И еще тычком костыля в ''солнышко'' так, что он на задницу сел. А потом и лег.
Второй сержант гебешный все это время жалобно по-собачьи скулил с закрытыми глазами, обхватив руками травмированную коленку. В таком полушубке валяться на паркете ему было, наверное, мягко. И тепло. Не простудится.
Заорал и я.
– Тревога! Диверсанты! Тревога! Нападение диверсантов!
Не прекращая орать тревогу, подобрал пистолет от Недолужки с паркета. Оказался тривиальным ТТ. Осторожно оттянул затвор – ствол без патрона. Все по уставу. Стрелять в меня Недолужко не собирался, только попугать хотел.
Передернул затвор и повернулся. Вовремя, однако. Второй сержант, не переставая рюмить, подвывать и подскуливать, тянул из своей кобуры дрожащей рукой Наган.
– Стоять! Оружие на пол, иначе стреляю наповал, – в коридорном проеме политрук Коган картинно нарисовался в дуэльной позе, сжимая в кулаке вытянутой руки маленький треугольный пистолет богато блестящий хромом и никелем.
Дед в гардеробе тоже откуда-то вытащил короткий артиллерийский карабин и нервно дергал его затвор.
Сержант гебешный все же попытался дрожащей рукой поднять револьвер в мою сторону.
Коган выстрелил, выбив щепку из паркета рядом с валенком сержанта.
– Следующая пуля в голову, – уверенно сказал политрук. – Оружие на пол.
Сержант нехотя подчинился.
– Отбрось револьвер в сторону летчика.
Наган, вертясь, покатился по натертому паркету в мою сторону.
– Ари, подбери, – это Коган уже ко мне обратился, не спуская глаз с сержантов.
Я подобрал.
Комично, наверное, смотрюсь. В больничном халате. С загипсованной ногой, с костылями под мышками и в каждом кулаке по увесистой вороненой стрелялке.
Мужик в гардеробе стоял в полных непонятках – в кого стрелять? Вроде тут все свои. Но винтовку на всякий случай в нашу сторону направил.
Из коридора раздался топот тяжелых ботинок и через несколько секунд со стороны холла ворвались трое санитаров с винтовками, а за ними комиссар госпиталя с автоматом ППД в руках. Старой модели. Еще с рожком.
– Коган, объяснись: что происходит? – отдуваясь, потребовал полковой комиссар.
– Вот эти двое диверсантов только что попытались выкрасть из госпиталя Героя Советского Союза Фрейдсона.
Надо же, как Саша быстро соображает.
Но комиссар недоверчив.
– Кузьмич, это так? – спросил он гардеробщика.
– Точно так, товарищ полковой комиссар, эти в полушубках стали этого ранбольного пихать к дверям, а тот стал отбиваться от них костылями, поднял тревогу и кричал ''диверсанты'', – ответил он.
Недолужко лежал как бы без сознания, но ресницами хоть и редко, но подергивал. Из разбитого носа текла кровь тонкой струйкой. Главное, живой. Лишний грех на душу мне брать не хотелось.
Второй сержант, отставив тихий скулеж обиженной дворняжки, снова принялся за ''плач Ярославны'' но уже исключительно для комиссарского слуха.
– Вин мэнэ закатував. Вин мэни ногу поломав. Явне напад на спивробитника органив пры виконанни. Арештуйте його, товарищу комиссар, вин, стэрво, германьский шпигун, у-у-у-у-у… Ненавиджу!
– Этих горе-конвоиров освободить от верхней одежды и в процедурную – готовить к операции, – с ходу распорядился по поводу потерпевших сержантов, нарисовавшийся у гардероба с неизменном в последнее время окружении ''цветника'' медичек, доктор Туровский.
Медички тут же поспешили выполнить его указания.
– Планшетки их отдайте мне, – приказал комиссар. – И доложите что с ними?
– Перелом ноги у одного, сложный, и перелом носа у второго. Точнее надо осматривать в соответствующем освещении и необходимыми инструментами, товарищ полковой комиссар.
Туровский был собран, точен и уверен в своем диагнозе.
А вот комиссар впал в некую задумчивость.
– Богораза нет в госпитале. Сами будете оперировать? – спросил он врача.
– Зачем? – пожал плечами Туровский – В госпитале хирургов навалом именно сейчас. Пусть тренируются.
– Действуйте, товарищ военврач второго ранга, – отпустил его комиссар.
И вскоре, сдав шапки-валенки-полушубки сержантов в гардероб, санитары принесли для них носилки. Уложили и понесли.
– Недолужко, Вашеняк, что здесь происходит, черт возьми?! – О, и Ананидзе нарисовался для полного комплекта.
– Мени тут закатувалы, товарищу Ананидзе, – пожаловался Вашеняк с носилок, а Недолужко продолжал прикидываться ветошью.
– А вот это я как раз у вас и хотел спросить, товарищ Ананидзе, – повернулся к нему комиссар, одновременно делая рукой врачу знак, чтобы носилки уже уносили. – Куда ваши сержанты так усердно волокли товарища Фрейдсона? – комиссар сделал звуковой акцент на слове ''товарища''.
– Ничего особенного, – спокойно и уверенно ответил особист. – Рядовая практика. Отправка ранбольного на экспертизу в институт Сербского.
– Тогда у меня по этому поводу будет к вам несколько вопросов, – не отставал от особиста комиссар. – Во-первых – почему отправляете ранбольного за пределы объекта без соответствующего распоряжения начальника госпиталя. Я как комиссар такую бумагу не подписывал. Во-вторых, почему отправляете среднего командира на эту вашу экспертизу раздетым и разутым, когда на улице мороз минус двадцать два? В третьих, насколько мне известно, институт Сербского по выходным дням не работает.