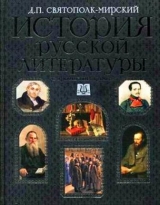
Текст книги "История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский)
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Д.П. Святополк-Мирский
История русской литературы
с древнейших времен по 1925 год
Том 2
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(1881 – 1925)
1
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1881–1925)
Предисловие автора
Глава I
1. КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ
2. ТОЛСТОЙ ПОСЛЕ 1880 Г.
3. ЛЕСКОВ
4. ПОЭЗИЯ: СЛУЧЕВСКИЙ
5. ЛИДЕРЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: МИХАЙЛОВСКИЙ
6. КОНСЕРВАТОРЫ
7. КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
Глава II
1. ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ И НАЧАЛО ДЕВЯНОСТЫХ
2. ГАРШИН
3. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРОЗАИКИ
4. ЭМИГРАНТЫ
5. КОРОЛЕНКО
6. АДВОКАТЫ-ЛИТЕРАТОРЫ
7 . ПОЭТЫ
8. ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
9. ЧЕХОВ
Промежуточная глава I
Первая революция (1905)
Глава III
1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА ПОСЛЕ ЧЕХОВА
2. МАКСИМ ГОРЬКИЙ
3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА «ЗНАНИЯ»
4. КУПРИН
5. БУНИН
6. ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
7. АРЦЫБАШЕВ
8. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ
9. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРОЗАИКИ
10. ВНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГРУППИРОВОК
11. ФЕЛЬЕТОНИСТЫ И ЮМОРИСТЫ
Глава IV
1. НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ
2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: БЕНУА
3. МЕРЕЖКОВСКИЙ
4. РОЗАНОВ
5. ШЕСТОВ
6. ДРУГИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ФИЛОСОФЫ
7. «ВЕХИ» И ПОСЛЕ «ВЕХ»
Глава V
1 . СИМВОЛИСТЫ
2. БАЛЬМОНТ
2
3. БРЮСОВ
4. ПОЭТЫ-МЕТАФИЗИКИ: ЗИНАИДА ГИППИУС
5. СОЛОГУБ
6. АННЕНСКИЙ
7. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
8. ВОЛОШИН
9. БЛОК
10. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
11. МАЛЫЕ СИМВОЛИСТЫ
12. «СТИЛИЗАТОРЫ»: КУЗМИН
13. ХОДАСЕВИЧ
Промежуточная глава II
Вторая революция
Глава VI
1. ГУМИЛЕВ И ЦЕХ ПОЭТОВ
2. АННА АХМАТОВА
3. МАНДЕЛЬШТАМ
4. ВУЛЬГАРИЗАТОРЫ: СЕВЕРЯНИН
5. МАРИНА ЦВЕТАЕВА
6. «КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ» И ИМАЖИНИСТЫ: ЕСЕНИН
7. НАЧАЛО ФУТУРИЗМА
8. МАЯКОВСКИЙ
9. ДРУГИЕ ПОЭТЫ ЛЕФА
10. ПАСТЕРНАК
11. ПРОЛЕТАРСКИЕ ПОЭТЫ
12. МЛАДШИЕ ПОЭТЫ ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
Глава VII
1. РЕМИЗОВ
2. А. Н. ТОЛСТОЙ
3. ПРИШВИН
4. ЗАМЯТИН
5. МЕМУАРЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
6. ШКЛОВСКИЙ И ЭРЕНБУРГ
7. ВОЗРОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ПОСЛЕ 1921 Г.
Paralipomena
1. ДРАМА
2. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Указатель имен и названий
3
Предисловие автора
Эта история русской литературы с 1881 г. (год смерти Достоевского)
задумана как продолжение книги, посвященной более раннему периоду. Я вы -
брал 1881 г. в качестве удобного рубежа – но он ни в коей мере не является
поворотным пунктом для самой русской литературы. Эта дата отмечает скорее
не начало, а конец: конец классического периода русского реализма. Для
проведения более точной границы надо или вернуться к 1845 г., или пройти
вперед к 1895 г. Можно сказать, что первые пятнадцать лет из периода,
представленного в этой книге, являются временем старения, то есть осенью
великой эпохи реализма: величайшая фигура этих лет – поздний Толстой –
человек предыдущего поколения; а второй по величине – Чехов – гений явно
«осеннего» склада. Настоящий новый период, а не отблески старого,
начинается только с развитием революционного реализма Горького, а еще
отчетливее – с антиреалистическим движением символистов. Поэтому трудно
решить, каких писателей нужно внести в этот том, а каких отнести к более
раннему периоду. Однако мне не хотелось делить творчество отдельных
писателей на два тома, за исключением Толстого – фигуры достаточно крупной,
чтобы выдержать такую операцию. Для другой книги я оставил тех писателей,
чье творчество представляет жизненно важную часть движения шестидесятых и
семидесятых годов и непременно должно обсуждаться в рамках этого периода.
Такими писателями являются, например, Салтыков и Глеб Успенский, хотя
многие из их лучших произведений появились после 1881 г. Другие писатели
того же поколения, вроде Лескова и Леонтьева, которые противоречили общему
настрою времен своей молодости и только в восьмидесятых годах приобрели
славу, продолжавшую расти после их смерти, – включены, напротив, в этот том.
В некоторых случаях писатели (особенно Фет), рассматривающие ся в данном
томе сжато, будут более подробно проанализированы в истории предыдущего
периода. Представляя англоязычному читателю современную русскую
литературу, я стремился максимально придерживаться фактов, намеренно
избегая обобщений. Моя книга не претендует на большее, чем служить
Бедекером или Марриевским путеводителем по современной русской
литературе. Общей панорамы, которую так охотно дают иностранцы, не
обремененные слишком большими познаниями, и которую так трудно дать
русскому, чье знакомство с мельчайшими деталями мешает широте обзора, –
так вот, общей панорамы тут не будет. Я буду счастлив, если некоторые новые
факты или мнения, изложенные на этих страницах, изменят упрощенные и
поспешные выводы, сделанные англосаксами (и не только ими) о моей стране.
Но я не тешу себя иллюзиями. У всеведущих гениев Запада вошло в привычку
упражнять свою интуицию на русской теме – здесь они могут двигаться
свободно, не стесненные избыточной, несущественной и ненужной
информацией.
Западные историки русской литературы обычно с самого начала
оповещают своих читателей о том, что русская литература отличается от всех
других литератур мира своей тесной связью с политикой и историей общества.
Это просто неверно. Русская литература, особенно после 1905 г., кажется
удивительно аполитичной, если вспомнить, каких колоссальных политических
катаклизмов она была свидетельницей. Даже разрабатывая «политические»
сюжеты, современные русские писатели остаются по сути аполитичными –
даже когда они заняты пропагандой (как Маяковский), она в их руках
превращается не в цель, а в средство. Я все-таки включил в книгу две
4
промежуточные главки о политике и о взаимодействии политики и литературы.
Я сделал это не потому, что в разговоре об Андрееве и Блоке две революции
важнее, чем гражданская война в разговоре об Уитмене и Уитьере, – а потому,
что (хотя русская революция у всех на устах) очень мало кто из родившихся к
западу от Риги знает хоть какие-нибудь факты, нужные для понимания вопроса.
Если литература сама по себе мало подверглась влиянию политики, то
отношение к русской литературе (а это совсем другой вопрос) всегда
находилось под большим влиянием политических предрассудков. После 1917
года это влияние, естественно, возросло. Многие просоветски настроенные
русские готовы лишить Бунина звания великого писателя за то, что он был на
стороне белых, а многие эмигранты соответственно откажут в этом звании
Горькому, потому что он поддерживал Ленина. Но, к счастью для будущего
русской цивилизации, по обе стороны советского частокола есть люди, не
поддавшиеся «гражданской войне в умах», и число их постоянно растет.
Я не пытался скрыть собственные политические симпатии, и люди,
знакомые с русскими реалиями, легко их обнаружат. Но берусь утверждать, что
моя совесть литератора свободна от политических пристрастий, что как
литературный критик я одинаково честно отношусь ко всем: к реакционеру
Леонтьеву, к либералу Соловьеву, к большевику Горькому, к «белогвардейцу»
Бунину и коммунисту Бабелю. Мои суждения могут быть личными и
субъективными, но эта субъективность вызвана не партийно-политическими, а
литературными и «эстетическими» пристрастиями. Однако и тут у меня есть
смягчающее обстоятельство: я полагаю, что мой вкус до некоторой степени
отражает вкусы моего литературного поколения и что компетентному русскому
читателю мои оценки не покажутся парадоксальными.
Но если русский читатель и поймет меня с первого взгляда, боюсь, что
англосаксонский интеллектуал (ведь на самом деле русской литературой
интересуются только интеллектуалы) найдет некоторые мои оценки в высшей
степени странными. Английские и американские интеллектуалы в своих
оценках русских писателей отстали лет на двадцать – да и двадцать лет назад с
некоторыми их суждениями согласились бы только не слишком образованные
люди. В России большое значение, которое я придаю Лескову, Леонтьеву,
Розанову, символистам (главным образом Белому, а не Бальмонту) и Ремизову,
стало общим местом, тут я не оригинален. Точно так же мое прохладное
отношение к Мережковскому, к Арцыбашеву, к символизму Андреева, к
Горькому (среднего периода), к большей части поэзии Бальмонта –
свидетельство их стадного чувства.
Конечно, нет непогрешимых литературных вкусов, но не надо думать, что
чем они новее, тем точнее. Однако все-таки издалека виднее, и сегодня мало
кто решится судить Роджерса и Вордсворта, как их судил Байрон, или Сюлли-
Прюдома и Малларме – как французские критики 1880-х гг.
Эту книгу я писал в Лондоне и не смог бы написать ее без помощи
Британского музея и Лондонской библиотеки. Британский музей – бесценная
сокровищница русских книг XIX в. Менее полно в нем представлены книги
периода 1900–1914 гг., так как с начала войны их закупка почти полностью
прекратилась. Но, к счастью для меня, библиотекарь Лондонской библиотеки
доктор Хегберг Райт трогательно относится к изучению всего русского и
неустанно пополняет русский отдел своей библиотеки, так что там русская
проза и поэзия последних двадцати лет собраны с той полнотой, которой можно
ожидать в разумных пределах. Достаточно сказать, что без Лондон ской
библиотеки некоторые подглавки моей книги не были бы написаны.
5
Труднее всего мне было с книгами, опубликованными в 1914–1918 гг. Из-
за войны эти книги оказались редкостью в библиотеках Западной Европы.
С другой стороны, советские власти предельно затрудняли вывоз из России
книг, напечатанных до революции. Поэтому мне не удалось воспользоваться
некоторыми важными справочниками (включая такие необходимые книги, как
Новая энциклопедия Брокгауза и Ефрона и История русской литературы
девятнадцатого века Венгерова). Это сказалось, главным образом, на том, что в
моей книге мало биографических сведений, особенно о писателях,
анализируемых в III главе (Куприн, Арцыбашев, Сергеев-Ценский). С другой
стороны, я льщу себе мыслью, что дал, насколько возможно на сегодняшний
день, полный обзор послереволюционной литературы.
Выражаю самую искреннюю благодарность профессору сэру Бернарду
Перзу, без чьей энергичной поддержки эта книга никогда не была бы написана;
мисс Джейн Е. Харрисон, которая с бесконечной добротой и терпеньем прочла
некоторые главы моей книги и сделала бесценные исправления в моем плохом
английском (читатель легко обнаружит, каким именно главам так повезло); и
моему коллеге Н. Б. Джопсону за некоторые ценные замечания относительно
перевода названий русских книг.
Февраль 1925 г.
6
Глава I
1. КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ
Царствование Александра II (1855–1881) бы ло эпохой великих
литературных свершений, золотым веком русского романа. В ту пору были
написаны почти все великие произведения русской художественной
литературы – от тургеневского Рудинаи аксаковской Семейной хроникидо
Анны Каренинойи Братьев Карамазовых. Величайшие писатели обратились к
роману, но рядом продолжали цвести и другие жанры художественной
литературы, способствуя созданию картины Золотого века. Но в цветущем саду
таилась змея: все эти великие произведения были созданы людьми старшего
поколения, и у них не было наследников. Ни один из молодых писателей,
вошедших в литературу после 1856 года, не считался достойным стать рядом с
ними, и когда, один за другим, стали исчезать старики, места их оставались
пустыми. Перелом произошел вскоре после 1880 г.: Достоевский умер в 1881-м,
Тургенев в 1883-м. Толстой объявил о своем уходе из литературы. Великая
эпоха закончилась.
Поколение, рожденное между 1830 и 1850 гг., было нисколько не беднее
талантами, но эти таланты не уходили в литературу. То было поколение
великих композиторов(Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков), великих
ученых (как, например, Менделеев), замечательных художников, журналистов,
адвокатов и историков. Но его поэты и романисты вербовались среди
второстепенных талантов. Словно бы нация растратила на литературу слишком
много сил и теперь стремилась возместить это, отдавая своих гениев другим
искусствам и наукам.
Но помимо таинственного процесса, восстанавливающего равновесие
между различными сферами умственной деятельности, были и другие важные
причины упадка литературы. Первая обусловлена некоторыми основными
чертами русской литературы и, в частности, русской литературной критики.
Великие русские романисты были величайшими мастерами своего дела, даже те
из них, кто, как Толстой, всячески скрывал это и делал вид, что презирает
«форму». Но они действительно скрывали и делали вид, что презирают
«форму». Как бы то ни было, читателю внушалось, что важно то, что они хотят
сказать, а никак не их искусство. Критики пошли еще дальше и попросту
отождествили ценность литературного произведения с моральной или
социальной полезностью его идеи. Они «объявили войну эстетизму» и
заклеймили всякий интерес к «чистому искусству». Вступавшие на
литературное поприще без труда прониклись новым учением, гласившим, что
форма – ничто, а содержание – все. Это сделало невозможной передачу
традиций мастерства, без которой невозможно нормальное развитие
литературы.
Молодые не могли воспользоваться примером старших из-за табу,
наложенного на все проблемы формы. Они могли только бессознательно и
бессмысленно копировать их, но никак не творчески их осваивать. Поколение
1860 года попыталось порвать с установившейся формой романа. Эта попытка
обещала развиться в творческие искания новых путей выражения – нечто
подобное преждевременному движению футуристов. Но атмосфера была
неподходящей для такого развития, и дело кончилось ничем.
Самый значительный из молодых новаторов, Помяловский (1835–1863),
умер молодым, и под общим давлением утилитаризма движение, вместо того,
чтобы привести к обновлению старых форм, вылилось в полное освобождение
7
от всякой формы. Это было осуществлено в творчестве самого одаренного
демократического прозаика того времени – Глеба Успенского (1843–1902).
Другие же, более традиционные и консервативные писатели, могли только
повторять методы и приемы великих реалистов, вульгаризируя и обесценивая
их. Для чего бы они ни применяли реалистическую манеру – для освежения
исторического романа, как граф Салиас, для пропаганды радикальных идей, как
Омулевский и Шеллер-Михайлов, для развенчания их, как Овсеенко, или для
описания добродетелей крестьянской общины и пороков капиталистического
общества, как Златовратский и Засодимский – все они одинаково
неоригинальны, неинтересны и нечитабельны. Классифицировать их можно
только как членов парламента – по политической принадлежности.
Вторая причина, ускорившая разрыв с литературной традицией –
огромные социальные сдвиги, вызванные освобождением крестьян и
другими либеральными реформами первой половины царствования
Александра II.Освобождение крестьян нанесло смертельный удар экономиче -
скому благоденствию поместного дворянства – класса, который до этого
времени монополизировал литературную культуру. Больше всего по страдала от
освобождения крестьян среднепоместная его часть, самая передовая в
умственном отношении. Вместо них поднялся новый класс – интеллигенция.
Происхождение этого класса неоднородно. Туда вошли и многие представители
разорившегося дворянства, но основой стали люди, поднявшиеся из низших,
или, точнее, примыкающих классов, не имевших ранее отношения к
современной цивилизации. Больше всего среди шестидесятников было людей,
отцы которых принадлежали к духовному званию. Всех их объединяла общая
черта – полное отречение от родительских традиций. Сын священника
обязательно становился атеистом, сын землевладельца – аграрным
социалистом. Бунт против традиций – таков был девиз этого класса. Сохранять
в таких условиях традиции литературы было вдвое труднее – и они не
сохранились. От старых писателей было взято только то, что признали
полезным для Революции и Прогресса.
Реформы произвели огромные перемены в русской жизни и открыли новые
дороги для сильных и честолюбивых людей, которые при преж нем режиме,
вероятно, занялись бы писанием стихов или прозы. Новые суды нуждались во
множестве образованных и культурных людей. Быстрый рост
капиталистических предприятий привлекал все новых и новых работников, и
количество инженеров возросло в несколько раз. Новые теории эволюции ввели
в моду науку и сделали ее привлекательной.
Атмосфера стала легче, благотворнее для всякой умственной
деятельности. Политический журнализм стал не только возможным, но и
выгодным; революционная деятельность поглотила немалую часть лучших
представителей молодого поколения.
Было бы ошибкой считать, что в условиях свободы литература и
искусство обязательно переживают расцвет, которого не бывает при
деспотизме. Чаще происходит обратное. Когда всякая иная
деятельность затруднена, именно в литературу и искусство
устремляются все, кто ищет возможность выразить себя в
умственном труде. Литература, как и все остальное, требует
времени и сил, и когда нетрудно найти интересное занятие в другой
сфере деятельности, не столь уж многие могут отдавать свое время
музам. Когда внезапно открываются новые области умственного
труда, как это случилось в России в шестидесятые годы, условия
8
становятся особенно неблагоприятными для развития литературы
как искусства. Когда же эти области закрываются снова, то
духовные безработные снова идут в литературу.
Мильтон, когда его партия была у власти, был политическим
памфлетистом и администратором, – а когда его враги одержали победу,
написал Потерянный рай. Непосредственное влияние на литературу великих
реформ Александра II сказалось в отсутствии новых людей. Шестидесятые-
семидесятые годы в истории русской литературы – время, когда великие
произведения создавали люди предшествующих поколений; молодое поколение,
поглощенное иными видами деятельности, могло отдать литературе только
своих «запасных».
И когда с приближением восьмидесятых годов атмосфера стала
меняться, молодое поколение все еще не могло предъявить ничего,
сравнимого с творениями их отцов. На немногих, оставшихся в живых
представителей великого поколения, смотрели как на одинокие вершины,
оставшиеся от лучших времен, а величайший из них, Толстой, и в долгие
годы после своего обращения оставался, без сомнения, самой великой и
значительной фигурой в русской литературе, одиноким гигантом,
несоразмеримым с пигмеями, толпившимися у его ног.
2. Толстой после 1880 г.
Между тем, что написал Толстой до 1880 года, и тем, что он написал
после, пролегла глубокая пропасть. Но все это написано одним человеком, и
многое из того, что поражало и казалось совершенно новым в произведениях
позднего Толстого, уже существовало в ранних его сочинениях. Даже в самых
первых мы видим поиск рационального смысла жизни; веру в могущество
здравого смысла и в собственный разум; презрение к современной цивилизации
с ее «искусственным» умножением потребностей; глубоко укоренившееся
неуважение к действиям и установлениям государства и общества;
великолепное пренебрежение к общепринятым мнениям, как и к «хорошему
тону» в науке и литературе; ярко выраженную тенденцию поучать. Но в ранних
вещах это было рассыпано и не связано; после же его обращения все было
объединено в последовательную доктрину, в учение с догматически
разработанными деталями. Учение удивило и отпугнуло многих прежних
последователей Толстого. До 1880 г. он если куда и принадлежал, то скорее к
консервативному лагерю. Война и мири Анна Каренинабыли впервые
напечатаны в журнале реакционера Каткова. Ближайшими друзьями Толстого
были поэт Фет, известный реакционер (и фанатический атеист, или, скорее,
язычник), и критик Страхов, славянофил, антирадикал. Только такой
проницательнейший критик как Михайловский сумел еще в 1873 году
разглядеть революционную основу толстовского мировоззрения. Остальные
думали совершенно иначе.
Толстой всегда в основе своей был рационалистом. Но в те времена, когда
он писал свои великие романы, его рационализм несколько померк. Философия
Войны и мираи Анны Карениной(которую он сформулировал в Исповеди:
«Человек должен жить так, чтобы доставлять себе и своей семье самое
лучшее») – это капитуляция его рационализма перед присущей жизни
иррациональностью. Поиски смысла жизни были оставлены. Смыслом жизни
оказалась сама Жизнь. Величайшая мудрость заключалась в том, чтобы принять
9
не мудрствуя свое место в жизни и мужественно переносить ее невзгоды. Но
уже в последней части Анны Каренинойощущается растущая тревога. Именно
тогда, когда Толстой ее писал (1876), начался кризис, из которого он вышел
пророком нового религиозного и этического учения.
Как известно, учение Толстого – рационализированное христианство, с
которого содраны все традиции и всякий позитивный мистицизм. Он отверг
личное бессмертие и сосредоточился исключительно на нравственном учении
Евангелия. Из нравственного учения Христа в качестве основополагающего
принципа, из которого следует все остальное, взяты слова «Не противься злу».
Он отверг авторитет Церкви, поддерживающей действия государства, и осудил
государство, поддерживающее насилие и принуждение. И Церковь, и
государство безнравственны, как и все другие формы организованного
принуждения. Осуждение Толстым всех существующих форм принуждения
позволяет нам классифицировать толстовское учение в его политическом
аспекте как анархизм. Осуждение это распространяется на все без исключения
государства, и Толстой испытывал к демократическим государствам Запада не
больше почтения, чем к русскому самодержавию. Но на практике его анархизм
был направлен своим острием против существующего в России режима. Он
допускал, что конституция может быть меньшим злом, чем самодержавие (он
рекомендовал конституцию в статье Молодой царь, написанной после
восшествия на престол Николая II) и нередко обрушивался на те же институты,
что радикалы и революционеры. Отношение его к активным революционерам
было двойственным. Он был принципиально против насилия и, соответственно,
против политических убийств. Но была разница в его отношении к
революционному террору и правительственным репрессиям. Убийство
Александра II революционерами в 1881 г. не оставило его безучастным, но он
написал письмо с протестом против казни убийц. В сущности Толстой стал
великой силой на стороне революции, и революционеры признавали это, со
всей почтительностью относясь к «великому старику», хотя и не принимали
учения о «непротивлении злу» и презирали толстовцев. Согласие Толстого с
социалистами усилило его собственный коммунизм – осуждение частной
собственности, особенно земельной. Методы, которые он предлагал для
уничтожения зла, были иными (в частности, добровольное отречение от всяких
денег и земли), но в своей негативной части его учение в этом вопросе
совпадало с социализмом.
Обращение Толстого было в значительной степени реакцией его
глубинного рационализма на тот иррационализм, в который он впал в
шестидесятые-семидесятые годы. Его метафизику можно сформулировать как
отождествление принципа жизни с Разумом. Он, как Сократ, смело
отождествляет абсолютное благо с абсолютным знанием. Его любимая фраза –
«Разум, т. е. Благо», и в его учении она занимает такое же место, как у Спинозы
Deus sive Natura(Бог или [то есть] природа – лат.). Знание – необходимое
основание блага, это знание присуще каждому человеку. Но оно омрачено и
задавлено дурным туманом цивилизации и мудрствований. Нужно слушаться
только внутреннего голоса своей совести (которую Толстой склонен был
отождествить с кантовским Практическим Разумом) и не позволять фальшивым
огням человеческого мудрствования (а тут подразумевалась вся цивилизация –
искусство, наука, общественные традиции, законы и историче ские догматы
теологической религии) – не позволять этим огонькам сбить тебя с пути. И все-
таки, несмотря на весь свой рационализм, толстовская религия остается в
некотором смысле мистической. Правда, он отверг мистицизм, принятый
Церковью, отказался принять Бога как личность и с насмешкой говорил о
10
Таинствах (что для каждого верующего является страшнейшим богохульством).
И тем не менее, высшим, окончательным авторитетом (как и в каждом случае
метафизического рационализма) для него является иррациональная
человеческая «совесть». Он сделал все, что мог, чтобы отождествить ее в
теории с Разумом. Но мистический daimonionвозвращался все снова и снова, и
во всех толстовских важнейших поздних сочинениях «обращение» описывается
как переживание мистическое по своей сути. Мистическое – потому что личное
и единственное. Это результат тайного откровения, быть может,
подготовленного предварительным умственным развитием, но по своей сути,
как и всякое мистическое переживание, непередаваемого. У Толстого, как это
описано в Исповеди, оно было подготовлено всей предыдущей умственной
жизнью. Но все чисто рациональные решения основного вопроса оказались
неудовлетворительными, и окончательное разрешение изображается как ряд
мистических переживаний, как повторяющиеся вспышки внутреннего света.
Цивилизованный человек живет в состоянии несомненного греха. Вопросы о
смысле и оправдании возникают у него помимо его воли – из-за страха смерти –
и ответ приходит, как луч внутреннего света; таков процесс, который Толстой
описывал неоднократно – в Исповеди, в Смерти Ивана Ильича, в
Воспоминаниях, в Записках сумасшедшего, в Хозяине и работнике. Из этого
необходимо следует, что истину нельзя проповедовать, что каждый должен
открыть ее для себя. Это – учение Исповеди, где цель – не продемонстрировать,
но рассказать и «заразить». Однако позднее, когда первоначальный импульс
разросся, Толстой стал вести проповедь в логических формах. Сам он никогда
не верил в действенность проповеди. Это его ученики, совершенно иного
склада люди, превратили толстовство в учение-проповедь и подтолкнули к
этому и самого Толстого. В окончательном виде учение Толстого практически
лишилось мистического элемента, и его религия превратилась в
эвдемонистическую доктрину – доктрину, основанную на поисках счастья.
Человек должен быть добр, потому что это для него единственный способ стать
счастливым. В романе Воскресение, написанном тогда, когда толстовское
учение уже выкристаллизовалось и стало догматическим, мистиче ский мотив
отсутствует и возрождение Нехлюдова – простое приспособление жизни к
нравственному закону, с целью освободиться от неприятных реакций
собственной совести. В конце концов Толстой пришел к мысли, что
нравственный закон, действующий через посредство совести, является законом
в строго научном смысле, подобно закону тяготения или другим законам
природы. Это сильно выражено в заимствованной у буддистов идее Кармы,
глубокое отличие которой от христианства в том, что Карма действует
механически, без всякого вмешательства Божественной благодати, и является
непременным следствием греха. Нравственность, в окончательно
кристаллизовавшемся толстовстве, есть искусство избегать Кармы или
приспособиться к ней. Нравственность Толстого есть нравственность счастья, а
также чистоты, но не сострадания. Любовь к Богу, т. е. к нравственному закону
в себе, есть первая и единственная добродетель, а милосердие и любовь к
ближнему – только следствия. Для святого от толстовства милосердие, т. е.
собственно чувство любви, необязательно. Он должен действовать как если бы
он любил своих ближних, и это будет означать, что он любит Бога и будет
счастлив. Таким образом, толстовство прямо противоположно учению
Достоевского. Для Достоевского милосердие, любовь к людям, жалость –
высшая добродетель и Бог открывается людям только через жалость и
милосердие. Религия Толстого абсолютно эгоистична. В ней нет Бога, кроме
нравственного закона внутри человека. Цель добрых дел – нравственный покой.
11
Это помогает нам понять, почему Толстого обвиняли в эпикурействе,
люциферизме и в безмерной гордыне, ибо не существует ничего внеТолстого,
чему бы он поклонялся.
Толстой всегда был великим рационалистом и его рационализм нашел
удовлетворение в великолепно сконструированной системе его религии. Но жив
был и иррациональный Толстой под отвердевшей коркой кристаллизовавшейся
догмы. Дневники Толстого открывают нам, как трудно ему было жить согласно
своему идеалу нравственного счастья. Не считая первых лет, когда он был
увлечен первичным мистическим импульсом своего обращения, он никогда не
был счастлив в том смысле, в каком хотел. Частично это происходило от того,
что жить согласно своей проповеди оказалось для него невозможным, и от того,
что семья оказывала его новым идеям постоянное и упрямое сопротивление. Но
кроме всего этого в нем всегда жил ветхий Адам. Плотские желания обуревали
его до глубокой старости; и никогда его не покидало желание выйти за рамки –
желание, которое породило Войну и мир, желание полноты жизни со всеми ее
радостями и красотой. Проблески этого мы ловим во всех его писаниях, но этих
проблесков мало, потому что он подчинял себя строжайшей дисциплине.
Но у нас есть портрет Толстого в старости, где иррациональный,
полнокровный человек предстает перед нами во всей осязаемой жизненности –
горьковские Воспоминания о Толстом, гениальный портрет, достойный
оригинала.
Когда распространилось известие об обращении Толстого, люди
узнали, что Толстой осудил, как греховные, свои произведения, сделавшие
его знаменитым, и решил отказаться от литературной деятельности как
чистого, бескорыстного художества. Когда слух об этом дошел до
смертельно больного Тургенева, он написал Толстому письмо, которое с тех
пор цитировалось до пресыщения, в особенности одна фраза, заезженная до
тошноты, до того, что ее уже невозможно воспроизводить. Умирающий
романист умолял Толстого не бросать литературной деятельности и
подумать о том, что это его долг как величайшего русского писателя.
Тургенев сильно преувеличивал свое влияние, если думал, что его письмо
может изменить решение человека, известного своим упрямством, к тому же
только что вышедшего из серьезнейшего кризиса. Однако Тургенев увидел
опасность там, где ее не было: хотя Толстой и осудил, как греховные (и
художественно неверные) Войну и мири Анну Каренинуи отныне подчинил
свое творчество требованиям своей нравственной философии, смешно было бы
думать, что Толстой когда-либо отказывался от «искусства». Вскоре он
вернулся к повествовательной форме, но и помимо этого, даже в своих
полемических писаниях, он оставался великим художником. Даже в
банальнейшей брошюре о вреде табака он по силе мастерства на голову выше
лучших писателей эстетического возрождения восьмидесятых годов. Без
преувеличения можно сказать, что сама Исповедьесть в некотором смысле его
величайшее художественное произведение. Это не объективное,
самодовлеющее «изображение жизни», как Война и мири Анна Каренина; это
«утилитарное», это «пропагандистское произведение» и в этом смысле в нем






