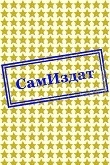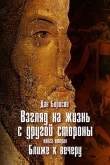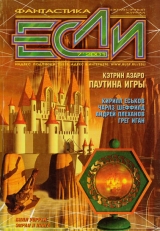
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 7"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Андрей Плеханов,Брайан Майкл Стэблфорд,Владимир Гаков,Кирилл Еськов,Дмитрий Байкалов,Чарльз Шеффилд,Дмитрий Караваев,Евгений Харитонов,Грег Иган,Тимофей Озеров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Поправка
В прошлом номере «Если» в рубрике «Персоналии» был неверно указан год ежемесячного выхода журнала в свет. «Если» распространяется по подписке как ежемесячник с 1993 года.
Крупный план
Владислав Гончаров
Благими намерениями…
На первый взгляд, антураж нового романа Марины и Сергея Дяченко «Магам можно все» (Москва: ЭКСМО-Пресс) выписан вполне в классических фэнтезийных тонах: средневековый мир, владетельные бароны, мятежные князья и наследственные маги. В этом мире магам можно все. Но лишь наследственным, получившим свои способности в качестве дара судьбы, переданного вереницей предков. Наследственные маги не служат королю, не платят налогов и не нуждаются в деньгах, которые сами собой растут в стеклянных банках…
Но банки имеют свойство время от времени лопаться, а размеренное течение жизни – нарушаться. Именно это и произошло с молодым Хортом зи Табором, внестепенным магом, не имевшим в жизни ни привязанностей, ни увлечений, ни целей. Но однажды ему в руки попало заклинание Кары. Пусть одноразовое, но зато на шесть месяцев делающее мага действительно всемогущим, способным покарать любого за провинность – лишь бы обвинение было справедливым и высказано жертве прямо в лицо.
Власть над чужой жизнью – страшная ноша. Тем более, что наслаждение доставляет не сама Кара, а возможность ее осуществления. Эта возможность исподволь воздействует на психику человека, заставляя его иначе взглянуть на людей, на окружающий мир и совершать поступки, в которых низость и благородство становятся почти неразличимыми. А если такая власть достается человеку инфантильному, тогда можно ждать чего угодно. Книгу соавторов вполне можно назвать «романом воспитания» – ведь основу сюжета составляет история взросления героя. Авторы проводят своего персонажа сквозь многие испытания и соблазны, дабы исподволь подвести его (а заодно и читателя) к простой и столь же мудрой мысли о том, что нельзя жить отдельно от людей и при этом ощущать себя человеком. Ибо рано или поздно должен наступить момент, когда чувство самоуважения заставит человека отказаться от выбора в свою пользу – потому что иначе презрение к другим обернется презрением к себе самому. Впрочем, правомерно назвать роман и «магическим детективом» – ведь в центре сюжета лежит история поисков таинственного мага, анатомирующего людские души и изымающего из них нечто, без чего человек перестает быть самим собой. Но стоит ли спорить о жанровой принадлежности книги, когда множество деталей, разбросанных авторами по тексту, вкусны и вне сюжетной линии. Это, например, магическая книга-сабая, во имя древнего принципа свободы информации вечно пытающаяся удрать от своего хозяина. Или случайно вспомнившаяся Хорту древняя легенда о трех магах, не сумевших справиться с толпой черни, или Мраморные Пещеры, куда забредает герой в поисках могущественного Ондры Голого Шпиля, которые оказываются заброшенными подземельями метрополитена. Так что это за мир и кем он был создан? Неужели воображением того самого таинственного мага, лекаря-самоучки, миллион лет назад поклявшегося найти средство излечить людские души, изъять из них «злобных уродцев», мешающих жить по-человечески – эгоизм, жестокость, бесчувствие? Увы, «все они хирурги, и нет среди них ни одного терапевта». Нельзя исправить человека, изъяв у него какие-то душевные качества, – результата можно добиться, лишь давая что-то, а не отбирая. И безукоризненное знание человеческой души не в состоянии помочь тому, кто умеет всего лишь удалять – но не врачевать.
Но все же, не сумев помочь ни людям, ни даже самому себе, лекарь оставляет Хорту зи Табору свой последний подарок – свой «последний лист», единственный шедевр, сотворенный им. Столетиями лишь отбиравший у людей то, что виделось ему ненужным, вредным и опасным, впервые в своей жизни маг – дает. Дарует молодому магу обостренную причастность ко всему сущему, насильно вырывая его из той пустоты, в которой Хорт существовал доселе. После чего сам, добровольно, уходит из мира… То ли в отчаянии, решив, что все, сделанное им, невозможно обратить во благо, – то ли просто избавляя Табора от роковой необходимости воспользоваться Карой…
Владислав ГОНЧАРОВ
Диалоги о фантастике
Александр Сидорович
Изменился мир, изменился и фэндом
Эдуард Геворкян: Каждый уважающий себя любитель фантастики, а тем более фэн со стажем – всенепременно, знает об «Интерпрессконе». И знает вас, его бессменного организатора и руководителя. Вот уже 12 лет как практически в одно и тоже время, на майские праздники, фактически на том же месте, недалеко от Санкт-Петербурга, проходят регулярные встречи писателей, издателей, критиков и просто всех, кто неравнодушен к фантастике. Мне самому довелось побывать почти на всех «Интерпрессконах». Наблюдая за вашей деятельностью, все время хотелось задать вопрос: а как вы, Александр, «дошли до жизни такой», что вас подвигло на столь изнурительный и не всегда благодарный труд? Как все это начиналось?
Александр Сидорович: Предыстория длинна, и ею занимаются летописцы фэндома. Конвенты, разумеется, проходили и в советские времена, хоть и не столь часто, как сейчас. Одни из них функционируют и поныне, например, «Аэлита»; другие, увы, стали «одноразовыми», как, скажем, «Соцкон». Что же касается «Интерпресскона», то его предыстория такова…
Впервые конференцию под Питером устроил Владимир Ларионов, и было это в 1989 году. У него возникла идея проведения конференции, которую мы назвали «ФантОР», а я принял непосредственное участие в ее организации. Мы провели в Сосновом Бору конвент. Провели удачно.
После этого у Андрея Николаева, который в то время издавал «Измерение-Ф», ставший впоследствии одним из самых мощных фэнзинов в стране, возникла идея устроить конференцию-семинар издателей фэнзинов. Акция была уникальной – первый всесоюзный семинар по фэн-прессе. Приехало человек тридцать питерцев и около двадцати иногородних гостей. Организовать конвент тогда помог мой институтский товарищ, нынешний вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Поте-хин, который в те годы был одним из секретарей обкома комсомола.
Кон настолько понравился народу, общение и семинары так пришлись по вкусу его участникам, что было решено продолжить эту акцию. Начали прорабатывать идею о том, чтобы предложить москвичам организовать следующий кон у себя. Но тут ретивое взыграло, и я возразил в том духе, что мы и сами парни не промах!
И случилось так, что через год мы вместе с Владимиром Ларионовым провели в Сосновом же Бору первый «Интерпресскон». Нам удалось раздобыть немалые по тем временам деньги. Умные люди советовали купить на них квартиры или машины, но мы все потратили на обеспечение проезда и проживания гостей. А приглашено было очень много людей, приехало почти 200 человек. И… вот вы приехали уже на двенадцатое мероприятие…
Э.Г.: Но ведь «Интерпресскон» – это не просто встречи любителей фантастики в весьма непринужденной обстановке! Насколько я понимаю, главная «интрига» – литературные премии, вручаемые на конвенте и порождающие бурю эмоций…
А.С.: Интрига вызревала не сразу, а постепенно. На первом «Интерпрессконе» была придумана премия, которую мы тогда вручали совместно с Борисом Натановичем Стругацким за лучшую публикацию в фэнзинах. А уже потом она была переименована в профессиональную премию «Бронзовая улитка»… Появилась премия «Интерпресскон» и стала вручаться по многим номинациям.
Э.Г.: Никто не будет спорить о том, что все это теперь неотъемлемая часть истории современной российской фантастики. Но вам-то лично зачем было нужно ввязываться в организацию конвента?
А.С.: Я более десяти лет является председателем клуба любителей фантастики, я жил в фантастике, жил фантастикой. В клубе постоянно вращалось большое количество любителей НФ. Кроме того, моя единственная частная открытая библиотека, насчитывающая сейчас несколько тысяч фантастических книг, была тогда открыта для пользования, и в ней были записаны сотни человек. Каждый день ко мне приходили люди, я пытался вести какой-то учет, записывал в тетрадку… Хлопотное дело, но мне нравилась такая форма общения. Возможно, поэтому мысль о конвенте для меня оказалось вполне естественной, закономерной.
Э.Г.: Иными словами, вы рассматриваете современные конвенты как следующую стадию развития клубной деятельности?
А.С.: Да, разумеется! Например, у меня сейчас нет ни малейшей возможности заниматься клубом любителей фантастики, потому что это требует систематической работы. Но мне интересно собирать людей, имеющих к фантастике самое прямое отношение. Пусть это происходит не столь часто, как в клубах, но зато подобные мероприятия более представительны. Кроме того, литературная премия, учрежденная конвентом, имеет больший вес, нежели клубная. Замечу, что такие премии не только приводят к росту известности кона, но и увеличивают ответственность. Учредив премию, нельзя потом бросать ее на произвол судьбы, это твое дитя, изволь его вырастить, воспитать…
Э.Г.: Все это замечательно, но все же, чем является «Интерпресскон» для вас – игрой, делом жизни, уходом от суровой действительности, праздником, который всегда с тобой?..
А.С.: Наверно, и то, и другое, и третье… Если делаешь то, что считаешь нужным, обычно не пытаешься объяснить себе, зачем и ради чего все это. Возможно, это ко всему еще и попытка создать некую комфортную среду обитания. Обратите внимание на то, что, скажем, любители детективов, исторических или дамских романов не образуют подобных сообществ. Мне кажется, дело в том, что фантастика – особая литература, которая может включать все лучшее, что есть и в детективах, и в дамских романах… Читатель фантастики более развит, более подключен к мировой культуре и поэтому легче организуется или самоорганизуется в своего рода сообщества, объединенные общим интересом, общим стилем мышления, что ли… Кроме того надо заметить, что фантастика объединяет людей, потому что человек – существо социальное, он живет в общении, а фантастика намного более тонкий и мощный инструмент изучения человеческого общества как такового, чем многие иные направления и жанры литературы. Кстати, насчет ухода от действительности – не стоит абсолютизировать эту тенденцию. Те, кто любит фантастику, как правило, люди активные, или, как раньше говорили, с активной жизненной позицией. Это люди, которые ходят на выборы, а не отсиживаются дома или на даче, это люди, которые интересуются политикой, экономикой, культурой, у которых есть своя точка зрения как на современную ситуацию, так и на будущее нашей страны.
Э.Г.: Раз уж заговорили о людях, то давайте обратимся к контингенту конвента. Мне, «старожилу», какие-то сдвиги кажутся удручающими, ка-кие-то, напротив, радуют. Но это частная точка зрения, и потому я не буду ее высказывать. А вот каковы ваши наблюдения – изменился ли фэндом, есть ли приток свежих сил или наблюдается естественное старение?
А.С.: Да, действительно, старый читатель фантастики постепенно уходит, но есть и приток новых людей. На том же «Интерпрессконе» в этом году не менее двадцати процентов гостей были именно «новичками». Если раньше обновление контингента происходило благодаря обмену информацией от фэна к фэну или по случайным публикациям в прессе, то теперь о нас узнают многие пользователи интернета. Вообще-то фантастика и интернет – это отдельный мир, тема отдельная [19]19
См. Рубрику «Консилиум» в № 3, 2001 (Прим. ред.)
[Закрыть]. На наших глазах произошло некое взаимопроникновение мира книжной фантастики и интернет-фантастики. Мне кажется, что это весьма обнадеживающее явление, об «Интерпрессконе» узнает все большее количество людей, а это значит, что конвент будет жить.
Э.Г.: А не кажется ли вам, что интернет, напротив, оттянет многих любителей и потенциальных гостей «Интерпресскона» в свои виртуальные конференции, которые могут происходить в любой день и час, на которые не надо ехать через полстраны?
А.С.: Это сложный процесс. С одной стороны, может показаться, что эти виртуальные конференции, так называемые чаты, вроде бы уводят любителей фантастики из сферы реального общения. Но с другой стороны, мы наблюдаем, как те же посетители чатов приезжают на конвент еще и с целью провести «каналовку», то есть общение вживе! Значит, у людей еще не атрофировалась потребность в непосредственном контакте. На этих встречах разные поколения славно и весело общаются, мало того, они здесь живо и весьма, скажем так, неформально проводят время, сопрягая веселье с работой на семинарах, сочетая рассудительные беседы с азартом голосования по литературной премии «Интерпресскон». Поэтому я уверен, что взаимопроникновение двух миров – реального и виртуального – ведет к взаимообогащению. Неслучайно именно в этом году на «Интерпрессконе» была вручена новая литературная премия сайта «Русская фантастика» по итогам голосования в сети.
Э.Г.: Ну, премии, дело тонкое. Неоднократно приходилось наблюдать вспышки раздражения и даже гнева гостей по поводу того или иного вручения или невручения, неудовольствия относительно порядка составления номинационных списков и т. д. Сейчас страсти немного поутихли, но ведь не так давно, помнится, мнения схлестывались весьма резкие…
А.С.: Не бывает объективных премий, с этим, по-моему, смирились даже самые непримиримые блюстители справедливости. Кто-то всегда уйдет обиженным, у кого-то останется неприятный осадок… А что делать? Любая премия выражает мнение ограниченного числа людей, причем их количество может равняться единице – как, например, «Бронзовая улитка», которую вручает Б.Стругацкий, либо же мнение жюри из десятка человек, как обстоят дела с премией «Филигрань», либо мнение уже сотни человек, как это обстоит с премией «Интерпресскон». Авторитет премии, впрочем, определяется не количеством людей и даже не длительной историей их награждения. Но это действительно тонкие материи, поэтому, чтобы не обидеть кого-либо ненароком, давайте эту тему лучше обойдем.
Э.Г.: Хорошо, не надо будить спящие амбиции… Но вернемся все же к отечественному фэндому. Вот вы более десяти лет вели КЛФ, затем двенадцать лет проводите «Интерпресскон», одним словом, вросли в фэндом всеми корнями. Перед вами прошли сотни, тысячи людей… Вы могли наблюдать эволюцию фэндома. К каким же выводам вы пришли?
А.С.: Когда на дворе стояли застойные советские времена, клубы были своего рода отдушиной для людей, которым не хватало книг. Сейчас печатной продукции с избытком. Тогда общение, обмен книгами и информацией как-то восполняли этот дефицит. Они являлись местом встречи тех, кто не был удовлетворен существующим порядком вещей. Ныне же клубы, как некая форма социального протеста, просто не существуют, это действительно клубы по интересам. То же самое случилось, кстати, с рок-клубами, с андеграундом в искусстве и т. п. Изменился мир, в котором мы живем, а вместе с ним изменился и фэндом. Изменились люди – одни на фантастике делают свой бизнес, другие просто остались ее любителями и приезжают на конвенты общаться, возможно, из ностальгических побуждений, третьи удовлетворяют сенсорный голод… Как мы уже говорили, на фэндом повлияли современные информационные технологии, он стал более просвещенным, а с другой стороны, сетевая субкультура способствовала падению общекультурного уровня, поскольку сужение сферы интересов весьма непродуктивно.
Э.Г.: Можно ли сказать, что конвенты в целом, а «Интерпресскон» в частности способствовали открытию новых авторов? И вообще, как, по-вашему, зачем писатели приезжают на «Интерпресскон»?
А.С.: Я бы мог назвать некоторых, ныне весьма популярных авторов, которые «раскрутились» благодаря «Интерпресскону». Так, например, Олди – приехали сюда, познакомились с крупнейшими российскими издателями, а дальше машина завертелась… Так что здесь, кроме прочего, еще и место встречи авторов с издателями. Вот и на последнем конвенте я познакомил одного молодого перспективного писателя с издателем, автор подписал договор, а дальше будет видно… Неформальное общение с матерыми авторами тоже помогает молодым лучше ориентироваться в ситуации на книжном рынке, тонкостях взаимоотношений с издателями. Словом, такие конвенты в какой-то мере заменяют утраченные ныне семинары и студии, которые остались только в больших городах.
Э.Г.: И все же, Александр, все эти годы, во время посещения «Ин-терпресскона» я вижу, как вы работаете буквально на грани нервного срыва, а порой и за гранью. Но ведь сейчас только ленивый не устраивает конвенты, вот и ездили бы себе, почивали на лаврах. Поэтому не могу удержаться от вопроса, вернувшись к тому, с чего начал – а зачем все это вам надо, ради чего вы гробите свое здоровье и время?
А.С.: А жить иначе скучно…
personalia
АЗАРО, Кэтрин
(ASARO, Catherine)
Американская писательница Кэтрин Азаро родилась в 1960 году и дебютировала в научной фантастике в 1993-м повестью «Танец в голубом». С тех пор Азаро опубликовала три рассказа и повесть, напечатанную в этом номере «Если», а основным жанром выбрала роман. Первую книгу – «Первичное вторжение» – выпустила в 1995 году, однако известность ей принес следующий роман – «Поймать молнию» (1996), который был включен в номинацию на премию «Небьюла». Далее вышли «Последний ястреб» (1997), «Всемирная паутина» и «Квантовая роза» (оба – 1999). Кроме того, Азаро часто выступала со статьями и рецензиями в специализированных журналах научной фантастики.
ЕСЬКОВ Кирилл Юрьевич
Родился в 1956 году в Москве. Окончил биофак Московского государственного университета. Ныне – старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (в свое время в этом же институте работал И.Ефремов). Дебютировал в 1996 году романом «Евангелие от Афрания», который был удостоен гран-при на конвенте «Фанкон-97». Второй роман – «Последний Кольценосец» – вышел в 1999 году и в 2000-м занял второе место на «Интерпрессконе» в номинации «крупная форма». Роман переведен в Польше. Однако главным своим жизненным достижением К.Еськов полагает два школьных учебника по естествознанию. Любимые писатели: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Булгаков, Маркес, Лем, Коваль, Павич.
ИГАН, Грег
(См. биобиблиографическую справку в № 2, 2000 г.)
В интервью, данном в 1996 году одному из сетевых изданий, австралийский писатель Грег Иган заявил:
«Вы спрашиваете, можно ли мой роман «Карантин» и все творчество в целом считать киберпанковым? Думаю, что нет. Да, в «Карантине» есть все канонические черты киберпанка: мир перенаселенного мегаполиса, свободный «поток данных» (dataflow), к которому можно непосредственно подключаться через специальные «контакты» на черепе, трансформация сознания посредством «виртуальной реальности», корпоративные интриги… Однако содержательную основу романа составляют идеи современной физики – а это совсем не тема киберпанка. Мне представляется, что нужно различать книги с киберпанковым антуражем (к таковым я отношу свой «Карантин») и книги с киберпанковыми темами. Например, другой мой роман, «Город превращений», несмотря на то, что весь посвящен искусственному интеллекту и виртуальной реальности, по сути, антикиберпанк. Все в этой книге – стиль, настроение, персонажи, а также то, как показана связь проблемы искусственного интеллекта с проблемами теоретической физики – бесконечно далеко от этого направления фантастики».
НОЙБЕ, Рик
(NEUBE, Ryck)
Член Ассоциации американских писателей-фантастов Рик Нойбе родился в 1960 году. Первый научно-фантастический рассказ – «Ложь» (1985). С тех пор Нойбе опубликовал около десятка рассказов, в основном, в журнале «Asimov's Science Fiction», где считается «образцовым возмутителем спокойствия».
ПЛЕХАНОВ Андрей Вячеславович
Родился в Горьком в 1965 году. Закончил Горьковский медицинский институт. Работает врачом ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук. Дебютировал в жанре сразу двумя романами, вышедшими одновременно в 1998 году – «Бессмертный» и «Мятежник» (последний принес автору премию «Старт» за лучший литературный дебют). Читателям известны и два других романа из цикла о Демиде Коробове – «Лесные твари» (1999) и «Инквизитор» (2001), а также вызвавшая немалые споры антиутопия «Сверхдержава» (2000). Любимые писатели: Вячеслав Пьецух, Василий Аксенов, Сергей Довлатов. Любимые писатели-фантасты: Стивен Кинг, Роджер Желязны, братья Стругацкие, Андрей Лазарчук, Евгений Лукин.
СТЭБЛФОРД, Брайан
(STABLEFORD, Brian)
Английский прозаик, критик и ученый-литературовед, один из мировых лидеров «твердой» НФ. Родился в Шипли (гр. Йоркшир) в 1948 году, закончил Йоркский университет по специальности биология, однако темой диссертации выбрал социологию, которую и преподает в Университете Ридинга (гр. Беркшир). Проживает там же. Дебютная вещь – «Вне защиты времени» (1965, с Крейгом Макинтошем, под общим псевдонимом Брайан Крейг).
Наибольшую известность получили НФ-сериалы автора, представляющие собой своеобразную «космическую оперу», живописующую формы инопланетной внеземной жизни, биологии и экологии. К их числу относится трилогия «День гнева» (1971), а также серия о капитане звездолета «Хохлатый Лебедь» Грейнджере.
Из внесерийных произведений Стэблфорда критика выделяет романы «Человек в клетке» (1975), «Лицо небес» (1976), «Ходячая тень» (1979), где развивается идея «экологического» пути движения цивилизации. Автор выступал и в иных жанрах: например, «Империя страха» (1988) – это классическая альтернативная история, а «Лондонские оборотни» (1990) – типичный образчик «романа ужасов».
Кроме того, Стэблфорд – известный критик, перу которого принадлежат монографии, посвященные как отдельным фантастам, так и проблемам жанра.
УЭЛЛС, Кэтрин
(WELLS, Catherine)
Американская писательница Кэтрин Уэллс родилась в 1954 году в Лос-Анджелесе, окончила колледж в Северной Дакоте с дипломом драматурга (первые ее пьесы были поставлены в университетском церковном театре еще в годы студенчества). В 1982 году перебралась в Тусон (штат Аризона), где защитила диссертацию по библиотековедению и стала работать в местной университетской библиотеке. Дебютом Уэллс в научной фантастике стал роман «Земля – это все, что осталось» (1991), положивший начало трилогии: продолжения – «Дети Земли» (1992) и «Спаситель Земли» (1993). Кроме того, Уэллс выпустила несколько романов, в частности, «Матушка Гримм» (1986), номинированный на Премию имени Филипа Дика, а также рассказы и повести в периодике.
ШЕФФИЛД, Чарлз
(См. биобиблиографическую справку в № 10, 1996 г.)
Известный американский писатель-фантаст и профессиональный ученый и бизнесмен Чарлз Шеффилд (бывший президент Американского астронавтического общества и вице-президент компании по коммерческому использованию спутников связи – «Earth Satellite») был приглашен журналом «Locus» на 25-летний юбилей первой высадки человека на Луне.
«Честно признаюсь, – писал в журнале Ч.Шеффилд, – для меня это событие не было историческим. Я уже тогда буквально жил освоением космоса и к первой высадке на Луну был готов задолго до ее реального осуществления. Полагаю, так же отнеслись к этому событию остальные читатели научной фантастики. В те дни мы наивно полагали, что ясно представляем себе дальнейший космический путь человечества. А я, вероятно, был самым наивным из всех, поскольку позже других взглянул на программу освоения космоса с позиций реализма. Осознал, что она представляет собой цепь почти невероятных случайностей на грани катастрофы, проистекающих из-за того, что космические запуски были всего лишь маскировкой той ожесточенной войны, которую вели СССР и США за будущий космос. И понял, что мои мечты, будто следующие полвека человечество сможет наслаждаться всеми плодами новых технологий, так и останутся лишь мечтами…»
Подготовил Михаил АНДРЕЕВ