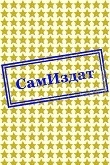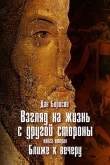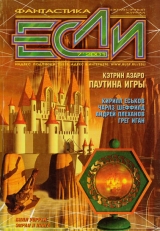
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 7"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Андрей Плеханов,Брайан Майкл Стэблфорд,Владимир Гаков,Кирилл Еськов,Дмитрий Байкалов,Чарльз Шеффилд,Дмитрий Караваев,Евгений Харитонов,Грег Иган,Тимофей Озеров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Критика
Вл. Гаков
Фантастическая игра
Играм – в основном, кровавым и агрессивным (военным и спортивным) – в научно-фантастическом кино был посвящен обзор в рубрике «Видеодром» (см. «Если» № 5, 2000). На сей раз разговор пойдет о материях, на первый взгляд, куда более спокойных. О древней игре, где соревнуются интеллекты, а не мускулы, выдержка, а не реакция, трезвый расчет, а не спортивный азарт. Речь, конечно, о шахматах.
Мы играем, нами играют… Мысль, ставшая трюизмом от частого употребления, своей глубины и драматичности при этом отнюдь не утратила. Даже не забираясь в метафизические дебри относительно того, является ли человек игрушкой неведомых высших сил или способен на самостоятельную собственную Игру, называемую жизнью, – можно отметить более «прикладную» сферу, где от подобных размышлений отмахнуться никому не удастся. Всякий раз, строя определенные планы в жизни, касающиеся в том числе и других людей, заранее предугадывая сопутствующие или мешающие этим замыслам обстоятельства, человеку приходится задумываться и о возможных реакциях тех самых «фигур», которыми он собирается «играть». Корень неудач многих социальных стратегов лежит именно в этом: они не допускают и мысли, что пешки могут воспротивиться и начнут ходить так, как им заблагорассудится.
На протяжении многих веков действо, представлявшее собой странную смесь науки и искусства, и в то же время не потерявшее живости и непредсказуемости спортивного поединка (ибо, по мнению автора этих строк, настоящее искусство и настоящую науку элемент соревновательности губит окончательно и бесповоротно), оставалось примером неагрессивного интеллектуального ристалища. Интеллигентные люди (многие даже в очках!) пожимали друг другу руки, садились за стол, думали, двигали фигурки, записывали ответы, и в конце снова пожимали руки; все чинно, мирно, культурно!
Впрочем, воображение писателей-фантастов рисовало и иные картины – более драматичные, а порой и трагичные.
ВЕСЬ МИР – ИГРА
Но, прежде чем обратиться к собственно «фантастике на 64 клетках», стоит упомянуть еще один ряд произведений, в которых местом действия Игры становится не поле битвы и не спортивная арена, а само общество.
Речь пойдет об играх глобальных, всеохватывающих, пронизывающих социальную ткань социума и во многом определяющих его иерархию, культуру, кодекс поведения и мировоззрение людей. Собственно, а что такое социум, возразит специалист-культуролог, как не определенная игра по выработанным на протяжении многих поколений правилам? Верно, но в реальной жизни сей факт очевиден только для специалистов – чтобы оттенить его в сознании массового читателя, сделать более доступным, писателям приходится прибегать к научно-фантастической гиперболе.
Пример знаменитой философской утопии Германа Гессе «Игра в бисер» (1943) все последующие полвека не давал покоя авторам научной фантастики. Цивилизации и культуры, основанные на некоей Игре с большой буквы, если и не наводнили мировую science fiction, то во всяком случае занимают в ней заметное место.
К примеру, в альтернативной истории австралийского автора Джеральда Мурнейна «Равнины» (1982) действие развертывается в «параллельной» феодальной Австралии, где местные сеньоры не только воюют и угнетают вассалов, но и покровительствуют искусствам – в частности, поголовно вовлечены в непрекращающуюся сословную «ритуальную» игру. В аналогичных глобальных играх проводят жизнь герои романов с похожими названиями – «Играющий» (1988) Йэна Бэнкса и «Игрок» (1975) Джорджа Алека Эф-финджера, рассказа Джоанны Расс «Игра Влет» [13]13
Странную игру «Влет» (Vlet), изобретенную писательницей, с успехом «экспроприировал» ее коллега – Сэмюэл Дилэни: в его романе «Тритон», вышедшем двумя годами позже, герои упоминают эту игру как реально существующую, без ссылок на научно фантастический рассказ. (Здесь и далее прим. автора.)
[Закрыть](1974) и многих других произведений. А если обратиться к кино, то первым на память приходит странный и завораживающий фильм Роберта Олтмена «Квинтет».
Впрочем, фантастический поворот сюжету могут сообщить и вполне обыденные, известные всем игры, если в них начинают играть не отдельные люди, а все общество в целом – даже порой не подозревая об этом, на уровне «коллективного бессознательного». Так, герой романа Барри Молзберга «Покрышка» (1972) играет на скачках и все время проигрывает, несмотря на разнообразные стратегии выигрыша, примененные при помощи «науки». Под этой обыденной историей есть и второй пласт: по мнению автора, вся окружающая действительность изначально абсурдна и в философском плане не допускает «выигрыша» человечества даже в принципе.
Свой социальный шанс пытаются найти в планетарной лотерее и жители мира, изображенного в первом романе Филипа Дика «Солнечная лотерея» (1955), не раз и не два обращавшегося в своем творчестве к теме Игры [14]14
В предисловии к одному из поздних изданий романа писатель прямо указывал, что в работе над книгой пользовался основными положениями теории игр выдающегося английского математика Джона фон Неймана. Среди других произведений Дика, в которых центральное место занимают игры – но уже в философском, метафизическом смысле, – романы «Игроки с Титана» (1963) и «Три стигмата Палмера Элдрича» (1965).
[Закрыть]…
Примеры можно множить, однако перейдем к обещанной конкретике: игре в шахматы, особенно популярной среди писателей-фантастов (неслучайно многие из них сами играли и играют на вполне приличном уровне – разрядника или даже мастера).
ИСТОРИЧЕСКИМ ДЕБЮТ
Шахматы – это, вероятно, древнейшая из известных человечеству «сложных», стратегических игр (в отличие, скажем, от бросания костей или примитивных карточных забав). Известно, что уже в VI веке нашей эры в шахматы играли индусы и китайцы, а в Европу шахматы были занесены спустя полтысячелетия. Что касается литературы, то, вероятно, первое упоминание об этой игре встречается именно в фантастическом произведении: одна из новелл цикла кельтских мифов «Мабиногион» повествует о магических шахматных фигурах, которые «зажили своей жизнью». Живые шахматы упоминаются также в легендах о волшебнике Мерлине, позже вошедших в артуровский цикл. Наконец, мастерами играть в шахматы были представители «малого народца» из ирландских и шотландских циклов: феи обычно предлагали смертным сыграть с ними три партии со все увеличивавшейся ставкой на кону – и давали выиграть первые две, чтобы затем обыграть в финальной, где ставкой становилась, как нетрудно догадаться, сама жизнь!
У истоков современной фантастики, посвященной шахматам и шахматистам (часто весьма необычным), стоят четыре «столпа» – произведения классиков, задавших четыре основных направления поисков для последующих авторов. Это, во-первых, бессмертная «Алиса в Зазеркалье» (1871) Льюиса Кэрролла, где детально разыграна эксцентричная шахматная партия с фигурами-персонажами (ее подробно разобрал математик и популяризатор Мартин Гарднер в своей блестящей книге «Аннотированная Алиса»). Во-вторых, новелла Амброза Бирса «Хозяин Моксона» (1893), в которой изображен шахматный автомат, восставший против своего создателя и погубивший его. Далее, рассказ «Гамбит трех моряков» (1916) лорда Дансени, герои которого ведут поединок за шахматной доской со слугами самого Дьявола, которые подглядывают верные ходы в хрустальном талисмане. Наконец, роман Эдгара Райса Берроуза «Шахматисты Марса» (1922), где описана фантастическая инопланетная игра «джетан», представляющая собой модификацию земных шахмат.
Посмотрим, что же удалось отыскать авторам современной фантастики на каждом из указанных направлений.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАТ
Может ли машина играть в шахматы? Одним из первых ответил на этот вопрос недавно скончавшийся американский математик Клод Шеннон – тот самый, которому человечество обязано формулой подсчета количества информации («обратный логарифм энтропии»). Именно он создал в конце 40-х годов первую шахматную программу и уже в 1950 году рассказал о перспективах электронных шахматистов в популярной статье, опубликованной в журнале «Scientific American». Шеннон оптимистично полагал, что никаких принципиальных проблем в деле создания «интеллектуальной» машины, которая составила бы за шахматной доской конкуренцию человеку, нет. Однако путь от первых, построенных еще в позапрошлом веке шахматных автоматов австрийца Теодора фон Кемпелена (и тогда же разоблаченных Эдгаром По на основании чисто логических рассуждений) до современного суперкомпьютера IBM RS/6000 SP (Deep Blue), на исходе прошлого века переигравшего чемпиона мира Гарри Каспарова, оказался долог и драматичен. Не меньший путь проделала и научная фантастика. Но ее авторов, разумеется, интересовали проблемы иного плана.
Удивительно, но первопроходцем на этом направлении можно считать нашего Александра Абрамова, в ранней повести которого – «Гибель шахмат» (1926) – изобретение шахматного автомата чуть было не привело к выхолащиванию и смерти любимой игры миллионов! Это прозрение удивительно вдвойне, если еще раз обратить внимание на дату выхода повести: до эры электронных компьютеров ждать еще было два десятилетия… Зато в 70-е годы электронные гроссмейстеры из рассказа Джина Вулфа «Неописуемый медный шахматный автомат» (1977) вряд ли кого-то особенно удивили. Еще раньше вышел рассказ Фрица Лейбера «Сумасшедший дом на 64 клетках» (1962), где также выдвигалась гипотеза – в ту пору умозрительная, – что когда-нибудь электронные машины будут играть на уровне гроссмейстеров. При том, что их стратегию и тактику спустя десятилетие разделал в пух и прах (в статье «Компьютер играл, как чайник», опубликованной в журнале «Analog») молодой коллега Лейбера Джордж Мартин – сам отличный шахматист и автор одного из лучших шахматных рассказов в мировой фантастике, «Беззвучные вариации» (1982).
Наконец, все смотревшие знаменитый фильм Стэнли Кубрика «2001: космическая одиссея», наверное, вспомнят, как внимательно следил бортовой суперкомпьютер HAL 9000 за шахматной партией двух астронавтов. И как предельно вежливо и терпеливо объяснял «несмышленышам» их ошибки – к чему это привело впоследствии, хорошо известно. И все же лучшими, на взгляд автора обзора, произведениями об электронных шахматах по сей день остаются два рассказа – «Бесконечная игра» (1954) патриарха американской science fiction Пола Андерсона и «Сумасшедший король» (1977) безвременно ушедшего от нас Бориса Штерна.
В обоих описаны шахматные фигуры, снабженные искусственным интеллектом: естественно, они тяготятся заложенной программой и стремятся ходить «по-своему». Персонажи Андерсона, которым программистами приданы черты личностей средневековых рыцарей, епископов (в английском языке фигура, соответствующая нашему «слону», называется «епископом»), королей и королев, недоумевают, почему вынуждены биться по несправедливым, неведомо кем установленным правилам. И почему их битва, которую они рассматривают как последнюю, окончательную, затем возобновляется опять.
А в рассказе Штерна (позже переработанном в повесть) шахматный король-талисман с вмонтированным компьютером, висевший на шее у гроссмейстера и тайком подсказывавший тому выигрышные ходы, не нашел нйчего лучшего, как влюбиться в королеву противника! После чего, естественно, начал ей «подыгрывать», ломая всю продуманную игровую стратегию своего хозяина.
ЛЮДИ В КЛЕТКАХ
Примеры «инопланетных» шахмат многочисленнее – но и однообразнее.
Рассказ Кэтрин Маклин и Чарлза де Вета «Вторая игра» (1958), переписанный в роман «Космические шахматы» (1962), так и остался бы ординарной «космооперой», если бы не одно усложнение, на которое пошли авторы: они придумали колоритную инопланетную культуру, социальная иерархия которой построена на умении играть в различные интеллектуальные игры, и среди них – экзотическая модификация древней земной игры.
Миры, в которых все поголовно играют в какие-то инопланетные «шахматы», или на их основе космические цивилизации осуществляют контакт и общение между собой, описаны в романах «Звездный гамбит» (1958) француза Жерара Клейна, «Планета на шахматной доске» (1951) американцев Генри Каттнера и Кэтрин Мур, «Тактика завоевателя» (1974) уже упоминавшегося Барри Молзберга, а также в одном из рассказов из цикла о берсерках Фреда Саберхагена – «Без проблеска мысли» (1963). Последний автор, кстати, составил и тематическую антологию «шахматной фантастики» – «Пешка в бесконечность» (1982). Можно еще вспомнить эффектные трехмерные шахматы, в которые играют земные и инопланетные члены космической команды из популярного сериала «Звездный путь», однако это пример отнюдь не богатства фантазии, а напротив – ее недостатка. Поскольку играть-то по-настоящему в эти шахматы нельзя, в этом легко убедиться, попытавшись понять закономерности перестановки фигурок на трехэтажной доске-этажерке, которая бойко продается на всех американских конвенциях…
Зато неожиданно мощно и интересно перенял эстафету у своего великого соотечественника Кэрролла английский писатель Джон Браннер, чей роман «Квадраты шахматного города» (1965) можно считать архетипическим для темы: «шахматы, в которые ОНИ играют НАМИ». ОНИ – это не какие-то неведомые космические силы, а вполне реальные власти, вооруженные современными средствами манипулирования массами; а НАМИ – это значит, теми самыми массами, которые позволяют собой играть… Но самое примечательное в романе то, что герои своими поступками, казалось бы, внешне никем не направляемыми, на самом деле разыгрывают реальную шахматную партию двух великих игроков конца XIX века (Стейниц – Чигорин, 1892 г.) – все ходы ее приведены в послесловии автора романа! Среди других примеров «социальных шахмат», в которые играют власть предержащие и где «фигурами» становятся их подданные, – роман-фэнтези Йэна Уотсона «Магия короля, магия ферзя» (1986), сюрреалистический роман Брукса Хансена «Шахматный сад, или Письма, написанные на закате Густавом Ойтерховеном» (1995), в котором изображен некий мир Антиподов, населенный шахматными фигурами, а также известный рассказ Чарлза Харнесса «Игроки в шахматы» (1953).
Тут, кстати, вполне уместно вновь вспомнить о «наших». Для многих читателей, вероятно, станет откровением, что еще полтора века назад русский писатель Николай Ахшарумов в рассказе «Игрок» (1858) послал своих героев в «шахматный мир». И как можно забыть одну из самых впечатляющих сцен из романа Стругацких «Град обреченный» (1989) – ту, в которой усатый диктатор, «лучший друг физкультурников», ведет свою Большую Игру, манипулируя на доске фигурами соратников!
ДОСКА «ПО ТУ СТОРОНУ»
За века существования шахматы не только не прискучили человечеству, но и постоянно бросали вызов человеческому интеллекту, заставляя задуматься о том, что, наверное, создать такое мог только интеллект нечеловеческий. Высший, непознаваемый… Неслучайно о фантастических шахматах писали и те авторы, которых не удовлетворяли рациональные объяснения внутреннего богатства, глубины и притягательности древней игры.
В то время как ученые-рационалисты строили шахматные программы для компьютеров, писатели задумывались об иррациональной сущности шахмат, об их неизбежной, как казалось писателям, связи с силами высшими, потусторонними.
Если герой премированного рассказа Фрица Лейбера «Бросим-ка кости» (1975) [15]15
Перу Лейбера принадлежит еще один «шахматный» рассказ – «Полночь в объятиях Морфея» (1974). На сей раз это не столько фантастика, сколько «ужастик»: как иначе относиться к ситуации, когда в голове героя-шахматиста «поселились» еще три – души великих гроссмейстеров прошлого!
[Закрыть]решился испытать судьбу, сыграв в «орел-решку» с самой Смертью, то рыцарь в не менее знаменитом фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать» пригласил костлявую сразиться за шахматной доской. Полагая, что только в этой игре у него есть шанс переиграть старуху с косой… Позже аналогичным сюжетным ходом воспользовался Роджер Желязны, заменивший в рассказе «Вариации с единорогом» (1981) архаичную старуху более модным мифическим единорогом.
Для полноты картины можно упомянуть еще и роман-фэнтези Сьюзан Купер «В сторону моря» (1983), герои которого попадают в «потусторонний» мир кельтских мифов, где становятся участниками грандиозной шахматной партии, разыгрываемой местной богиней, олицетворяющей Смерть, и ее противником – отцом, братом и сыном в одном лице, символизирующим, очевидно, Жизнь.
Выходит, даже мифические персонажи не в состоянии предугадать все разнообразие и богатство вариантов в дерзком изобретении простых смертных.
Проза
Кэтрин Уэллс
Нехтанит и инфорат

Иллюстрация Алексея Филиппова
Мне всегда было в высшей степени наплевать на мнение людей, утверждающих, будто ничто не впечатляет так сильно, как первая в жизни встреча с нехтанитами. Даже если это происходит во время работы за столом активного интерфейса в университетском учебном центре.
Я слышала о нехтанитах еще до того, как поступила на работу в университет Мал Сурджан, здесь, на планете Валла. Эти истории волновали меня куда меньше, чем рудименты мусульманских обычаев и культуры, упорно проникающие во многие колониальные миры, с их пренебрежительным отношением к женщине, как к существу второго сорта. Нехтаниты – это местная достопримечательность… вернее, диковинка: остатки воинского культа, дожившие до нашего времени с ранних дней освоения планеты. По-моему, я даже видела как-то изображение нехтанита, хотя они терпеть не могут, когда таковые появляются в компьютерных файлах. Но когда поднимаешь глаза и видишь, как эта чудовищно уродливая глыба, имеющая отдаленное сходство с человеком, нависает над тобой… поверьте, шок довольно силен.
Нехтаниты всегда нависают над тобой. Как-то позднее я встретила одну, почти нормального роста, всего пять футов восемь дюймов. Вид у нее все равно был такой, словно вот-вот надвинется, как танк, и раздавит. Но этот был около шести футов, с заплетенными в косы и торчавшими в разные стороны а-ля Медуза Горгона волосами и татуировками от лба до… видите ли, сидя за столом, я могла видеть всего лишь верхнюю часть его килта, но позже убедилась, что немыслимые узоры спускаются к кончикам пальцев. Кожа под раскраской оказалась относительно белой, что позволяло черным линиям и завиткам смотреться куда эффектнее. Ничего особенного, обычные арабески в виде абстрактных змей, но игра мощных бугрившихся мышц словно оживляла их, и казалось, что по всему телу ползут ядовитые гады.
Я, должно быть, от страха, подскочила на добрых полфута и с шумом приземлилась на стул. Он растянул губищи, показывая огромные желтоватые зубы, и на мгновение показалось, что он зарычит и щелкнет этими самыми клыками. Но я тут же поняла: таким образом он выражает иронию по поводу моего испуга. Честное слово, у вампиров улыбки куда добрее!
– Не собираетесь предложить мне помощь? – осведомился он с издевательской вежливостью.
Это привело меня в чувство. Как опытный инфорат, я горжусь тем, что всегда вовремя подворачиваюсь под руку клиентам. В выпускной школе я писала диплом по истории этой профессии. Кстати, знаете ли вы, что слово «инфорат» – попросту сокращенное от «специалист по поиску, методам доступа и получения информации»? Было время, когда инфоратов считали этакими книжными червями, замкнутыми и необщительными, но в нашей профессии с подобными качествами долго не продержишься, особенно если не будешь дружить с клиентами. Тебя попросту заменят очередной умной программой. Приходится доказывать непреходящую ценность незаменимых человеческих качеств: интуиции и, откровенно говоря, обаяния.
Так или иначе, я вовсе не собиралась позволять этому призраку прошлого чернить мою профессиональную репутацию.
– Чем могу помочь, сэр? – поинтересовалась я, сопровождая вопрос неотразимой улыбкой, призванной выражать подобающую заинтересованность.
– Один из моих студентов написал эту статью, – сообщил нехтанит, протягивая мне мини-диск. К сожалению, я не отличаюсь хорошей реакцией и едва не уронила диск, так что и нехтанит не хуже меня заметил, как постыдно дрожат мои руки. Очевидно, именно это заставило его снова ощериться в той зверской гримасе, которая сходила у него за ухмылку.
– Работа слишком хороша, чтобы быть его собственной, но я не сумел отыскать, откуда он это все стянул. Может, вы попробуете?
Взбешенная собственной трусостью, я поспешно сунула диск в считывающее устройство и высветила файл, при этом стараясь не показать, как ошеломлена тем фактом, что вот этот самый вандал оказался преподавателем. Правда, на собеседовании мне сказали, что тридцать процентов преподавательского состава – нехтаниты, но я работала всего вторую неделю, и за все время это был второй профессор, нарушавший покой учебного центра. Большинство работали в своих домашних кабинетах и являлись в кампус лишь в случае крайней необходимости.
Втайне жалея, что именно этому профессору не сидится дома, я пропустила файл через свой синтаксификатор, провела синтаксический анализ статьи и проверила результаты.
– Хм, похоже, вы правы. Часть документа принадлежит местному лектору, родившемуся за последние двадцать лет, со словарным запасом десятого уровня, но основной текст указывает на автора, не являющегося коренным жителем и рожденного до Измененного Курса Обучения, со словарным запасом научной лексики двадцатого и социальной – четырнадцатого уровней.
Я смело глянула в татуированную физиономию, все еще маячившую над моим столом.
– Хотите проверить авторов, входящих в эти категории?
– Поскольку восемьдесят процентов публикующихся зоологов не местные уроженцы, почему бы нет? – сухо обронил он. – Это сразу сузит область поиска.
Я сняла данные с синтаксификатора и ввела в матрицу поиска авторов. У нас есть доступ к таким руководствам, потому что университет считается одним из лучших систематизаторов анонимной литературы на колониальных планетах. Подобные пособия широко используются в археологических и исторических документах, а также в криминологии. Именно с его помощью я установила автора старой поговорки: «после дождичка в четверг» (какой-то американский спортсмен двадцатого века, забыла фамилию).
Пока я работала, нехтанит не тратил времени даром: внимательно оглядывал студентов в учебном центре. Вернее сказать, пронизывал каждого злобно-неодобрительным взглядом. Те, кто имел несчастье пялиться на него, немедленно сгибались над своими автоматизированными учебными станциями. Те же, кто усердно работал и не заметил его появления, рано или поздно ощущали на себе сверлящий взгляд, поднимали головы и все без исключения подскакивали. Одна бедняжка даже вскрикнула. Нехтанит только пренебрежительно фыркнул:
– Первокурсница, что с нее взять.
Это окончательно вывело меня из себя. Я была горячей сторонницей возврата к методам обучения, присущим человечеству в старые времена. Одной из причин моего решения работать в Мал Сурджан (помимо того, что мужа перевели на Валлу), было то соображение, что это, в сущности, кампус. Студенческий городок, где молодые люди живут, работают в лабораториях, а иногда и собираются в аудитории на интерактивные дискуссии. Такое в наше время трудно встретить, потому что многие профессора не желают находиться в одном помещении со своими студентами, и как ни удивительно, у громадного количества студентов начинается клаустрофобия при мысли о том, что они окажутся в одной аудитории с тридцатью живыми индивидами. В их средних школах практиковалось дистанционное обучение, и они попросту не знали, как себя вести в обычных классах. Однако исследования показали, что обычное обучение по типу «преподаватель – класс» куда продуктивнее дистанционного, и лично я считаю, что занятия в кругу себе подобных повышают качество знаний у студентов. Поэтому мне крайне не нравилось, что какой-то размалеванный педант запугивает ни в чем не повинных детей.
– Простите, – заметила я, – но моим студентам трудно сосредоточиться под вашим недобрым взглядом.
Нехтанит молча вздернул бровь, отчего татуировка на соответствующей стороне лица поползла прямо под волосы.
– Ваши студенты?
– Я дежурный инфорат, – подавив вздох, объяснила я, – и моя обязанность не только помочь им с поиском информации, но и создать спокойную дружелюбную атмосферу, способствующую усвоению материала. Так что пока они в учебном центре, могут считаться моими студентами. А вы, – добавила я с милой улыбкой, чтобы смягчить резкость тона, – выводите их из равновесия.
Вместо того чтобы оскорбиться, он, похоже, развеселился. Я предпочла бы первое, потому что в следующий момент он нагнулся и сунул свой чудовищный крючковатый нос прямо мне в лицо.
– А вы? Вы тоже нервничаете?
Альтернатива была небогатой: солгать или позабавить его еще больше.
– Как почти все мое поколение, я получила стандартное дистанционное образование, – пояснила я, – и когда кто-то тычет своим носом в мой, разумеется, теряюсь.
Нехтанит чуточку помедлил, ехидно подсмеиваясь над моим замешательством, но все же отстранился.
– В толк не возьму, как вы и вам подобные способны плодиться и производить на свет потомство, – объявил он и, прежде чем я, ошарашенная его наглостью, сумела опомниться, с легкостью человека, часто пользующегося учебным центром и услугами инфората, прижал большой палец к панели идентификатора на консоли.
– Пришлите мне результаты запроса по этому автору, – велел он и зашлепал босыми ногами к выходу. – Я должен оценить работу к четвергу.
После его ухода я минуты две глубоко и мерно дышала, пытаясь умерить неровный стук сердца. И только потом поинтересовалась, что делают студенты. Тут, в основном, трудились новички, обремененные обязательным посещением центра под присмотром инфората, хотя своим посещением центр удостаивали и старшекурсники. Оставалось только удивляться, зачем, имея на своих рабочих станциях все доступные источники информации, они еще не ленятся таскаться сюда. Некоторым нравится одиночество, но остальные вовсе не прочь побыть в компании.
Определить ветеранов можно было с одного взгляда: все они вернулись к занятиям сразу после того, как убрался нехтанит. Первокурсники по-прежнему таращились на дверь или недоуменно переглядывались. Но если не считать испуганного шепота и дрожащих рук, переполох вроде бы унимался. Я повернулась к своей рабочей станции и вызвала досье на нехтанита по отпечатку его пальца.
Солн Шипнер, доктор философии, штатный преподаватель зоологии. Похоже, он и сам не слишком отличается от предмета своего изучения. Видели бы вы одежду и прически, которые носят студенты, наверняка не посчитали бы, что татуировки и косы способны привлечь внимание окружающих, но это отнюдь не так. Уж очень свирепая внешность у нехтанитов. Просто невероятно. Пастельные трико и рубашки всех цветов радуги, конечно, шокируют окружающих, но не наводят ужас.
Посылая результаты исследования запроса в почтовый ящик Шипнера, я пыталась вспомнить все, что читала о культе нехтанитов. Они сочетали усердные занятия науками и спортом с военными искусствами, предпочитая рукопашный бой. Правда, цивилизованные нации вот уже на протяжении шести веков не практиковали ничего подобного, но в древности на большинстве планет подобные сражения считались делом обычным. И Валла исключением не являлась. Ворота, обслуживавшие Валлу и пару других обитаемых планет системы, – единственный вход, через который можно было туда попасть, – дали сбой примерно через сто лет после освоения, и население оказалось предоставленным самому себе. Тогда и были заложены основы культуры нехтанитов.
Но все кончилось свыше трех веков назад, и сегодня нехтанитов осталось немного. Их девиз: «Преврати тело в молот, ум – в меч, а дух – в стрелу» – на современный вкус кажется чересчур воинственным. Насколько мне известно, образ жизни у них тоже спартанский, что отнюдь не привлекает орды новых почитателей в нехтанитский культ. Социологи считают, что через два поколения они окончательно вымрут, если, разумеется, не смягчат особо строгие правила своего обучения. А пока оставалось надеяться, что противный урод больше не появится в мое дежурство.
Надежды оказались напрасны. Ровно через три дня он возник снова.
– Доктор Шипнер! – приветствовала я его с улыбкой, которая могла бы показаться постороннему взгляду несколько вымученной. – Чем могу служить сегодня?
Нехтанит задумчиво оглядел занятых работой студентов.
– Я добился его исключения, – объявил он довольно громко, хотя вроде бы обращался ко мне.
– Кого именно? – поинтересовалась я.
– Того парня, что занимался плагиатом. Украл чужую работу. Я нашел источник: неопубликованная статья одного из авторов в том списке, который вы мне послали. Поэтому и потребовал, чтобы мальчишку вышибли, – пояснил он, по-прежнему не сводя глаз со студентов. – Наш университет не может позволить себе тратить время на детей, у которых ума не хватает самим написать работу.
Первокурсники изо всех сил делали вид, что усердно трудятся.
Мне отчего-то казалось, что вся эта тирада отнюдь не предназначена для того, чтобы похвалить быстроту и четкость моих действий.
– Вам опять требуется моя помощь, доктор Шипнер? – процедила я. Хоть бы он отказался и убрался ко всем чертям.
Шипнер наконец соизволил обратить на меня взор.
– Мыши, – провозгласил он. – Земные летучие мыши до их переселения на Валлу. Где кроме университетской библиотеки и зоологических архивов можно, по вашему мнению, искать данные о пространственных скелетных структурах?
Я вывела на экран список из полудюжины других возможных источников, включая имя частного коллекционера летучих мышей всех видов. (Нет, это не самый нелепый запрос, который я когда-либо получала. Далеко не самый.) Шипнер молча взял распечатку, повернулся и небрежной походочкой прошествовал в центр зала. Некоторые старшекурсники поднимали головы и кивали ему. Тот неизменно отвечал кивками. Но несчастные новички! Бедолаги прилипли к мониторам, всячески пытаясь игнорировать людоеда-профессора, разгуливавшего в поисках добычи. Правда, это плохо им удавалось. Один так растерялся, что сломал световое перо, другой уронил пакет со скикирисами, новомодными дурацкими игрушками, которые при столкновении с твердой поверхностью забавно расплющиваются, превращаясь в бесформенные мешочки. Скикирисы раскатились по всему полу, и парнишке пришлось долго ползать у ног Шипнера. Все это время тот испепелял его взглядом.
Когда вырвавшиеся на свободу игрушки были возвращены в стойло, он двинулся дальше, пока не набрел на девушку, вскрикнувшую при первом его появлении. Тут он остановился, нагнулся над ее плечом и уставился в монитор. Милая крошка побелела, как полотно, когда голова с трясущимися косами возникла в дюйме от ее личика.
– Х.П.Голлоуэй, – хмыкнул Шипнер. – Классик лунной литературы двадцать восьмого века. Чушь собачья.
С этим резюме он наконец покинул учебный центр, по всей вероятности затем, чтобы отправиться в логово, из которого вылез. После такого нашествия я решила сама обойти центр, чего обычно не делаю: студентам становится не по себе, когда за ними «надзирают», а Шипнер именно это и проделывал. Я сочла себя обязанной несколько сгладить эффект его присутствия и начала с девушки, предварительно узнав ее имя по отпечатку пальца.
– С тобой все в порядке, Элисса? – тихо спросила я.
– В полном, спасибо, – выдохнула она, но глаза ее предательски поблескивали.
Жаль, что никто не догадался надеть на него наручники и приковать к столбу, потому что на следующей неделе он вернулся, затребовал очередную справку и опять принялся бродить между студентами, причем совал свой длинный нос в их дела, совершенно, кстати, его не касающиеся. И комментировал все, что в голову взбредет, вернее, говорил всякие гадости. Назвал поэзию андронезов «робкой», а о труде известного мусульманского психолога высказался, что он «ничем не лучше верблюжьего навоза».