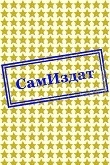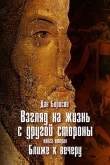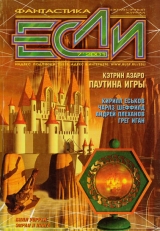
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 7"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Андрей Плеханов,Брайан Майкл Стэблфорд,Владимир Гаков,Кирилл Еськов,Дмитрий Байкалов,Чарльз Шеффилд,Дмитрий Караваев,Евгений Харитонов,Грег Иган,Тимофей Озеров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Арбалет Итурбэ щелкнул, и стрела срикошетила от надбровья великана (целился-то альв в глаз), опалив нафтою шерсть на черепе. Тем временем Локкар сблизился с врагом и рубанул того по протянувшейся в его сторону руке, не добившись, впрочем, ничего, кроме разлетевшегося фонтана нафтовых искр: с тем же успехом можно было рубить и камень. Тролль попытался схватить наглого недомерка, но Локкар благополучно выскользнул из-под его руки – по части реакции тролли с людьми тягаться не могут. Эта заминка и дала Итурбэ время перезарядить оружие; знатоки вообще крайне пренебрежительно отзываются о рычажных арбалетах класса «ординар», однако один плюс у этой маломощной машины все же имеется: перезаряжаются они, и вправду, очень быстро, буквально за пяток секунд.
Парализующий страх, сковавший Айвена в первый миг при появлении монстра, внезапно исчез, уступив место какому-то неведомому ранее состоянию отрешенного спокойствия. «Ты же маг! – отчетливо произнес кто-то неведомый внутри него. – Какой-никакой, но все же маг… Делай же хоть что-нибудь!» А из глубин памяти услужливо всплыли формулы простенького, известного в теории каждому начинающему чародею заклятия «Песок в глаза». Он прочел его – все, как надо, – и тролль, пытающийся поймать танцующего вокруг него Локкара, вдруг застыл на месте, ослепленный на пару-тройку секунд не видимой никому вокруг ярчайшей вспышкой, а Айвен застыл в свой черед – не хуже тролля.
Получилось!!! А-ра-ра!!! Впервые в жизни у него получилось наступательное заклинание!
– Итурбэ! Я могу ослеплять его магией – на несколько секунд!
– Отлично! Останови его, когда он повернется лицом ко мне!
Он так и сделал – на сей раз вложив в заклятие все, что можно и чего нельзя. Мир подернулся сумраком и покосился, откликнувшись хрустальным звоном в ушах, но все-таки устоял – а вместе с миром устоял на ногах и Айвен. Устоял, опершись о стену, весь покрытый липким потом и тщетно пытающийся удержать поднявшуюся выше горла тошноту… Однако дело, кажется, сделано.
На сей раз тролля, похоже, ослепило всерьез и надолго. Он застыл посреди галереи, беспомощно ощупывая воздух перед собою; громадная пасть людоеда, усаженная устрашающими клыками, извергала такой рев, что, казалось, с потолка сейчас посыпятся за шиворот облетевшие кристаллы кальцита… И тогда Итурбэ опустился на одно колено, хладнокровно прицелился с упора и выпустил последнюю свою огненосную стрелу – точнехонько в разинутую пасть чудовища.
Страшно и подумать, что натворила там, внутри, нафта – наверняка выжгла все, что только можно. Тролль опрокинулся навзничь, судорожно дергая ногами и пытаясь стереть с морды разбегающиеся от обугленной пасти язычки огня; он не издавал при этом ни единого звука – надо думать, среди прочего сгорели и голосовые связки… Альв между тем отчаянно крикнул из своего арбалетного отдаления замершему на месте, опустив меч, Локкару: «Не стой столбом, болван! Бей его в подошву, пока лежит!» Лейтенант подчинился без раздумий (уж кому, как не Старшему Народу, разбираться в укрощении троллей!) и мгновение спустя нанес колющий удар в пятку огромной, с хорошее корыто, ступни. И – о чудо! – клинок на сей раз и в самом деле не отскочил, а впился в плоть людоеда, опаляя ее нафтовым огнем…
И все же тролль поднялся – ну и живучесть!.. Поднялся, качнулся, не устоял на ногах (ступить на нашпигованную неугасимыми нафтовыми угольями пятку было, видать, невыносимо больно даже для него) – и вновь поднялся, волоча раненую ногу и опираясь на свои длиннющие руки, как на костыли. Альв продолжал осыпать его стрелами, целясь в глаза, раз и другой, и тогда чудовище, будто осознав наконец безнадежность борьбы, со всей возможной скоростью заковыляло к отверстию одной из боковых штолен.
– Оставь его! – крикнул Итурбэ устремившемуся было вслед за подранком Локкару. – Не жилец…
Лейтенант послушно вернулся на место схватки:
– Послушай, почему мне удалось его… ну, в ступню… Это – магия?
– Никакой магии. Шкура тролля заколдована и меч ее не берет, а вот подошвы – нет; там обычная кожная мозоль, как у всех, кто ходит босиком, только очень толстая… Это мало кому известно, да и проку от этого знания немного: такой расклад, как сегодня, выпадает… я уж и не знаю когда. Стрелять по глазам в любом случае надежнее.
– Благодарю вас, сэр Итурбэ. Похоже, я опять обязан вам жизнью.
– Благодарите лучше его, сэр Локкар, – альв кивнул в сторону Айвена, – Не останови он монстра своей магией, черта с два я так удачно всадил бы стрелу ему в пасть…
– Эй, Айвен! Ты как? – Локкар обернулся к юному магу, по-прежнему подпирающему стену, перевел взгляд с иззелена-бледной физиономии ему под ноги и понимающе протянул флягу с водой: – Ясно… Ну-ка глотни!..
Айвен прополоскал рот от остатков рвоты и сплюнул; потом напился – вроде чуть полегчало.
– Стимулятор?..
Он лишь отрицательно помотал головой.
– Идти можешь? Или нужен привал? – лейтенант лейб-гвардии сэр Локкар был вновь собран и целеустремлен.
– Могу.
– Тогда вперед.
* * *
Виктор отрешенно следил за перемещениями своих шахматных фигурок по полю битвы; забавно, что, когда игрушка переведена в режим «Демо», ее и остановить-то нельзя (нет такой опции) – остановится сама, когда закончится бой. Так что теперь только ждать: либо на экране возникнет пергамент с финальным сообщением о смертельном поцелуе богини Лим-Крагмы вкупе с предложением «Переиграть последнюю запись» или «Вернуться в основное меню», либо – если ребята прикончат-таки тролля или обратят его в бегство (что, впрочем, для их уровня совершенно невероятно) – экранная обстановка сменится обратно с «боя» на «путешествие»: доска с «Воландовыми шахматами» исчезнет, и возникнет «пейзаж глазами героя» – в данном случае уходящая в темноту штольня.
Фигурки героев двигались очень быстро, как и положено в режиме «Демо», так что Виктор не сразу разглядел, что сегодня они ведут себя как-то не вполне обычно… Он ясно понял это лишь тогда, когда после арбалетного выстрела Итурбэ от огромной серой фигуры тролля (с гигантопитека он срисован, что ли?) отлетела кверху совершенно ошеломительная багровая цифирка потерянных хит-пойнтов живучести; тролль опрокинулся навзничь, и подскочивший сэр Локкар ткнул в поверженного монстра мечом – опять вышибив из того кучу хит-пойнтов. Монстр, однако, сумел подняться и под стрелами Итурбэ торопливо заковылял наутек, к краю «шахматной доски». Вот тут Виктору уже захотелось протереть глаза: ладно, Бог с ним, что неуязвимую шкуру тролля пробивают ординарными мечами и незаговоренными стрелами – но по правилам игры фигурки падают наземь лишь мертвыми, израсходовав все хит-пойнты до нуля, и вставать обратно не могут категорически, ни при каких обстоятельствах.
Что ж это творится-то, а?
Схватка тем временем победно завершилась, режим показа на экране исправно сменился с «боя» на «путешествие», однако чудеса на этом отнюдь не кончились. Виктор потянулся было к курсорным клавишам, чтобы двинуть группу дальше, но тут освещенные факелом стены галереи чуть заметно дрогнули и сами собою заскользили навстречу: отряд и так уже шел вперед, безо всякого его участия! Для проверки он ткнул пальцем в курсорную стрелочку «назад» – никакого эффекта… Панически заметавшаяся мысль нашла единственную рационалистическую лазейку: игра неким непонятным образом перешла в «демонстрационный режим» и при «путешествии» тоже. Каким образом? – да почем я знаю, я ж вам не хакер!
Теперь он, широко раскрыв глаза и затаив дыхание, наблюдал нечто вроде видеофильма. Ему показалось, что к привычному звуковому фону подземного путешествия добавилось и нечто новое: шаги, тяжелое дыхание… или мерещится?.. Галерея свернула направо, потом налево, потом уперлась в развилку. Здесь картина на некоторое время остановилась – будто там, и вправду, совещались, куда свернуть, направо или налево; и тут среди привычных подземных звуков послышался слабый, но явственный незнакомый звон: не иначе как там подкинули монету на орла-решку!
Похоже, выпало им «налево». Двинувшись по левому ответвлению, группа почти сразу наткнулась на массивную окованную дверцу и бестрепетно распахнула ее. За дверью обнаружилась небольшая ярко освещенная зала, а в зале той…
И тут на экране внезапно пошел мультфильм.
Такие коротенькие, секунд на сорок, сюжетные мультфильмы завершают каждую из двенадцати последовательных миссий, составляющих сюжет «Хроник Срединных Земель». Но фокус-то в том, что происходящее сейчас никаким завершением нынешней миссии не было! И потом – уж он-то отлично помнит тот мультфильм, которым кончается первая миссия: сцена во дворце Аретты, когда благополучно доставленного в столицу Итурбэ в последнюю минуту ранит отравленным стилетом юный граф Аттор, находящийся в состоянии гипнотического транса…
А сейчас вместо этого на экране возник небольшой зал, в котором свернулся кольцами вполне симпатичного вида золотой дракончик; именно блеск его чешуи и наполнял зал тем мягким свечением, что было заметно еще снаружи. Дракон приподнял голову и приветливо произнес:
– Здравствуй, мальчик! Я жду тебя уже много веков… Пожалуйста, подойди поближе!
Айвен с замиранием сердца глядел на Золотого Дракона. Ему показалось, что он ослышался, когда тот приветливо произнес:
– Здравствуй, мальчик! Я жду тебя уже много веков… Пожалуйста, подойди поближе!
Юный маг кивнул и, отстранив пытавшегося остановить его Локкара, приблизился к этой ожившей золотой скульптуре.
– Тебе предстоит менять судьбы миров. Ты готов?
– Я… Я не знаю… Вправе ли я…
– Проверь себя, заглянув мне в глаза… Что ты увидишь – собственное отражение или нечто иное?
Айвен всмотрелся в бездонную тьму вертикальных драконьих зрачков.
– Это не мое отражение… Странная комната… Человек за столом, в странной одежде… Он, наверное, маг: перед ним доска с клавишами, что-то вроде ксилофона, и хрустальный шар, заключенный в квадратный ящик… Хрустальный шар показывает картину… Высокие боги! – он же показывает как раз Золотого Дракона!..
– Достаточно, Айвен, – мягко остановил его Дракон. – Ошибки нет – ты именно тот, кто нужен Срединным Землям…
Виктор глядел в разрастающиеся почти во весь компьютерный экран драконьи зрачки и мучительно соображал – откуда же это растущее чувство опасности? И вдруг вспомнил: Бог ты мой, нельзя, никогда нельзя заглядывать в глаза дракону! Пытаясь защититься, он вскинул было руку к кнопке Reset, но, разумеется, опоздал.
Странно мягкий голос произнес где-то в глубине его сознания, безо всякого злорадства, а скорее, с сочувствием: «Значит, тебе любопытно – что чувствуют люди, узнав, что их мир через несколько мгновений перестанет существовать?..»
…Больше всего это походило на то, как сгорает брошенная на угли фотография: черная обугленная кайма наступает от краев картона к его центру, обращая в рассыпающиеся хлопья картинку, самонадеянно мнившую себя вечной. Пару секунд в пустоте еще существовал экран с печальными глазами дракона – будто тот оглядывал напоследок свою работу, – а потом настала тьма, полная и вечная…
5.
Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив с заиленного, заросшего рдестами и роголистником дна причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой, цвета бутылочного стекла, водной толще, и казалось уже – вот-вот сложится в осмысленное воспоминание, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за одним погружаться в глубину; дольше всего держался запах – он как бы отчаянно выгребал против течения («Ну вспомни же меня, вспомни – это так важно!..»), однако настал черед и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. Теперь уж точно навсегда…
Виктор даже чуть помотал головой, будто вытрясая воду из ушей. Ведь в институте у Поля он точно впервые… Может, это стенд с выпиленными из пенопласта орденами и праздничной стенгазетой ему навеял какие-то воспоминания, так подобные стенды наверняка просто одинаковые во всех институтах… «Призывы ЦК КПСС к 80-ой годовщине Великого Октября» – ну какие тут возможны местные варианты?.. Равно как и непременный портрет орла нашего, товарища Андропова: пронизывающий взор Великого Инквизитора, тонкий хрящеватый нос и бескровные губы вампира. «Армянское радио спрашивают: почему Андропов выжил в 84-ом? Армянское радио отвечает: потому что стрелять надо было не обычной пулей, а серебряной!» Самого армянского радио, между прочим, в последние годы почти и не слыхать – не то что в благословенные либеральные времена Леонида Тишайшего…
Вот ведь не ценили, а? – «бровеносец в потемках», «сиськи-масиськи», что ни неделя, то новый анекдот, один другого ядовитее… Диссиденты из всяких «Хельсинских групп» – ну да, под гэбэшным надзором, да, утесняли их всяко-разно, обыски-высылки – но ведь они были, действительно были, и письма свои писали, и интервью журналистам забугорным давали, это ж только вдуматься – по нынешнему-то времени!.. Книжки опять-таки в стране издавались не Бог весть какие и не Бог весть сколько, но все-таки не один только буревестник революции товарищ Горький в серии «Школьная библиотека» да материалы очередного съезда в красном сафьяне; а в школьной программе изучали Достоевского и Щедрина – вот тоже «симптомчик»… А мы, идиоты малолетние, вольтерьянцы хреновы – ах, Северная Корея! ах, «1984»! Да в наши годы, между прочим, не было такого выпускника биофака, чтоб этот самый «1984» не прочел, а нынче – поди найди, чтоб хоть слыхал про такое… И чего удивляться: в наше время за хранение (ежели без размножения) полагалась «профилактическая беседа», ну, если в самом пиковом раскладе – могли попереть из аспирантуры, а нынче за «1984» припаяют столько, что выйдешь уже при коммунизме… Болтают, впрочем, тут еще и «чисто личное»: уж очень орел наш, Юрий Владимирович, эту дату – 1984 – недолюбливает…
– Привет! Извини – задержался, партсобрание… Давно ждешь?
– Да не очень… Вот, изучаю пока «Призывы ЦК КПСС к 80-ой годовщине», как раз дошел до призыва нумер 34: «Советские ученые! Укрепляйте лидирующие позиции советской науки», или как он там…
– Ладно, ладно язвить… Давай сюда свой аусвайс и обожди еще с минуту.
Биохимик Поль – университетский однокашник и кореш еще со времен школьного биологического кружка при Зоомузее – был теперь большой шишкой в Институте молекулярной биологии – членкор, шеф ведущей лаборатории (от замдиректорской должности хватило ума отмотаться), а главное – выполняя кучу военных программ, обладал немалыми возможностями по административно-партийной линии… Во, ты глянь: уже делает знак от вахты – давай, мол, сюда, можно; ну, дает! (У нас ведь нынче в стране очередное осеннее обострение – на сей раз на предмет бдительности: чтоб пройти в соседний закрытый институт – а они теперь все закрытые, – надо, чтоб наш первый отдел две недели переписывался с ихним: почему, да отчего, да по какому случаю. Или вот так: два слова на вахте от уважаемого человека… Воистину, «Если б в России законы действительно выполнялись, жизнь тут была бы положительно невозможна»…)
По коридору навстречу им валила густая толпа сотрудников – в конференц-зале только что закончилось под магнитофонный «Интернационал» юбилейное партсобрание (присутствие беспартийных, с чем последние пару лет было послабление, вдруг опять сделали обязательным). Поль сразу шарахнулся в боковой коридор, но был замечен и настигнут энергичной дамой специфически-профкомовской наружности; на лице институтского вседержителя сразу проступила печать покорной безнадежности, однако дело обошлось парой бумаг, которые он с видимым облегчением и завизировал прямо на подоконнике. До Вычислительного Центра они уже добрались беспрепятственно.
Дело, приведшее Виктора к молекулярным биологам, было, с одной стороны, пустяковым, а с другой – довольно щекотливым. Некоторое время назад ему понадобилось провести некие расчеты из области многомерной статистики. Ничего сложного в них не было, можно обойтись и ручным калькулятором, но объем данных был достаточно велик, и работа, по прикидкам, затянулась бы месяца на два; для хорошей же ЭВМ (вроде «Хьюлет-Паккарда» 80 года) там дела было минут на двадцать «чистого машинного времени» – плюс, понятное дело, неделю на подготовительные операции. Каковые подготовительные операции он успешно и проделал в ВЦ Института океанографии (в собственном его институте ЭВМ не было вовсе).
И вот, буквально за день до назначенного ему «машинного времени», в ВЦ океанографов нагрянул КГБ: выяснилось, что предприимчивые программисты распечатывали прямо на казенных печатающих устройствах Мандельштама и Стругацких. Весь ВЦ загремел под фанфары; помимо обычных в таких случаях статей «Антисоветская агитация» и «Хранение и размножение антисоветской литературы» ребятам навесили еще и «Незаконное частное предпринимательство», а поскольку по новому Кодексу срока не поглощаются, а плюсуются, на круг им вышло лет по десять… Чудо, что Викторовы перфоленты и прочую хренотень не загребли при обыске как вещдоки – выцарапать их потом было бы весьма проблематично…
Однако неприятности на этом не кончились. Под эту историю немедля был издан приказ по всем институтам: усилить контроль за множительной техникой, в том числе, отдельной строкой, – за печатающими устройствами. А первые отделы, рассудив, что кашу маслом не испортишь, попросту опечатали все ВЦ – до особого распоряжения. Поскольку работать-то все равно надо, опечатанными ВЦ, конечно, потихоньку пользовались, но делая вид, что ничего такого нету, и чужих, понятно, не пускали на порог. Виктор совсем уж решил было плюнуть и обсчитать свои данные вручную, когда чистым случаем, на встрече курса, узнал от Поля, что они-то своим ВЦ пользуются вполне легально: «Витюша, у нас в плане стоят такие спецтематики от Минобороны, что ежели нам вдруг понадобится вырыть котлован на Красной площади, они только козырнут и спросят – Мавзолей сдвигать в сторонку надо?»
В институтском ВЦ Поль перекинулся парой фраз с длинноволосым программистом запуганно-неарийской наружности и со скучающим на стуле в углу дежурным особистом. Далее все обошлось со сказочной легкостью: бутылка коньяку – и через двадцать минут Виктор держал в руках распечатку со своими результатами (забавно, но мелочная коррупция и поголовное раздолбайство под дланью Железного Юрика расцвели так, что про времена пофигиста Лени теперь в один голос говорили: «И ведь порядок в стране был!»). С интересом оглядел машинный парк; насколько он мог судить, ЭВМ тут были из самых современных, какие вообще можно отыскать в Союзе: молекулярные биологи, похоже, обставили свой ВЦ, что называется, «под падающий шлагбаум» – перед самым 86 годом, когда Рейган врубил эмбарго на поставки в соцлагерь вычислительной техники.
– Ну чего, заглянешь к нам в лабораторию? Там небось уже накрыли и откупорили – по случаю славной годовщины.
– А давай! Есть повод…
В лаборатории все было, как водится: лабораторный стол, застеленный фильтровалкой, винегрет в круглых кристаллизаторах и клю-квовка-«Несмеяновка», разливаемая из бутыли для дистиллята в химические мерные стаканчики. Благородное дворянство вполголоса беседовало:
– …Какой эксперимент закладывать, голубь?! Забыл, что мы завтра всем сектором отбываем на три дня?.. На родимой Сетуньской овощебазе картошечка в овощегноилищах уже перешла в жидкое агрегатное состояние – пора фильтровать, а как тут без биохимиков?..
– В Штатах говорят: «Неизбежны только смерть и налоги», а у нас – смерть и овощебазы; а вот интересно – как с этим обходились при Сталине? Или тоже зэки работали?
– …Вот-вот – якобы анекдот: «Некоторые злопыхатели утверждают, будто советская наука отстала от американской на двадцать лет. Это, товарищи, неправда. Она отстала навсегда…»
– Да уж, не знаю, как там всякая ядрена-физика, но в биотехнологиях-то мы точно отстали навсегда: своих реактивов должной чистоты нет, что называется, по определению, работать на привозных – это изначально повторять зады за американами… ну а теперь, после эмбарго, вообще полный привет – впору специальность менять. Виктор… Сергеич, – не путаю? – вам там у себя, часом, безработный дэ-бэ-эн не требуется?
– Ближе к лету, – хмыкнул Виктор. – Коллектором на Тянь-Шань. Сто десять, плюс высокогорные, плюс природно-очаговые – там чума. Идет?
Да-а, размышлял он, подставляя мерный стаканчик, да, ребята попали… Это нам хорошо – нужны голова и руки плюс старый добрый цейссовский микроскоп… ну, еще деньги на вертолетные заброски. А они ведь, и вправду, посажены на иглу с импортным оборудованием и реактивами, без этого хоть лоб разбей и наизнанку вывернись – нормального результата не добьешься. Первый раз их тряхнуло в 86-м, после Пешаварского кризиса, но тогда эмбарго было частичное, да и со временем приспособились закупать кое-что через третьи страны. А вот с 90-го, когда ввели в войска в Польшу (на пару с ГДР-овскими немцами; это ж надо было додуматься, а?) и весь мир сказал нам дружное и громкое «п-фэ!..» – настал полный даун: большая-пребольшая Северная Корея «с опорой на собственные силы»… Вон Поль говорит: все их супертематики – это уровень студенческих работ в Штатах или во Франции.
– …Мало того, что у них там чуть не у каждого собственная ЭВМ прямо на столе, так они теперь все эти ЭВМ объединили меж собой в единую систему, – азартно заливал какой-то вьюнош. – Представляете: сидишь ты, скажем, в Париже и напрямую переписываешься с другом в Лондоне, ну, получается вроде как телеграмма, только не выходя из дому…
– Да ну, Алеша, – отмахнулся изящный джентльмен в эспаньолке, смахивающий на Арамиса, – легенды это… Атлантида, летающие тарелки… теперь вот – единая сеть ЭВМ, соединяющая каждого с каждым. Ты просто вдумайся: нужно строить отдельную кабельную сеть – и чего ради? Чтоб твой парижский лентяй мог телеграммы посылать, не выходя из дому? Абсурд…
– Так они прямо по телефонной сети!..
Тут Арамис от души захохотал, по-птичьи запрокидывая голову:
– Ой, уморил… Алеша, голубчик, это ж анекдот, во-от с такой бородищей! Про мужика, у которого холодильник всегда от продуктов ломился; ну, приходят к нему товарищи из органов: откуда, мол. «А я, – отвечает, – приноровился его вместо розетки в радиоточку включать»…
– Да нет, точно через телефон! Можно еще любую книгу заказать из Библиотеки Конгресса – ну, не саму, понятно, а ксерокопию…
– И это, Алеша, тоже анекдот – времен Московской Олимпиады-80: мы, видишь ли, тогда на весь мир пыжились, пытались показать, будто у нас тоже все, как у людей… Так вот, «Армянское радио спрашивают: правда ли, что во время Олимпиады можно будет заказать продукты прямо по телефону? Армянское радио отвечает: да, правда; и получить их прямо по телевизору»…
По этой части Виктор с Арамисом был решительно не согласен, но спорить не хватило настроения. Судя по всему, у них там, на Западе, именно в области ЭВМ произошел крупный прорыв – он чувствовал это хотя бы по тому, что в последние год-два просто перестал понимать большую часть из того, что рассказывали в соответствующих программах вражьи голоса; а впрочем, может, все дело в том, что голоса эти он сколь-нибудь регулярно слушал только летом, в экспедициях; в больших же городах глушили так, что ловить Севу Новгородцева – это теперь было, по выражению Венечки Ерофеева, «целое занятие жизни». Иных же источников информации о заграничной жизни просто не осталось: железный занавес по полной программе, упрощенного выезда за границу, как при Брежневе, не было в помине, даже Поля больше не выпускают – одни дипломаты да гладкомордые «журналисты-международники»… В общем, по всему выходило, что мы в своей «Северной Корее – М» отстали от мировой цивилизации так, что не способны даже адекватно оценить масштаб этого отставания…
А все потому, что западное эмбарго на ЭВМ встретило трогательное понимание Степаниды Власьевны. Это дураки думают, будто ЭВМ нужны для расчетов и хранения информации; умные же, государственно мыслящие люди сразу поняли, что это – злоехидная пишущая машинка, способная в святую предпраздничную ночь родить из своих электронных мозгов тысячу листовок: «Андропов – козел!» и «Свободу Польше»… А уж когда выяснилось, что все собрание сочинений Солженицына умещается на магнитном носителе размером с пачку «Примы», а дальше его можно копировать одним нажатием пальца – у государственных людей вообще корчи сделались. То ли дело сейчас: перед праздником снес пишущие машинки со всего института в опечатанное помещение – и порядок, инструкцию с тридцатых годов не меняли…
Впрочем, одно применение личным ЭВМ в Союзе все же нашлось. Теперь среди высшей номенклатуры вошло в моду иметь в доме наряду с прочими атрибутами вседозволенности еще и новенькие, добытые за границей по линии ПГУ «Макинтоши», а их чада и домочадцы предавались суперэлитарному, не доступному никому из смердов развлечению – «электронным играм»; тем самым, что вышеозначенные гладкомордые международники, гневно супя брови, именовали не иначе как «новейший электронный наркотик, созданный американскими наследниками нацистского доктора Хасса для оболванивания трудящихся масс».
Виктор электронную игру видел однажды в жизни, и никакого впечатления она на него не произвела – игра в солдатики, только не в настоящие, а нарисованные, вроде мультфильма. Что интересного в этом занятии могут находить люди, вышедшие из дошкольного возраста, он решительно не понимал. Отдельную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что в этих американских игрушках крошили в капусту именно Советскую армию, так что магнитные носители с этими играми быстренько приравняли к «киноматериалам антисоветского содержания» (3 года – хранение, 7 лет – демонстрация); а поскольку играла в эти игрушки исключительно советская элита, ситуация складывалась вполне сюрреалистическая.
…Они оказались рядышком при одной из последовательных ротаций народа за столом – кто курить, кто звонить. Аспирантку звали Алиса, она была ослепительно рыжеволоса, трогательно веснушчата и изумительно зеленоглаза. Красивой ее назвать было трудно, однако Виктор давно уже вышел из того возраста, когда девушек оценивают по степени безупречности профиля и длине ног.
Она закончила ту же физматшколу, что некогда заканчивал он – и это давало повод обменяться ностальгическими историями типа «А вот в наше время…»; всерьез занималась горным туризмом – что позволяло со знанием дела обсудить с ней «способы заточки мечей», практикуемые на сыртах Тянь-Шаня и в гольцах Верхоянского хребта; словом, увести беседу в область галантной и занимательной светской болтовни проблемы не составляло – только это было очевидным образом не нужно ни ему, ни ей. Ибо он вдруг почувствовал с ошеломляющей ясностью, что впервые с той поры, как… ладно… так вот – он наконец встретил человека, с которым ему было бы очень хорошо молчать. Дуэтом.
– Алиса, можно задать вам нескромный вопрос?
– Можно.
– Скажите, вы читали «1984»?
И тут она на миг растерялась – ибо ждала явно не этого.
– Разумеется, читала… Это некий тест?
– Да, в некотором роде, – улыбнулся он; улыбка вышла кривоватой. – Я просто пытаюсь оценить на ощупь глубину generation gap…
– Ну, тогда я предвосхищу следующий вопрос old-timer'a: ничего общего между ангсоцем и той помойкой, что нас окружает, нету.
– Вопрос вы не угадали, но это ладно; а в чем же наше отличие?
– В самом главном: мы если хотим, то можем. Все прочее – производив.
– Мы – в каком смысле?
– А вот это уже действительно generation gap, – улыбнулась она. – Мы – это именно мы, и никаким расширительным толкованиям оно не подлежит. Я достаточно ясно выразилась?..
6.
Айвен обернулся и бросил прощальный взгляд на обомшелый каменистый склон с пещерой Золотого Дракона; тот ведь при расставании сказал: «Я дам знать, когда в тебе возникнет нужда» – значит, надо запоминать дорогу, на будущее… И лишь отмахав где-то с полмили (Локкар с Итурбэ сразу взяли такой темп, что только держись), он внезапно сообразил: тропинка!., тропинка, что ведет ко входу в пещеру! Она была хорошо натоптанной и даже не заросла травой – значит, ею пользуются регулярно… Что бы это значило, а?
7.
Окна однокомнатной Алисиной «хрущевки» глядели на юго-восток, в сторону Битцевского лесопарка, так что утреннее солнце вовсю заливало комнату – штору они вчера, естественно, не задернули… Первый солнечный день за столько времени – что ж, даже символично… И тут он внезапно расхохотался: о черт, да ведь сегодня же 7 ноября! По неуклонной советской традиции тучи над Москвой в этот день «разгоняют», распыляя с самолетов йодистое серебро.
Выпорхнувшая уже из-под душа Алиса колдовала на кухне. Виктор чуть приподнялся на локте (в границах выполняемой им команды «Лежать!») и принюхался: да, сомневаться не приходилось…
– Алиса! Ты это правда, что ль, насчет «кофе в постель»?
– С такими вещами не шутят, sweety!
– Да ты обалдела, подруга… Не вздумай! Я вообще пью чай, честное слово!
Кофе в московских магазинах не было уже года полтора, про всю остальную страну и говорить нечего; то, что выдавали временами в заказах, имело к кофе такое же примерно отношение, как Олимпиада-80 – к намеченному ранее на ту же дату коммунизму. Если девочка, и вправду, кофеманка (а кто еще его пьет по нынешнему времени?), баночка обходится ей в треть аспирантской стипендии. Вот ч-черт…
Алиса, одетая в туго перепоясанный халатик, появилась уже в дверях с подносом, деловито сообщив:
– Чаю не держу, увы. Но, если ты настаиваешь, на будущее озабочусь.
Пару секунд Виктор глядел на нее со странным щемящим чувством.
– Господи… Я только сейчас сообразил: ты разыгрываешь для меня сцену завтрака Джулии и Уинстона, да?
Она озадаченно глянула на него.
– Честно сказать, мне это и в голову не приходило… И потом, они по-моему не завтракали, а ужинали… Впрочем, – тут в ее зеленых глазищах промелькнули чертенята, – это как раз легко проверить: книжная полка прямо у тебя за изголовьем.
Виктор повернулся и пару секунд озирал стеллаж; потом крякнул и, отрывисто скомандовав: «А ну-ка, завернись к окошку по правилу буравчика…», принялся одеваться.
– Что… – голос ее чуть дрогнул. – Что-то не так?
– Все так, – он обнял ее, зарываясь лицом в рыжую гриву, – все чудесно. Просто я, как old-timer, не привык стоять без штанов ни перед девушками, ни перед такими книгами…
Потом, уже не торопясь, он вернулся к книжному стеллажу. Да, посмотреть тут было на что… «1984» действительно стоял на второй снизу полке; настоящей политики, помимо него, тут было немного – «Архипелаг» да пара не известных ему сочинений Зиновьева, – однако в целом стеллажик тянул лет на семь верных («…и три года за недонесение», – хихикнул кто-то в глубине сознания). Бог ты мой, кто ж ее родители? – ЦК или генералитет КГБ, никак не ниже… А она, стало быть, кошка, гуляющая сама по себе… молекулярная биология и горный туризм вместо предуготованной карьеры дипломатической жены… Ну-ну!