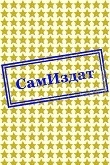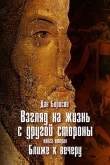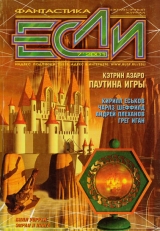
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 7"
Автор книги: Дмитрий Володихин
Соавторы: Андрей Плеханов,Брайан Майкл Стэблфорд,Владимир Гаков,Кирилл Еськов,Дмитрий Байкалов,Чарльз Шеффилд,Дмитрий Караваев,Евгений Харитонов,Грег Иган,Тимофей Озеров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Крупный план
Павел ЛачевГости нашей песочницы
В последнее время споры и ссоры между некоторыми представителями так называемого «мейнстрима» и авторами традиционной фантастики приобрели характер семейный, можно даже сказать – кухонный. С упорством, недостойным вообще никакого применения, они уличают друг друга либо в измене жанру, либо в отходе от вечных ценностей. Одни стоят на позициях, назовем так, ортодоксальной фантастики (и мы знаем их имена), другие же горделиво просят более их фантастами не именовать, поскольку они писатели, просто писатели… Но эти вопросы самоидентификации смело можно было бы отнести к сфере рекламы и саморекламы, если бы не наблюдались некоторые забавные тенденции, заставляющие подозревать, что дело не только в дешевом пиаре. Книга Виктора Юрчевского «Драбанты повелителя слов», вышедшая в издательстве «Новая космогония», лишь укрепляет в этих подозрениях. Но сначала о самом романе.
Сюжет, на первый взгляд, может показаться пародией на пародию, иными словами, на прямое заимствование идеи путешествия по воображаемым литературным мирам, осуществленным небезызвестным Луи Седловым из «Понедельника…». Что это – очередная бесконечная поделка очередного «ученика»? Но фигура автора доселе в фантастике не была замечена, а литературные пласты, перелопаченные в романе, к фантастике, в общем-то, в первооснове своей не тяготеют. Юрчевский, опубликовавший в «толстых» респектабельных журналах несколько повестей и рассказов в духе откровенно постмодернистской прозы, прошелся лихим наметом по мировой и российской классике, излагая свою версию тех или иных событий, описанных в сочинениях великих…
Введение в роман представляет собой вязкий диалог неких безымянных сущностей, полный глухих пророчеств, невнятных предсказаний и туманных намеков. Суть их становится мало-мальски понятной лишь после прочтения нескольких глав, почему-то автором названных инсталляциями.
Итак, то ли во времена доисторические, то ли в наши с вами, или же вовсе в безвременье обретается некто, имя которому Повелитель Слов – божество или очень сильный маг, имитирующий божество. Он умеет воплощать слово в реальность.
Но авторской фантазии хватает лишь на то, чтобы в реальность воплощались в основном напечатанные слова, а именно – произведения классиков мировой литературы, причем, явно по списку школьного учебника по литературе для старших классов. Но не будем строги…
Повелитель обнаруживает, что в мирах, созданных им, наблюдается некоторый беспорядок, местами переходящий в полный бардак. Логика и структура этих миров рушится, герои и иные персонажи, обреченные, казалось, на бесконечное повторение и воспроизведение сюжета, то ли пытаются выйти из-под контроля, то ли имеет место, как сейчас принято говорить, несанкционированное вмешательство темных сил. Самое смешное, что ответа на этот вопрос автор так и не дает. Остается непонятной также цель и смысл создания таких миров.
Повелитель рассылает своих драбантов [18]18
Стражник, охранник. (Прим. ред.)
[Закрыть]на предмет выяснения и недопущения. Собственно, приключения одного из них и составляют канву произведения. Попав в мир очередного литературного произведения, герой воплощается в какого-либо второстепенного, как правило, персонажа. Хотя фабула местами подозрительно смахивает на «квантовые скачки» из одного американского сериала, герой тем не менее всегда знает, что ему надлежит сделать – а именно, восстановить status quo. Так, например, в «Пиковой Даме», обнаружив вопиющее несоответствие с сюжетом (Германн и Лиза на выигранные деньги собираются провести медовый месяц в Ницце), он блуждает вперед-назад по всему миру-произведению, но никак не может понять, почему азартный игрок все же вовремя остановился…
Детективная линия могла стать весьма занятной, но герой невесть почему воплотился в немощную старую графиню и в состоянии лишь наблюдать. В этой главе рассыпаны намеки на некие тайные силы, которым была сопричастна носительница секрета трех карт, вскользь говорится о тамплиерах, Сен-Жермене и каких-то путешественниках во времени… Наконец, герой выясняет, что всему виной был кто-то из гостей, случайная реплика которого заставила Германна бросить игру.
Стилизация автору не вполне удалась. Хотя он очень старался не отходить от оригинала, но время от времени сквозь речь персонажей Пушкина прорывается лексика братков. Если это было сделано намеренно, тогда непонятен серьезный и даже местами напущенный пафос романа.
Расставив все по своим местам, то есть утопив Лизу, герой переходит к следующей миссии. В некоторых главах он встречается с другими посланниками, кое-кто из них не очень-то доволен своими деяниями, иногда герой сталкивается даже с актами откровенного саботажа. Один из драбантов влезает на «чужой участок» и всячески пытается обустроить Россию «Войны и мира». Вся эта фарсовая ситуация раздражает абсолютной серьезностью, с которой автор рассуждает о «Россиях, которые мы потеряли». Создается впечатление, что для него вообще вся наша история – перечень потерь и поражений. Приблизительно к середине романа герой (а возможно, и сам автор) слегка подзабывает, о чем, собственно говоря, идет речь. Оказавшись в реальности «Войны миров» Уэллса, он на протяжении чуть ли не полусотни страниц азартно сражается с марсианами, которые, как выясняется, благополучно покорили землян и вовсю упиваются нашей с вами кровушкой. Судя по всему, именно этот фрагмент дал повод автору предисловия к книге, известному литературоведу, до сих пор нигде интереса к фантастике не выказывавшему, назвать роман «остросюжетной фантастикой». Надо отдать должное Юрчевскому, здесь он честно пытается следовать канонам фантастического боевика. Но все это настолько банально и заезжено в бесконечных книгах и фильмах, что даже оторопь берет – неужели автор не смог или не захотел придумать что-то новое, помимо череды засад, пальбы и шинкования марсианских щупалец большим мясницким топором?
В последней главе герой оказывается в мире «Мастера и Маргариты», и это самые беспомощные эпизоды романа. Здесь и намеки на мистическую сущность НКВД, и какие-то мимолетные персонажи, явившиеся в булгаковскую Москву прямиком из Шамбалы, и набившие оскомину рассуждения о противоборстве каких-то древних демонов… Чего-чего, а модной криптоистории, которая уж доподлинно знает, как все было «на самом деле», тут в избытке. Единственно, чего не хватает – чувства меры. Наверное, Юрчевскому показалась очень оригинальной «версия» о Воланде как о креатуре тайных обществ, взлелеянных в недрах советских спецслужб. Утешает хоть то, что у автора хватило такта не касаться линии Иешуа.
Ближе к финалу Юрчевский делает довольно-таки вялую попытку связать разлохмаченные концы с концами. В разговоре с невесть откуда взявшимся по-дельником-драбантом с подозрительным именем Габриэль мимоходом бросается фраза о том, что, возможно, и сам Повелитель Слов, и вся эта катавасия с исправлением имен – тоже некое литературное повествование, в сюжете которого возится драбант высшего порядка… Но эта «оригинальная» мысль так и пропадает втуне, не получив никакого развития, а герой, увлеченный Геллой (единственный неожиданный ход во всем романе), решает остаться в той невероятной Москве, правда, несколько улучшив ее для своих личных удобств. Роман фактически обрывается на полуслове, на том месте, когда Гелла, получившая «вольную» от своего господина, и герой вселяются в роскошную квартиру бывшего ответработника и беседуют о том, как им славно будет по ночам пугать прохожих…
* * *
Так что же мы имеем в сухом остатке? Понятно, что для любителя фантастики – это криво сколоченное скучное повествование без начала и конца, своего рода выставка развешанных ружей, ни одно из которых так и не выстрелит. Разумеется, «мейнстримная» тусовка, в которую входит автор, ударит в литавры и тамбурины, это будет раскручено в прессе и так далее по уже набившему оскомину сценарию. Мы и раньше наблюдали, как известные писатели и поэты, не скрывавшие своего пренебрежительного отношения к фантастике, вдруг словно прозревали (или слепли) и выдавали «на гора» маловразумительную прозу. Почему-то «взрослым» дядям очень хотелось в нашу песочницу. И теперь время от времени кто-то из «серьезных» вдруг делает страйный курбет, а фэны возбужденно спорят, вносить сей опус в номинационные списки или не вносить.
В одном из обзоров в «толстом» журнале мне попалась на глаза фраза критика о том, «что Юрчевский наполняет литературный процесс свежей кровью». Эта корявое высказывание заставило задуматься вот о чем: а что если все так называемые «заимствования», «продолжения» и иные формы эпигонства суть проявления некоей, доселе неизвестной формы вампиризма? Может, сам факт обращения людей не всегда бездарных, а порой даже талантливых, к ненавистным жанрам и направлениям всего лишь проявление особо изощренного голода? Может, поэтому в свое время Вознесенский, Евтушенко, Айтматов, Тарковский припадали к чуждым водам… или то была не вода?
Может, отсюда и безответная любовь некоторых фантастов к «серьезной» литературе?
Тогда упреки справедливых, но излишне суровых блюстителей чистоты жанров становятся бессмысленными. Критикой тут не поможешь. Знатоки рекомендуют крест, серебро и осиновый кол. Это шутка.
Павел ЛАЧЕВ
Рецензии
Орсон Скотт КАРД
ДЕТИ РАЗУМА
Москва: ACT, 2001. 416 с.
Пер. с англ. А.Жикаренцева, А.Жемеровой – (Серия «Новые координаты чудес»). 13 000 экз.
Покупая продолжение фантастического романа, невольно настраиваешься на разочарование. Очень редко сиквел оказывается лучше первой книги. Орсону Скотту Карду однажды это удалось. Его второй роман из сериала об Эндрю Виггине – «Голос тех, кого нет» – получился заметно сильнее, ярче и талантливее, нежели первый – «Игра Эндера». Первые два романа саги вышли в середине 80-х, а в 90-х Кард попытался повторить удачу, но не слишком преуспел. Роман-продолжение «Ксеноцид» получился значительно слабее «Голоса…». Не поднялся до уровня шедевра и рецензируемый роман.
Читатель оказывается в хорошо известном мире. Галактика населена тремя разумными расами – людьми, свинксами и жукерами, которые мучаются проблемами контакта. Уже третью книгу подряд медленно подползает к планете Лузитания земной флот, чтобы навсегда покончить с ее обитателями. И по-прежнему на пути тупого Звездного Конгресса и вояк-злодеев стоит Эндрю Виггин, тайный Мессия для трех разумных рас галактики, автор нового Священного Писания.
Назойливая пропаганда «эксклюзивных» религиозных идей нанесла ущерб художественной яркости «Детей разума». Изложенная в книгах теория «Вне-мира», населенного духовными сущностями «айю», заимствована у мормонов. Все происходит согласно их теории «предсуществования душ». «Айю» болтаются во Вне-мире и только и ждут подходящего момента, чтобы просочиться в наш мир и поселиться в каком-ни-будь теле. Приключения различных «айю» (прежде всего «айю» Эндрю Виггина, случайно разделенного между тремя телами) весьма утяжелили сюжет, замедлили и растянули ход событий. Финал книги сделан в обычном для Карда стиле: всем сестрам – по серьгам. Земной флот наконец-то остановлен на подступах к Лузитании, свинксы и жукеры сумели основать несколько колоний на других планетах, «виртуальная» Джейн смогла перейти в человеческое тело, а Эндер наконец-то умер. Правда, окончательно отпустить любимого персонажа фантаст не решился. «Душу» Эндера унаследовал его брат Питер, возрожденный через 3000 лет объединенными усилиями всех «айю» Вне-мира. Поэтому не исключено, что дремлющая до поры до времени сущность Эндрю Виггина еще пробудится для того, чтобы в очередной раз вывести из тупика три галактические цивилизации, а заодно и пробуксовывающий роман сериала.
Гпеб Елисеев
Дмитрий КОЛОСОВ
ТО САМОЕ КОПЬЕ
Москва: Центрполиграф, 2001. – 445 с.
(Серия «Перекресток миров»). 8000 экз.
КОНЕЦ ОХОТЫ
Москва: Цен три олиграф, 2001. – 442 с.
(Серия «Перекресток миров»). 8000 экз.
Плохо, когда человек изменяет своему дару. Особенно плохо это в фантастике с ее разработанной системой субжанров, где в каждом имеются определенные правила игры. Если у автора хорошо получаются космические боевики в стиле К.Балмера или раннего Э.Гамильтона, не стоит создавать широкомасштабные художественно-философские полотна, подражая Ф.К.Дику. Все равно писатель будет сбиваться на темп привычного боевика, а глубокомысленные рассуждения, похожие на конспект лекции по философии и религиоведению, только раздосадуют читателя.
Именно такой казус и произошел с книгами Д.Колосова, завершающими трилогию о мире Пацифиса, начатую романом «Крысиный волк». Человеческая цивилизация выросла до невероятных размеров; она теперь контролирует не только более ста миров, но и вмешивается в дела параллельных времен и пространств – «Отражений». А вот «великий и ужасный» преступник Арктур стремится эту цивилизацию уничтожить. Для этого ему необходимо захватить копье Лонгина – то самое копье, которым римский сотник пронзил тело Христа на Голгофе. И скачет по пространствам и временам, преследуя Арктура, охотница Шева, выполняя приказ директора Управления Порядка Пацифиса.
У писателя имеется сюжетный материал для создания вполне приличного НФ-боевика. Если бы Д.Колосов остановился на рассказе о приключениях Шевы и Арктура, получилась бы добротная и небезынтересная приключенческая НФ. Однако автор поддался искушению сотворить «нетленку».
Писатель перегружает роман рассуждениями о богах, их роли в мире и даже пускается в сочинение околохристианских апокрифов, не задумываясь о том, что он несет. Вот что сообщает о Христе «охотница» Шева: «Он – ярко выраженный психопат из разряда тех, кому суждено быть вождями».
Разобравшись с традиционными христианскими сюжетами, Колосов взялся за зороастризм. В финале и Арктур, и Сурт сами оказываются некими полубожественными сущностями, братьями, борющимися друг с другом уже чуть ли не вечность. Грядущее, которое спланировали «псевдобоги», не несет людям ничего хорошего – Сурт устанавливает имперскую диктатуру с периодическими «зачистками» непокорных планет, а Арктур стремится просто уничтожить человечество.
Сюжет не нов. Стремление писателя подменить литературный труд проповедничеством тоже. С каждым разом подобные попытки становятся все менее и менее художественными. Куда достойнее для автора научной фантастики завораживать и развлекать читателей мастерством пера, чем играть роль агитатора-иеговиста, в очередной раз разоблачающего «выдумки исторических церквей о Христе».
Глеб Елисеев
Александр ЕТОЕВ
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Санкт-Петербург: Амфора, 2001. – 223 е.
(Серия «Наша марка»). 5000 экз.
Книга Александра Етоева «Бегство в Египет» не совсем новинка. Пару лет назад все три повести, составившие нынешний сборник, входили в двухтомник молодого автора, правда, изданный в количестве 200 экземпляров. Теперь проза Етоева увидела свет массовым тиражом в проекте П.Крусанова и В.Назарова – серии элитарной российской словесности. Так что, с формальной точки зрения, «Бегство в Египет» – все-таки дебютная книга.
Александр Етоев – очевидный воспитанник семинара Б.Н.Стругацкого. Особенно это чувствуется в «Эксперте по вдохам и выдохам». Как в выдержанной мадере отчетливо ощущаются тона каленого ореха, так в этой повести хорошо просматриваются приемы и методы, характерные для большинства учеников уважаемого мэтра. История охотника за существами, не испускающими изо рта пар в морозную погоду, по своему вкусу очень напоминает насыщенный букет ранних рассказов Андрея Столярова. Что же касается заглавной «повести для больших детей», то это маленький шедевр. Недаром именно она получила в свое время престижные премии «Странник» и «Интерпресскон».
У каждого читающего фантастику поколения существует своя главная детская книга. «Продавец приключений» Садовникова, «Экспедиция в преисподнюю» Ярославцева, «Голубятня на желтой поляне» Крапивина. Возможно, такой станет и «Бегство в Египет» Етоева. Рассказ о приключениях питерских школьников Саши Филиппова и Жени Йониха читается на одном дыхании. Тут и человек Лодыгин, придумавший Генератор Жизни, и оживающие надувные манекены, и настоящий друг – черепаха Таня (со времен Ятуркенженсирхива в нашей фантастике не встречалось такого колоритного персонажа). Слог же, которым это все написано, завораживает своей природной непосредственностью. Вереницы слов, составляющие предложения «Бегства в Египет», с каждым абзацем уводят взрослого читателя в мир его детства, ребенок же, вовремя прочитавший эту книгу, ну просто обречен стать лучше нас нынешних.
Андрей Синицын
Гарри ТАРТЛДАВ
ФЛОТ ВТОРЖЕНИЯ
Москва: Махаон, 2001. 400 с. + 448 с.
Пер. с англ. И.Иванова
(Серая «Фантастика»). 10000 экз.
1942 год. Наркоминдел Вячеслав Молотов, гаупт-штурмфюрер Отто Скорцени и боевик из варшавского гетто Мордехай Анелевич плечом к плечу в борьбе с инопланетными захватчиками. Плюс еще Сэм Иджер, игрок провинциальной бейсбольной лиги и знаток НФ. Земляне формируют очаги сопротивления пришельцам, желающим присоединить Землю к своей Империи.
Вооруженные от зубов до хвоста ящеры планировали блицкриг по типу «Война в Заливе». Но их неповоротливая система управления оказалась бессильной перед напором личной инициативы млекопитающих с низким уровнем технического развития. Внешняя угроза сблизила интересы враждовавших государств (нечто подобное было в «Схизматрице» Стерлинга). В результате колхозники радостно приветствуют немецкого офицера, подбившего вражеский танк, а изнуренные войной американцы с гордостью и надеждой следят за успехами советского правительства.
Автор не умаляет конфликты и противоречия между разными центрами власти. Но он стремится подчеркнуть, что плюрализм, толерантность и свобода инициативы более результативны, чем авторитарные механизмы подчинения.
Роман «WorldWar: In the Balance» – одна из лучших НФ-книг, посвященных 50-летию окончания войны. Можно назвать его «альтернативной историей», но «альтернативность» относится, скорее, к нашему времени, касается сегодняшнего отношения к прошлому. История складывается из малых человеческих усилий. Доля подлецов в обществе неизменна, но в иных обстоятельствах они могут раскрыться с лучшей стороны. Однако может повернуться и так, что будет дан выход худшим качествам, человеческая подлость повлечет за собой кровь и страдания. В части литературного мастерства Тартлдав – превосходный реалист. Он не боится показать всю сложность человеческих взаимоотношений, их зависимость от прихоти судьбы.
Картина войны подана в романе через восприятие простых людей, оказавшихся участниками страшных событий. Выпукло описаны характеры персонажей, их становление. У каждого героя – свои причины, чтобы принять участие в Сопротивлении. Их малые личные проблемы переплетаются с интригами глобального масштаба, пока человечество накапливает силы для борьбы. Сумеют ли земляне с помощью атомного оружия разгромить Флот Вторжения? Об этом читатель узнает из второй книги сериала, которая еще не переведена на русский.
Сергей Некрасов
Михаил БАБКИН
СЛИМП
Москва: Армада – Альфа-книга, 2001. – 400 с.
(Серия «Фантастический боевик»). 17000 экз.
Наш человек в ненашем мире – что может быть старше этого литературного приема? «Слимп» в этом смысле вполне традиционен.
С главным героем – Семеном, блуждающим в хитросплетениях Истинных Миров – чего только не происходит. Он оказывается в центре интриг самых могущественных сил – местных империй, лесных разбойничьих демократий, а также пришельцев-двутелов, повсюду шныряющих на летающих тарелках. Нашего человека хотят арестовать, поработить, использовать для самых черных дел. Разумеется, из лихого водоворота событий герой выныривает без малейшего ущерба для себя.
Но фэнтезийный квест приобретает очертания вполне научно-фантастические. А центральный образ ге-роя-мастерового, видящего всю «волшебную» механику насквозь, в ее весомом, грубом, зримом проявлении, способного не только использовать, но и чинить, настраивать обветшавшие «магические» приборы, продолжает пафосно-гуманистическую традицию, идущую от самых корней НФ. Сюжетообразующая линия Настройщика в романе оказывается даже важнее интриги с загадочным Слимпом, давшим название книге.
Впрочем, линий в романе множество, авторская фантазия неудержимо рвется вперед, так что финал, в котором Семен пускает весь неиспользованный мировой запас субстрата магии на создание новой сущности – разумной и отчасти даже божественной, – выводит повествование на новый виток и, скорее, напоминает пролог второго, еще не написанного тома.
Валентин Шатилов