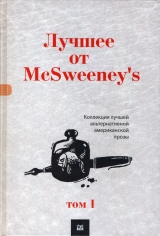
Текст книги "Лучшее от McSweeney's, том 1"
Автор книги: Дэйв Эггерс
Соавторы: Джонатан Летем,Кевин Брокмейер,Джордж Сондерс,Лемми Килмистер,Зэди Смит,Джим Шепард,Энн Камминс,Артур Брэдфорд,А. Хоумз,Александар Хемон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Скандал утих, когда многие сообразили, что уровень шума обратно пропорционален настоящей значимости дела. Мы стали козлами отпущения, как будто боснийские коммунисты хотели на нас продемонстрировать, что будут подавлять в зародыше любую попытку оспаривания социалистических ценностей. Кроме того, злополучное боснийское правительство столкнулось со скандалами, которые были громче и гораздо серьезнее. Уже несколько месяцев правительство тщетно пыталось пресечь слухи о развале государственной компании «Агрокомерц», глава которой, состоя в дружбе с коммунистическими шишками, выстроил свою мини-империю на несуществующих ценных бумагах, вернее, на социалистических версиях оных. Кроме того, имелись люди, которые были арестованы и отданы под суд за высказывания, ставящие под вопрос коммунистические законы. В отличие от нас, эти люди знали, о чем говорили: у них были идеи, а не беспорядочные запоздало-подростковые фантазии. Мы сами оказались бродячими собаками с фонариками, а потом явились службы по надзору за животными.
Но даже спустя несколько лет мне случалось встречать людей, полагавших, что вечеринка была фашистским митингом, и готовых отправить нас на галеры. Разумеется, я далеко не всегда добровольно делился информацией о своей причастности к делу. Однажды в горах неподалеку от Сараево, во время военных сборов, я разделял тепло костра с пьяными резервистами, поголовно полагавшими, что участников вечеринки нужно было, как минимум, повергнуть жестокой порке. Я искренне согласился – действительно, твердо заявил я, всех их следовало повесить, ко всеобщему удовольствию. Таких негодяев, сказал я, необходимо прилюдно подвергать пыткам. Я изменился, на какое-то время я сделался своим собственным врагом, и это было чувством одновременно страха и освобождения. Давайте выпьем за это, сказали резервисты.
Сомнения в реальности вечеринки сохранились. Этому не мешал факт, что Исидора со временем сделалась настоящей откровенной фашисткой. Она устраивала публичные перфомансы и прославляла традиции сербского фашизма. Ее дружок был вождем группки сербских самозванцев, головорезов и насильников, орудовавшей в Хорватии и Боснии и известной как «Белые орлы». Она опубликовала мемуары под названием «Невеста военного преступника». Наша с ней дружба прекратилась в начале девяностых, и я продолжаю сомневаться в своем понимании прошлого – возможно, втайне от меня, фашистский день рождения был порождением ее фашистской ипостаси. Возможно, я не замечал того, что замечала она, возможно, я было всего лишь пешкой в ее шахматном мюзикле. Возможно, моя жизнь напоминала одно из изображений Девы Марии, из тех, что появляются в отделе замороженных товаров какого-нибудь супермаркета в штате Нью-Мексико или в другом подобном месте, и заметны только верующим, смешны – всем остальным.
III. Жизнь и труды Альфонса Каудерса
В 1987 году, после провала вечеринки, я начал работать на сараевской радиостанции, в программе, предназначенной для молодежи. Программа называлась «Omladinski Program» (Молодежная Программа), и все сотрудники были очень молоды, с минимальным опытом радиовещания. Я провалился на первом собеседовании, весной, когда отголоски вечеринки все еще отзывались эхом в студийных коридорах, но был принят осенью, несмотря на мой спотыкающийся, откровенно нерадиогеничный голос. Я занимался в студии чем попало, главным образом, писал чудовищные кинообзоры и инвективы против государственного идиотизма и всеобщей тупости, а потом читал их в эфире. Руководство радио предоставило программе немалую свободу, поскольку произошли политические перемены, кроме того, мы все в то время легко восприняли бы провал, если бы он случился, ибо все мы были юные никто.
Важно было то, что мне предоставляли три минуты в неделю в довольно популярном шоу, которое вели мои друзья, и я рассказывал в эфире свои истории. Мой эпизод назывался «Саша Хемон О Правдивом И Не Слишком» (СХОПИНС). Иногда истории, что я читал по радио, оказывались короче, чем позывные СХОПИНСа. Иногда они ставили в неловкое положение мою семью – уже и без того поставленную в неловкое положение вечеринкой, – потому что у меня была серия рассказов о моем кузене-украинце, каким-то образом потерявшем все конечности и ведшем нищенское существование, пока ему не случилось получить работу в цирке, где слоны катали его по рингу как мячик, работа через день.
Со временем я написал рассказ «Жизнь и труд Альфонса Каудерса». Понятно было, что опубликовать его невозможно, поскольку в нем содержались насмешки над Тито и множество высокомерных похабностей с Гитлером и Геббельсом в качестве действующих лиц. В то время в Югославии большинство литературных журналов мало-помалу выуживали то и это из литературного наследия, открывая писателей, чьи стихи впоследствии стали военными гимнами. Я разделил рассказ на семь сцен, каждая из которых умещалась в три положенные минуты СХОПИНСа, а потом написал к каждой из них предисловие, исходя из того, что я историк, и что Альфой Каудерс был историческим лицом и предметом моих обширных и тщательных исследований. Одно из этих введений было написано после моего возращения из СССР, где в архивах я и откопал материалы о Каудерсе. Другое информировало слушателей о завершении моей поездки в Италию, где я был гостем съезда Транснациональной Порнографической Партии, платформа которой, естественно, базировалась на учении великого Альфонса Каудерса. В третьем введении цитировались письма несуществующих слушателей, восхвалявшие проявление мною необходимого для историка мужества и предлагавшие назначить меня директором радиостанции.
Мне часто казалось, что никто не знает, что я делаю, потому что никто не слушает СХОПИНС, кроме моих друзей (Зока и Невен, теперь в Атланте и Лондоне, соответственно), которые щедро наделяли меня временем на шоу, и слушателей, не успевавших переключить волну, потому что сюжет очень быстро заканчивался. Это меня устраивало, поскольку я не испытывал ни малейшего желания опять причинять огорчения плохим и хорошим следователям.
После того, как завершились трансляции всех семи выпусков, я решил записать всю сагу о Каудерсе целиком, читая ее своим спотыкающимся голосом, о котором до сих пор говорят как о худшем голосе, когда-либо звучавшем по боснийскому радио, и подбавив кое-каких звуковых эффектов: речи Гитлера и Сталина, коммунистические военные песни, «Лили Марлен». Мы транслировали передачу целиком, без перерывов, в течение двадцати с лишним минут – нечто вроде радио-самоубийства – в шоу Зоки и Невена. Я был их гостем в студии и по-прежнему выдавал себя за историка. С лицами, лишенными всякого выражения, Зока и Невен торжественно зачитывали письма читателей, сплошь фальшивые. В одном из них содержалось предложение выпороть меня и мне подобных за осквернение святынь. Автор другого требовал больше уважения к лошадям (ибо Альфонс Каудерс ненавидел лошадей). В третьем выражалось недовольство по поводу изображения Гаврилы Принципа, убийцы эрцгерцога Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда, и утверждалось, в противовес моим изысканиям, что Принцип вовсе не наделал в штаны, пока поджидал эрцгерцога на углу одной из сараевских улиц.
После этого мы открыли телефонные линии для слушателей. Я полагал, что а) никто по-настоящему не слушает передачи про Каудерса, б) те, кто все-таки слушает эти выпуски, находят их глупыми, и в) те, кто поверил, что все это правда, болваны, тупицы и выжившие из ума старики, у которых патологически стерлись границы между историей, фантазией и радиотрансляциями. Следовательно, я не был готов к вопросам, или возражениям, или дальнейшим манипуляциям с сомнительными фактами. Телефоны, меж тем, не умолкали в течение часа или около того, разговоры передавались в прямой эфир. Подавляющее большинство слушателей приняли историю за чистую монету, но все-таки не удержались от коварных вопросов или наблюдений. Некий врач позвонил и заявил, что человек не может сам себе удалить аппендикс. Другой дозвонившийся слушатель доложил, что держит в руках «Энциклопедию лесоводства» – содержащую, как предполагалось, массу материалов о Каудерсе – но не видит ни одного упоминания о нем. Были и другие вопросы, уже не могу припомнить, какие именно, и я вошел в сочинительский раж. Я сыпал правдоподобными ответами и ни разу не рассмеялся. Я полностью слился со своей ролью – как, я полагал, поступают актеры, – не прекращая опасаться, что моя защита может оказаться поспешной и боязливой, и что аудитория сможет разглядеть настоящего меня, притворщика, за маской, что моя игра совершенно прозрачна. Мне удалось избавиться от страха, что позвонят хорошие и плохие следователи (скорее, все-таки плохие) и потребуют немедленно явиться в Главное Управление Госбезопасности. Но самым жутким был страх, что кто-то может позвонить и сказать: «Ты ничего не знаешь о Каудерсе. Я знаю гораздо больше, чем ты, и вот в чем заключается истина…» В этот момент Каудерс сделался реальностью – он был моей Девой Марией, показавшейся в студийном звуконепроницаемом стекле, за которым стояли ничем не примечательный звукорежиссер и группка людей, искрящихся энергией восторга. Это был бодрящий момент, когда фикция прорвала реальность и превзошла ее, очень напоминающий эпизод, когда с операционного стола доктора Франкенштейна поднялось тело и принялось его душить.
В последующие дни и даже годы люди останавливали меня на улице и спрашивали: «Вправду ли существует Каудерс?» Одним я отвечал: «Да», другим – «Нет». Истина же состоит в том, что невозможно узнать, действительно ли существует Каудерс в быстротечном мгновении, подобно тому, как субатомные частицы в ядерном ускорителе в Швейцарии существуют слишком короткое время, чтобы их существование можно было зафиксировать. Время его существования оказалось слишком коротким для меня, чтобы определить, был ли он миражом, следствием того, что была достигнута критическая масса коллективного обмана, или же он явился, чтобы дать мне знать, что моя жизнь подверглась облучению его недоброжелательной ауры.
Мой Каудерс-проект был попыткой вернуться к реальности. Я блаженно упорствовал в вере в то, что действительно существую, пока не стал вымышленным персонажем в чьем-то рассказе про вечеринку в день рождения. Я хотел, чтобы Каудерс – вымышленный персонаж – проник в реальность кого-то другого и отобрал реальность у вечеринки. Обнаружив себя по другую сторону зеркала, я швырнул в него Каудерса, надеясь разбить стекло, но он попросту пролетел сквозь зеркало и вырвался из-под моего контроля. Я не знаю, где он теперь. Возможно, натягивает струны фактов и фикций, заставляя меня писать рассказы, а я глупейшим образом полагаю, что сам их придумал и сочинил. Возможно, однажды я получу письмо, подписанное А. К. (ибо именно так он любил подписывать свои письма), в котором будет сказано, что проклятая шарада решена, и начался отсчет моего собственного времени.
Перевод Э. Войцеховской
* * *
Кому:
_ _ _
Дэвиду И. Фуэнтсу
Генеральному директору «Оффис Депо»
22 Орл-Джермантон-роад
Делрэй-бич, Флорида
33445
_ _ _
Дорогой мистер Фуэнтс,
В последнее время я рассылаю генеральным директорам крупных компаний письма от имени ирландского сеттера по кличке Стивен. Для Вас, однако, я стану маленькой птичкой, возможно, колибри, по кличке Зеленусик. Вот, получите:
Когда я был юным и вечно голодным птенцом, мать улетала в поле за едой и палочками для гнезда, оставляя нас с братьями и сестрами одних. Она улетала, а мы ждали корм с открытыми ртами, глаза у нас были, как сине-зеленые бусинки, покрытые тончайшей розовой кожицей.
Она улетала, а мы разучивали песенки. Зачем мы их пели, я уж и не вспомню, самих этих песенок тоже. Прошли месяцы, мы разлетелись кто куда, и я никого с тех пор не видел – ни братьев, ни сестер, ни матери. Птички несентиментальны, а все потому, что умеют летать.
Только знаете что? Я никакая не птичка. Я пес по кличке Стивен. Вас не обманешь – я быстроногий пес, черт возьми, и я ношусь вокруг деревьев, как самонаводящаяся ракета. Вуууу! Вууууууу! И никаких птиц, никаких птичек, которые просят есть! Ни за что! Я бегу-бегу-бегу-бегу по сухой горячей траве, и если все время так бежать, то, наверное, не будешь лаять. Если все время бежать, пригибаясь и поворачиваясь, как лыжник, то никогда не захочешь просто лаять, лаять и лаять – о Господи Иисусе, пусть я буду все время бежать! Я, блядь, попросту боюсь устать и свалиться, понял, мужик?
Мистер Фуэнтс, я благодарю Вас за внимание.
От кого:
_ _ _
Дэниел О'Мара
5811 Меса-драйв, № 216
Остин, Техас
78731
_ _ _
ТЕДФОРД И МЕГАЛОДОН
Джим Шепард
Уезжая, он взял с собой кое-какие книги, но лишился их, когда пересаживался на судно поменьше. Один из подъемников опрокинулся, и груз полетел вниз вдоль борта корабля. Его ежегодник сохранился в целости, за что он был благодарен судьбе.
Среди утерянного были его Симпсон и Элдридж, его «Остеология и отношения хрящевых рыб», его «Песни для мальчиков», «Онтогенез пластиножаберных рыб» Бэлфура и сопровождавшая его с детства «Библиотека для мальчиков» Бидла, в том числе и «Ловкач Нэд, мальчик-волшебник».
Межзвездное пространство у него над головой было невозможно черным. Той ночью он записал в своем ежегоднике: «Бархат, пронизанный иглами света».Судя по всему, над ним простиралось какое-то галактическое облако. Звезды образовывали арку от одного горизонта до другого. Вода у самого льда тревожила своей неподвижностью. Неподалеку волны плескались о нос каяка. Холод казался ветром, долетающим со звезд.
Тридцатитрехлетний Рой Генри Тедфорд и его немногочисленные пожитки висели на подветренной стороне каменистого склона на крошечном острове где-то около 146 градусов долготы и 58 градусов широты, в семистах милях от антарктического побережья Земли Адели и, согласно любым официальным картам, в четырехстах милях от ближайшей земли вообще: невзрачной точки острова Маккуори к востоку. Стояла ясная летняя ночь 1923-го года.
Его остров – одна из трех сбившихся в цепь длиной в четверть мили скал, покрытых льдом, – существовал только на нарисованной от руки карте, которая и привела его в это место, удаленное от немногочисленных морских путей и районов рыбного промысла, заходивших так далеко на юг. Рядом с приблизительными координатами места, Хевельман своим почерком, похожим на колючую проволоку, начертал название карты: Острова мертвых.Снизу большими печатными буквами Хевельман подписал туземное слово Kadima-kara,или «животные Времени творения».
Запасы Тедфорда включали двадцать один фунт галет, две банки бисквитной муки, кулек конфет, мешок сухофруктов, походную газовую плитку, непромокаемую обертку для ежегодника, два небольших фонарика для чтения, четыре канистры керосина, водонепроницаемую одноместную палатку, спальник, запасную куртку и перчатки, запасную пару веллингтонов, [70]70
Род сапог, резиновых или кожаных, доходящих до колена, на низком каблуке. Такие сапоги были в XIX в. введены в моду в Великобритании герцогом Веллингтоном, и с тех пор называются в честь него.
[Закрыть]нож, малый набор инструментов, спички в двойной герметичной упаковке, нераздвижную фотокамеру в специально изготовленном чехле из красного дерева и непромокаемом мешке, револьвер и Блэнд-577 Аксит-экспресс. Он дважды стрелял из Блэнда, и оба раза его отбрасывало на спину отдачей. Охотник в Мельбурне, продавший его, уверял, что это наиболее близкий к полевой артиллерии предмет, который человек мог положить на плечо.
Четыреста миль отделяли его теперь от возможности поделиться с кем-нибудь мечтой или воспоминанием или просто перекинуться словом. Если все пойдет хорошо, он снова увидит дружески расположенное лицо, вероятно, только через два месяца. Прежде чем прекратить писать, его мать регулярно напоминала ему, что нужно обладать чрезвычайно упрямой натурой, чтобы добровольно обречь вполне разумного в других отношениях молодого человека на такую жизнь.
На бумаге его план выглядел превосходно. Он уже оставил один из двух каяков вместе с кое-какими припасами на третьем, самом западном острове, на случай если плохая погода или сильное волнение не позволят ему вернуться сюда.
Он начинал в качестве студента Дж. X. Тейта в Аделаиде. Тейт, который обеспечивал себе добровольцев для полевых исследований тем, что сделал частью своей экипировки бочонок пива, познакомил Тедфорда с теорией эволюции и палеонтологией, когда решил внести разнообразие в тот случайный званый обед, распевая во все горло, на мотив «Долог путь до Типперэри»: [71]71
Походная песня, популярная среди солдат британской армии в Первую мировую войну.
[Закрыть]
В течение двух лет Тедфорд был его ревностным приспешником, а затем его энтузиазм стал угасать перед лицом отдаленности мест исследований, недостатка материальной поддержки и скудости находок. Три месяца ради древнего зуба, древность которого Тейт определял сам! Тедфорд устроился на работу секретарем к местному землеустроителю, и, в силу своих обязанностей, попадал под удар всего арсенала местных небылиц, историй, которые передавали друг другу по секрету, и причудливых баек. Неожиданно для себя, он увлекся тем, что в свободное время расследовал каждую из них, разыскивая животных, известных местному населению, но невиданных в мире. Когда дело касалось историй, его метод заключался в подробном рассмотрении, логическом анализе, и затем переосмыслении услышанного. Его инструментами были настойчивость, страсть к наблюдениям, терпимость к долгим лишениям и трастовый фонд его тетушки. Однажды зимой он провел месяц, разыскивая bunyips– чудовищ, которые, как ему сказали, обитали в глубоких подводных ямах и по ночам блуждали по биллабонгам. [73]73
Озера, образующиеся при изменении русла реки.
[Закрыть]Однако нашел только несколько окаменелых костей каких-то огромных сумчатых. Его увлекли paringmal– «птицы, ростом превосходившие горы», но он обнаружил их только в наскальной живописи. Он провел лето, спекаясь на раскаленном сланце, в ожидании мифического животного cadimurka.
Вся эта лихорадка подошла к своему апогею в тот день, когда один рыбак показал ему зуб, обнаруженный в глубоководных сетях. Это оказался большой светлый треугольник толщиной с лепешку; корень его был шершавым, лезвие, покрытое гладкой эмалью, имело по краю около двадцати острых зазубрин на сантиметр. Примечателен был и его вес: один только этот зуб весил около фунта.
Тедфорду и раньше встречались подобные зубы, в миоценовых известняках. Они принадлежали, как уверял Тейт, существу, которое наука определяла как Carcharodon Megalodon,или «большой зуб», – недалекого предка большой белой акулы, только примерно в три раза больше: исполинская акула, между челюстями которой высокий человек мог бы стоять, не нагибаясь, с крепкой, непропорционально большой головой. Но зуб, который Тедфорд теперь держал в руках, был белый,и это означало, что он принадлежал животному либо вымершему совсем недавно, либо до сих пор существующему.
Он написал о находке в «Тасманийский естественнонаучный журнал». Издатель принял текст, но отказался от его провокационного заголовка.
Почти год спустя он случайно увидел в газете сообщение о уорнамбулском морском чудовище, названном так по имени порта приписки трех тунцеловов, на которых одиннадцать рыбаков и мальчик отказывались выходить в море в течение нескольких дней. Они были на промысле, на неких известных только им отдаленных рыбопромысловых участках, недалеко от того места, где шельф круто уходит на глубину, когда громадная, невероятных размеров акула всплыла между ними и погрузилась обратно, унеся с собой сети, одну из лодок и судовую собаку. Мальчик – он был в лодке, которая опрокинулась, – закричал: «Что это? Плавник огромной рыбы?» – а потом всё пошло кувырком. Из пучины спаслись все, кроме собаки. Они в один голос твердили, что никогда раньше не видели подобных тварей. Во время интервью, проводившихся в присутствии местного инспектора по рыболовству и некоего Б. Хевельмана, зубного врача и натуралиста, мужчин очень подробно опросили, и их показания совпадали до деталей, даже вплоть до длины этого существа, которая казалась немыслимой: по меньшей мере, шестьдесят пять футов. Их не смущал тот факт, что такова была длина крытого причала в их родном заливе. В сообщении уточнялось, что все эти люди были привычны к морю, и к любым погодным условиям, и, кроме того, к любым разновидностям акул. Они встречались и с китовыми, и с гигантскими акулами. Они подробно описали возмущение на поверхности воды, вызванное всплытием твари и её последующим погружением. Они настаивали, что это был не кит, – они видели эту ужасную голову. Они сошлись во всем: в размере спинного плавника, в поразительно огромном диаметре существа, в его призрачно-бледном цвете. Что особенно говорило в их пользу, согласно их собственным критериям доверия, так это их бесповоротный отказ возвращаться в море в течение примерно недели, несмотря на потерю заработка – потерю, которую они с трудом могли себе позволить, как подчеркнули их также опрошенные жены.
Только через неделю он смог выехать на место, но когда он, наконец, добрался до Уорнамбула, никто не хотел говорить с ним. Рыбаки устали быть местным поводом для сплетен, и сказали только, что лучше бы кто-нибудь другой, не они, увидел эту тварь.
Не успел он вернуться на рабочее место, как стали появляться другие истории. Всю неделю каждое утро было по сообщению, и их значение мог оценить только он. Небольшое судно затонуло к югу от Тасмании, при штиле, экипаж пропал. Траулер длиной в девяносто футов натолкнулся на риф там, где на картах была обозначена глубокая вода. Китовую тушу без головы, с длинными глубокими ранами вынесло на берег недалеко от залива Хиббс.
Как только ему представилась возможность, он выехал утренним экипажем в Уорнамбул и отыскал там Б. Хевельмана, зубного врача, который оказался неопрятным человеком, похожим на какаду, засевшим, как в берлоге, в помещении в задней части своего дома, где он оборудовал себе лабораторию. Как он с раздражением объяснил Тедфорду, после обеда он уединялся там, отгороженный от своих пациентов и их страданий, и предавался энтомологическим и зоологическим исследованиям, плоды которых украшали стены. Комната была угнетающе тёмной и тесной. Д-р Хевельман был секретарем местного научного общества. До недавнего времени он занимался изучением крошечного, но чудовищного на вид насекомого, обитавшего исключительно в определенного вида экскрементах, однако с тех пор, как рыбаки принесли весть о морском чудовище, эта история совершенно завладела его умом. Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, который был завален книгами, картами и схемами, и надеялся, что все это сделает свое дело и сократит визит Тедфорда, что самого Тедфорда никак не устраивало, зато хозяин пребывал в крайнем раздражении. Во время разговора он жевал конец какого-то предмета – как он уверил Тедфорда, это был корешок, полезный для зубов. Он носил маленькие солнцезащитные очки в роговой оправе и скрупулезно заостренную бородку.
Ему не нужна была никакая помощь, и он вполне был доволен тем, что его считают сумасшедшим. Коллеги только укрепляли его в подозрениях, что одной из удивительнейших вещей в природе является то сопротивление, которое типичный человеческий мозг оказывает внедрению в него новых знаний. Когда дело доходило до идей, его соратники упрямо держались своих проторенных дорожек, пока их не сгоняли оттуда силой. Что же, прекрасно. Это изгнание должно было произойти в самое ближайшее время.
Располагал ли он информацией помимо той, что была в газетах? Тедфорд хотел знать.
Уже и та информация должна бы удовлетворить его, парировал Хевельман; его интервью, как минимум, служили удовлетворительным доказательством, что, если кто-то верил в существование чудовища, он делал это в хорошей компании. Впрочем, он действительно знал кое-что еще. Поначалу он отказывался отвечать на вопросы и говорить что-либо на эту тему. Насекомое, которое он изучал, не было, по-видимому, поедаемо птицами из-за потрясающе зловонных, неприятных на вкус выделений, запах которых начинал все сильнее исходить от одежды доктора, по мере того, как Тедфорд сидел в этой душной маленькой комнате.
Однако чем дольше сидел Тедфорд, мягко отказываясь уходить, тем больше информации сообщал легко возбудимый бельгиец. Он рассказал о своем ассистенте-хирурге, который подружился с аборигенами, жившими возле Кауард-Спрингз и Боупичи, и те сообщили ему о каких-то потайных островах на юго-востоке, одержимых духом глубин – чем-то ужасным, чем-то злым, чего следует избегать. И еще у них есть специально слово, обозначающее «акулу, пожирающую море». Он показал кусок грифельной доски, какие обычно имели при себе рыбаки, – с судна, которое, по его словам, бесследно пропало; на ней было написано: «Пожалуйста, помогите нам. Найдите нас прежде, чем мы умрем».
Наконец, когда ему показалось, что Тедфорд недостаточно впечатлен, он с торжественным видом полез в запертый шкаф и извлек оттуда зуб – белый – такой же, как тот, что показывали Тедфорду. По его словам, уорнамбулские рыбаки вытащили его из обрывков своих сетей.
«Более того, он нашел те самые рыбопромысловые участки, – сообщил доктор, ковыряя корешком в задних коренных зубах. – А вместе с ними и острова».
Тедфорду не удалось скрыть, как он потрясен и возбужден.
Все это заняло несколько недель, продолжал Хевельман. Но в целом он был вполне доволен своими успехами и изобретательностью. Он собирался отправиться на место в ближайшие дни, чтобы положительно идентифицировать тварь, а то и поймать ее. Мог бы Тедфорд сопровождать его? Ни в коем случае.
После того, как оба они успели осознать жестокость его отказа, Хевельман задумчиво отметил, что существо, о котором шла речь, было бы только вторым по величине хищником после кашалота, какого когда-либо порождала эта планета. Затем он погрузился в молчание с видом человека, вглядывающегося в открытый космос.
Когда Тедфорд наконец спросил, какое оружие он собирается взять с собой, мужчина процитировал Книгу Иова: «Железо он считает за солому, медь – за гнилое дерево». Когда же гость уточнил: «Следует ли понимать это так, что Вы собираетесь отправляться туда безоружным?» – Хевельман только весело сказал: «Он кипятит пучину, как котел».
Тедфорд попрощался с ним, намереваясь прийти на следующий день, и на следующий, и на следующий, однако вернулся наутро, лишь чтобы обнаружить, что Хевельман уже уехал, как выразилась его экономка, «в морское путешествие». Он так и не вернулся.
В конце концов, Тедфорд попросил экономку оповестить его, если будут какие-то новости, и две недели спустя эта любезная женщина написала ему, чтобы сообщить, что часть кормы корабля «Тонни», нанятого ее хозяином, вынесло на побережье Тасмании.
Он уговорил экономку предоставить ему доступ в лабораторию, под предлогом, что он мог бы помочь раскрыть тайну исчезновения несчастного доктора, перерыл все помещение и обнаружил там заметки доктора, копию драгоценной карты – все. На одном из трех островов должен был находиться секретный проход, потайной вход в нечто вроде лагуны, обычно полностью окруженной скалами и льдом. Ему нужно было искать бледно-голубой лед на уровне воды, под куполообразным навесом, подгрести к этому месту и пробить себе путь через то, что он там увидит. Это будет его личная дверь в неизведанное.
Дошло уже до того, что друзья стали замечать неудовлетворенность, сквозившую практически во всяком его высказывании, и он начал открыто говорить о том, что окружающий мир угнетает его. Все было загнано в жесткие рамки; все было разложено по ящичкам и сорганизовано. И что такое вообще зоология – или палеонтология – как не навязчивая перестановка ящичков? Найти то, чего, по мнению науки, не существует – вот это был бы подлинный вклад.
Ему хотелось верить, что он принадлежал к числу людей, смотрящих на мир непредубежденно и разумно судящих о нем. В письмах к тем немногим нетребовательным корреспондентам, что все еще поддерживали с ним связь, он называл себя просителем перед лицом тайн Природы.
Он все чаще ощущал желание, чтобы его единственная движущая сила наконец оставила его в покое. Проходя мимо зеркала, он замечал, что у него вид человека, на чью долю уже выпадали несчастья и, несомненно, выпадут еще.
Он не был особенно робким. Когда к нему обращались, он всегда реагировал. Однажды он сделал женщине предложение, но она буквально отшатнулась от него и ответила, что их дружба столь мила и приятна, что было бы жаль ее портить.
Его первым воспоминанием было, как он бил ложкой по каминной полке. На вопрос отца, чем он занимается, он сказал: «Я играю прелестную музыку».
Его мать, чья семья сколотила состояние на кораблестроении, была склонна к замечаниям типа: «Стоимость моих изумрудов за все эти годы только выросла».
Мальчиком, он замечал, что его голова полна картин, которых больше никто не видел. Как будто самый воздух был густо заполнен удивительными мыслями и идеями. Он вырос в поместье, расположенном далеко за пределами их маленького городка, со своим братом Фредди – ближайшим и единственным другом. Фредди был его старше на два года. Они ставили ловушки на бандикутов и потору в подлеске эвкалиптовых насаждений, и Фредди учил его, как не быть укушенным бородатыми ящерицами и чешуеногами. Они всюду катали друг друга на руле их общего велосипеда и вместе выполняли обязанности по дому. В глазах родителей они не могли различаться больше: высокий белокурый Фредди, который в четырнадцать лет заявил, что его призвание – проповедовать заблудшим душам где-нибудь в глубинке, как только он достигнет совершеннолетия; и тщедушный Рой со спутанной копной каштановых волос, которые ему никогда не удавалось привести в порядок, и склонностью разбивать банки с домашними заготовками или вином просто от нечего делать. Фредди помогал в местной больнице, в то время как Рой собирал мерзкие старые кости и раскладывал их по всему дому. В сущности, единственное, что не удалось Фредди, – перевоспитать своего брата.
Но однажды, накануне четырнадцатого дня рождения Роя, все рухнуло, когда Фредди, отправившись по поручению на лесопильню, каким-то образом попал под циркулярную пилу, и его рассекло от груди до бедра. Он прожил еще два дня. Брат дважды приходил к нему в больницу, и оба раза Фредди отказывался видеться с ним. Прямо перед тем, как умереть, в присутствии Роя, он спросил мать, слышит ли она пение ангелов. Она снова принялась рыдать и сказала, что не слышит. «Какой прекрасный город», – ответил он. И умер.








